Текст книги "Силуэты минувшего"
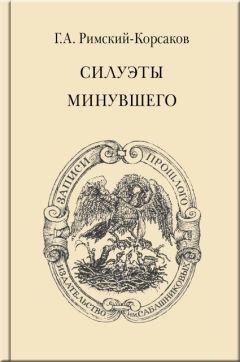
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Общество за скромным петербургским завтраком с бутылкой красного вина – отборное, коллеги по службе: П.А. Неклюдов, барон Марсель Гротгус, барон Врангель, С.А. Андреев. Дама только одна – миссис Пренс, рыжеватая американка средних лет, очень обаятельная, острого ума, большой знаток искусства. Здесь, в Петербурге, она живет на содержании Лелянова, сына городского головы, очень состоятельного человека. Лелянов был меховщик, и богатая черно-бурая лиса на плечах миссис Пренс хорошо рекламировала его фирму.
П. Неклюдов – брат моего товарища-правоведа, сын нашего посланника в Болгарии, потом в Швеции (умер в 1918 году от «испанки»). Гротгус – брат Гастона, бывшего правоведа, кавалергарда, женатого на сестре Неклюдова. Если во время завтрака каждый из гостей заявлял о своем присутствии произнесением каких-либо фраз о балете, о выставке картин, о посещении Александровского рынка в поисках каких-либо антикварных раритетов, то один только Врангель не произносил ни слова. Я несколько раз завтракал у Полякова и никогда не слышал голоса Врангеля. Зато он внимательно слушал и сосредоточенно ел. Слушал он так, что у него только нос реагировал на разговор, как нос талантливого артиста Подгорного, игравшего «полицию» в «Дочери мадам Анго» в МХАТе.
Обязанности хозяйки исполняла миссис Пренс. Она вела разговор с уменьем подлинной светской дамы. Говорила по-французски она безупречно. Тон завтрака был очень строгий. Юмор допускался только изысканный.
О политике не говорили и как будто даже и не думали. Миссис Пренс как-то сказала Полякову, что она любит его завтраки, так как за ней никто не ухаживает. Теперь, по прошествии многих лет, я думаю, что она их любила не только за эту чопорную сдержанность и архикорректность мужчин. Все-таки завтраки у Полякова давали ей возможность что-то узнавать и о делах русского Министерства иностранных дел. На этих завтраках допускалось злословить и сплетничать о чиновниках министерства, иронизировать над бедными чиновниками обоих департаментов: дипломатические посты за границей замещались только служащими канцелярии министра. Особенно доставалось второму департаменту (Азиатскому), работники которого рассматривались, как представители низшей расы.
Г.А. фон Мекк, товарищ по выпуску из Правоведения Неклюдова и Гротгуса, стал служить во втором департаменте. С какой жалкой иронией говорили о нем его товарищи. А когда он женился на машинистке департамента Антоновой, дочери гвардейского полковника, то они заявили, что Мекк своей безумной женитьбой отрезал себе все пути в Европу. И действительно, только после февральской революции Мекк смог получить назначение в одну из скандинавских стран.
У Полякова я встретил как-то еще одну примечательную личность: М.Ф. Ликиардопуло. Это был молодой литератор, известный переводчик Оскара Уайльда. Обычно он жил в Москве. Слыл эстетом. Был любитель театра, и я постоянно встречал его в обществе балетных артисток. Стройный, элегантный брюнет, лицо худощавое, немного южного типа, он имел большой успех у женщин. Корректный, хорошо воспитанный, спокойный, неглупый он производил очень приятное впечатление. За завтраком говорили о балете. Венчали лаврами Павлову, Нижинского, Фокина. Я спросил Ликиардопуло, какого он мнения о Московском балете? Он считал, что под руководством Горского московский балет идет по интересному пути и что по своему составу много выше Петербургского. Из всех московских артисток он выделял Е.М. Адамович, которую, к сожалению, недостаточно ценят в Большом театре.
Я вполне согласился с Лики (как его интимно прозвали артисты Большого театра) и позволил себе заметить, что Адамович по своему внутреннему содержанию и артистической индивидуальности не подходит к Большому театру.
«И еще меньше к Мариинскому», – сказал Лики.
«В таком случае ей, как Комиссаржевской, надо играть в своем театре», – заметил Поляков, что было абсолютно правильно.
Мне было очень приятно, что Лики на этом изысканном ультра-петербургском завтраке смело заявил о достоинствах московского балетного искусства и дал высокую оценку дарованию Елены Михайловны Адамович, к которой я чувствовал большую и нежную симпатию с первых же дней моего появления в зрительном зале Большого театра. Больше я Ликиардопуло не встречал. Я узнал, что во время войны 1914 года он уехал корреспондентом в Швецию. А после революции стало известно, что этот милый Лики поддерживал дружеские связи не только с балетом Большого театра, но и с английской «Интеллидженс Сервис».
Те, кто прочитает эти страницы моих «записок», наверно подумает, что шпионов в России было больше, чем достаточно. Это не совсем так. Их было много меньше, чем в послереволюционные годы. Доказательством может служить тот факт, что известность получил тогда только один случай шпионажа: а именно «дело Мясоедова». Между тем, как в наши дни несколько раз в год мы читаем в газетах о разоблачении разных шпионских афер. Конечно, тогда нерадивость, беспечность и тупость чиновничьего аппарата России давала возможность более скрыто и более удачно вести шпионам их разведывательную работу. Однако, по-видимому, военная контрразведка у нас все же работала неплохо. Теперь хорошо известно, что русский Генеральный штаб имел в 1914 году два мобилизационных плана: один для шпионов, а другой для исполнения. Первый хранился в сейфе военного министерства. Нашей контрразведке было известно, что штабные писаря легко проникают в этот запечатанный сейф и продают иностранным разведкам находящиеся в нем документы (в копиях). Ложный мобилизационный план, находящийся в сейфе, предусматривал проведение мобилизации русской армии в двухнедельный срок, между тем, как действительный план позволил провести мобилизацию в течение всего пяти дней, что явилось неприятной неожиданностью для немцев.
Но бывали у нас, по-видимому, и неприятные промахи. Распоряжения штаба 1-й армии, которые передавались по беспроволочному телеграфу «искровой роты», становились известными германскому командованию до тех пор, пока не догадались сменить шифровальный код…
На Масленицу 1914 года я ездил в Москву повидать мать, которая жила тогда у своего брата, Н.К. фон Мекк, в их доме на Пречистенке. Тетушка, Анна Львовна, при виде меня вдруг расчувствовалась и сказала мне, что из любви к моей матери, у которой столько волнений и забот из-за своих непутевых сыновей (то есть из-за меня), она хочет меня женить, и спросила, как я к этому отношусь? Такой вопрос застал меня врасплох. Я сознался, что еще никогда не думал о женитьбе. Тем не менее, если вопрос идет, чтобы доставить удовольствие моей маме, то я принципиально не могу возражать против женитьбы. Все же мне было интересно, кого тетка намечала мне в жены? В глубине души я боялся, что тетка предложит мне Лёлю, свою приемную дочь, очень милую девушку, к которой я относился сердечно, по-родственному, но конечно не мыслил ее, как свою жену. По некоторым намекам моей матери я знал, что в родительском «парламенте» этот вопрос уже обсуждался. Я слышал, как моя мать говорила кому-то, что за Лёлей дают 200 тысяч приданого. Но вопрос о приданом не имел для меня никакого значения, хотя материальные дела моей матери были в очень печальном состоянии. Тетка спросила, нет ли у меня самого кого-нибудь на примете? Я чистосердечно признался, что никого. Тогда тетка сказала, что она хочет мне предложить девушку из очень богатой княжеской семьи, единственную дочь, отец которой занимает пост директора одной из частных железных дорог.
«Раз ты приехал всего на три дня, я ничего не успею сделать. Но ты еще приезжай обязательно, на Пасху, и я устрою смотрины». Я обещал приехать. То, что у меня в это время в далекой деревне рос сын трех лет, по тогдашним понятиям не могло служить помехой к вступлению в брак.
На Пасху, как я обещал тете, я приехал к ним в Москву. Мы очень весело, шумно и сумбурно провели Святую неделю. Тетушка ни слова не говорила со мной о женитьбе. Я не считал возможным напоминать ей об этом. Наконец, я решил ехать к матери в деревню и пришел к тете сказать ей об этом. Она всплеснула руками и заохала:
«Ах, что же это я совсем забыла о том деле, о котором мы с тобой говорили. Совсем из головы вон! Впрочем, они ведь еще перед Пасхой уехали в Италию!»…
Моя мама узнав, что тетушка ничего не сделала из того, что они с ней наметили в отношении меня, заметила вздохнув:
«Ах, эта милая Анна… Грандиозные проекты в голове и сумбур и чепуха в жизни».
Как-то мама предложила, пока дороги не испортились, поехать навестить старую Веру Федоровну Голицыну, мать моего бывшего отчима. Она жила в 15 верстах от Волочанова – в селе Плоское, бывшем родовом поместье Голициных.
Семья была большая. Масса детей-подростков. Времена были тяжелые. Вера Федоровна была «лишняя» в доме. Рассказывали, что когда она болела, то к ней днями никто не заходил, и когда как-то кто-то зашел, то Вера Федоровна лежала на полу мертвой. Впрочем, она всегда чувствовала себя у родных детей лишней, имея с ними очень мало общих интересов. Еще как-то ближе она была к семье сына, Льва Михайловича Голицына. Он был с большими странностями. Служил смолоду в Петербургском уланском полку. Потом нелепо женился. Поселился в деревне, и удивительно быстро омужичился, настолько, что ничего княжеского и офицерского не осталось. В 1920-х годах он поехал с сыном Славочкой за хлебом на Кавказ, и оба были там расстреляны. Кем? За что? Неизвестно. И совсем холодные отношения были с сыном, Дмитрием Михайловичем, и особенно с дочерью Верой, которая не раз была замужем и жила где-то на Дальнем Востоке;
Зато хорошие отношения были у Веры Федоровны с племянницами-артистками: Екатериной Васильевной Гельцер и Любовью Васильевной Москвиной. Кажется, еще другая племянница, Ермакова, была замужем за известным химиком, профессором Ипатьевым.
Интересно заметить, что мой отчим, Дмитрий Михайлович Голицын, любил повторять, что все гадалки предсказали ему, что он умрет в возрасте 45 лет. Это предсказание сбылось совершенно точно. Ему было 45 лет, когда он приехал с Украины по делам в Москву, остановился в Лоскутной гостинице в Охотном ряду и умер от паралича сердца, разговаривая с официантом за утренним завтраком.
Д.М. Голицын происходил из той ветви Голицыных, к которой принадлежал известный просвещенный деятель XVII века В.В. Голицын, друг сердца царевны Софьи. Из этой же ветви один из Голицыных строил великолепную подмосковную усадьбу Архангельское, но не выдержал громадных расходов и продал ее Юсупову, а сам поселился по соседству, в Никольском-Урюпине. Это был дед отчима. О нем и о его семье пишет в своих «записках» историк С.М. Соловьев. Он в 1850-х годах жил в этой семье в качестве учителя.
В.Ф. Голицына жила в это время не в господской усадьбе, а на «Поповке», в поселке рядом с церковью, которая являлась продолжением села Плоское. От усадьбы ее покойного мужа и сына почти ничего в это время уже не сохранилось. Усадьба «Плоское» в 1914 году занимала всего 17 десятин. Стоял, правда, старый двухэтажный деревянный дом, сложенный сто лет назад из толстенных бревен, очень неуклюжий, неуютный и неудобный, похожий на ящик. В нем не осталось никакой обстановки. Кругом стояли руины сараев, конюшен, курятников. Росли густые заросли крапивы и всякого сорняка. Парка фактически там не было. Все строения располагались в березовом лесу, мало опрятном, в вершинах которого гнездились тучи грачей.
Вся усадьба, несмотря на свой почтенный возраст, на редкость мало подходила к нашему представлению о «дворянском гнезде». Между тем, в ней еще сохранились кое-какие атрибуты такого гнезда, дожившие до самых последних дней старого мира. Так, в глубине «парка» стояли три мрачных деревянных флигеля-дачи, в которых проживали свой век всеми забытые и покинутые три старухи, бывшие дворовые Голицыных, из которых одна в свое время была «барская барыня» одного из хозяев усадьбы. Самой молодой из них в мое время было больше 80 лет, и они уже не были девчонками, когда пало крепостное право.
Другим памятником Плоского была псарня, вернее, руины псарни. Мой отчим был страстный любитель псовой охоты. Имел много первоклассных борзых и гончих. Он мог выставить осенью «в поле» до 20 борзых, то есть 5-6 смычков высокого класса. Отчим считал, что его борзые по качеству породы занимают третье место в России. Первое место он отводил собакам великого князя Николая Николаевича, второе – охоте светлейшего князя генерал-адъютанта Голицына. Действительно, собаки Д.М. Голицына брали много призов и медалей на собачьих выставках и охотничьих состязаниях. Он по-настоящему знал собак и псовую охоту.
В 1905 или 1906 году его собаки принимали участие в спортивных состязаниях, организованных великим князем Николаем Николаевичем для узкого круга любителей в его усадьбе Першино, Тульской губернии. Собаки отчима там побивали не раз собак великого князя, и тот довольно открыто выражал свою досаду и неудовольствие.
Куда девались все собаки Д.М. Голицына после его кончины в 1912 году, я не знаю, так как в это время он с нами уже не жил. Он продал всю свою землю в Плоском, свыше 2 тысячи десятин, кроме усадьбы, и купил себе имение где-то на Украине, куда и переехал жить.
Вера Федоровна, его мать, жила тогда совсем одна. Дом (комната и кухня) и весь уклад жизни ее напоминал скорее дом старой попадьи, чем помещицы. В ее несложном хозяйстве ей помогала молодая девушка, из местных крестьянок. Эта девица произвела на меня впечатление особого рода. Она держава себя с В.Ф. и с нами совсем не так, как это было принято у прислуги в отношении к «господам». Она совсем не ощущала социального неравенства. Никакого стеснения, робости от присутствия «высоких особ» она не испытывала. Никакого подобострастия не выказывала. Говорила громко, вмешивалась в разговор, называла меня «молодой человек» и достаточно откровенно хотела дать мне почувствовать, что она не прочь начать со мной словесную дуэль, чтобы затем перейти на что-то большее. Она явно считала себя вполне равной нам. В предреволюционные годы я впервые встретился с таким, казалось бы, вполне естественным явлением. Это нормальное чувство равенства происходило у этой девушки, как я думаю, от отсутствия у нее представления, что такое «барин», «господин», «помещик», «начальник». Вокруг Плоского тогда уже никаких помещиков не осталось, и крестьянская молодежь росла без ложной робости и почтительного страха к бывшим хозяевам земли русской.
Это был последний раз, что я видел Веру Федоровну. Ей было тогда уже около 70 лет. Она была довольно бодра и как всегда шумлива, экзальтированна и криклива, как это полагается бывшей балетной артистке. Говорила она нараспев, по-московски, низким контральто. Много курила. Носила короткие волосы по-мужски и очки. Зимой – валенки, папаха и полушубок. Летом – сапоги. Так что ее свободно можно было принять за мужчину. Девичья фамилия ее была – Гельцер. Кажется, ее отец был известный в Москве в начале 19 века перчаточник. В.Ф. приходилась родной теткой известной Московской балерине. В шестидесятых годах отец моего отчима, Михаил Михайлович Голицын, женился на Вере Федоровне без разрешения, за что уехал служить на Кавказ. Хранитель музея Большого театра С.А. Халатов говорил мне, что он нашел в архиве театра папку с «делом» о похищении штаб-ротмистром М.М. Голицыным кордебалетной артистки императорского московского балета В.Ф. Гельцер. Совершено правильно отметил В.А. Теляковский в своих мемуарах, что если петербургские нравы свободно допускали сожительство артисток балета без брака, то в Москве они были воспитаны в более строгих, патриархальных правилах, и «незаконные» связи являлись редким исключением.
В.Ф. по выпуску из театральной школы была подругой Н.А. Никулиной из Малого театра (по мужу Дмитриевой), с которой она сохраняла дружеские отношения, и, бывая в Москве, принимала участие в бесконечных партиях лото, которым Никулина увлекалась в преклонном возрасте. Жила Никулина в собственном особнячке в Кривоколенном переулке.
Вера Федоровна умерла в 20-х годах, проживая в семье своего покойного сына Льва Михайловича Голицына, женатого на местной крестьянке. Они еще довольно долго жили в собственной усадьбе, построенной Львом Михайловичем на своей земле, в открытом поле, в 4-х верстах от Плоского…
Стояла чудная ранняя весна. На солнце пригревало. Появились сосульки. Дороги почернели. Вокруг деревьев образовались проталины. Поехали в санях гусем. На пригорках снег уже стаял, но в лесу еще была зима. И вот вдруг немного в стороне от дороги мы заметили куст с распустившимися на нем небольшими лиловыми цветами, вроде колокольчиков. Контраст был замечательно эффектный. Кругом зима, а посредине леса расцвел букет цветов! Мы остановились и подошли по глубокому снегу к кусту. Это была самая обыкновенная лозина, которая обильно растет в подмосковных лесах. Но никто из нас, деревенских жителей, никогда не видел и не слыхал, чтобы эти кусты цвели, да еще такими красивыми яркими цветами. Мы стояли молча, удивленные и смущенные, созерцая необычное явление природы. Наконец, наш кучер Василий тряхнул по привычке головой, вздохнул и таинственно негромко проговорил:
«Такое чудо впервой вижу… ведь это не к добру. Это нам знаменье какое-то. Вот погодите, что-нибудь да будет нам нонче…».
Действительно это было знаменье, оно предвещало крушение старого мира. 19-го июля 1914 года началась война с Германией.
Глава III. Поход в Восточную Пруссию
19 июля 1914 года4646
По старому стилю (по новому 1 августа).
[Закрыть] Германия объявила России войну, а уже 21-го Гвардейская конная артиллерия со своей кавалерией быстро приближалась к границе Восточной Пруссии. 23 июля, на рассвете, наша Первая батарея разгружалась на станции Пильвишки, в 20-25 километрах от германской границы.
Несколько дней мы делали какие-то нам непонятные передвижения по местности, ночуя то на одном литовском хуторе, то на другом, наблюдая при этом, как наши передовые части обстреливают Эйдкунен, пограничный немецкий городок.
2-го августа наша батарея заняла боевую позицию в небольшой лощине рядом с помещичьей усадьбой и открыла огонь по легкой полевой немецкой батарее, которая прощупывала своими снарядами всю прилегающую местность. Но когда в результате досадной оплошности один наш снаряд преждевременно разорвался перед самой нашей позицией, этот разрыв был замечен немцами, и они дали несколько очередей по лощине, занятой нашей батареей. Один из немецких снарядов пробил зарядный ящик, разворотил несколько лежащих там снарядов, но не взорвался, а другой поранил несколько человек артиллерийской прислуги и поразил насмерть общего нашего любимца, добровольца Павлика Морозова, шофера одного из наших офицеров. Это первое появление смерти в наших рядах смутило солдат и тяжело подействовало на их настроение, особенно тех, кого наш вахмистр, подпрапорщик Бочкарев, уверял, что война – совсем то же, что и маневры. А наши офицеры, побывавшие на войне в Манчжурии, говорили нам, что по опыту той войны, после первого же боя нас должны теперь отвести в тыл и дать хорошо отдохнуть. Однако вечером, едва мы расположились на отдых на одном из соседних хуторов, нас подняла команда: «Седлай!» Это было так для нас неожиданно, что сначала мы подумали, что это чья-то неудачная шутка.
Мы вытянулись в батарейную колонну на шоссе и простояли там до рассвета, после чего двинулись на Запад мимо сильно разрушенных Вержболово и Эйдкунена, двух хорошо всем известных пограничных станций. Благодаря хорошо развитому в Германии дорожному строительству, наша кавалерия с конной артиллерией двигалась вперед тремя параллельными колоннами. Так началось наступление в Восточную Пруссию 1-й армии под командой Ренненкампфа.
Стояла знойная жара. Ветра не было. Лошади копытами поднимали ввысь громадное белое облако пыли, так что немцы по этим облакам могли хорошо следить за движением русской кавалерии. Для этой цели они также установили простейшую сигнализацию: как только головы наших колонн входили в какую-нибудь деревню, на другом ее конце сразу же загорался старый сарай или стог соломы. Наше начальство это видело, но никаких мер борьбы с этим злом не принимало.
В большинстве случаев население не покидало своих домов и никуда не бежало. Так было и в деревнях, и в больших городах, а мы уже прошли Гумбиннен и Инстербург. В нашем тылу могли оставаться в значительном числе и переодетые немецкие солдаты. Так оно и случилось. Мы вошли в большую деревню Краупишкен. По внешнему виду она ничем не отличалась от немецких небольших городков. Асфальтированные улицы, двухэтажные дома, магазины, а не деревенские лавки, чистота. Женщины и дети радушно встречали нас. У некоторых даже были цветы. Возможно, что это делалось из страха перед ордой «северных дикарей». Однако никаких грубых эксцессов, насилия и грабежей русские воинские части себе не позволяли, но широко пользовались имуществом бежавших немцев, и вполне можно сказать, что мы тогда питались за их счет. Очень много было оставлено населением всякой живности: коровы – породистые, черно-белые, свиньи, куры, гуси. Они бродили по полям в поисках корма и попадали в солдатские котелки. Наше ежедневное меню состояло из мясного борща – на завтрак, гуся или поросенка – на обед, и курицы – на ужин. Ничего нет удивительного, что те, кто вернулся из этого похода, значительно прибавили в весе, и даже я, вегетарианец, стал тяжелее на два кило.
В Краупишкене мы остановились в нашем стремительном движении вперед, и я с товарищем зашел в пивную выпить пива. Это было крайне рискованно. Настроенные очень миролюбиво, мы тогда не понимали, что нас там могли очень легко отравить. В довольно большом помещении за столиками сидели какие-то молодые люди, явно призывного возраста. Их было человек двадцать. Перед ними на столах не было ни кружек, ни бутылок. При нашем появлении они все сразу замолчали и стали наблюдать за нами, поглядывая совсем не дружелюбно. Я почувствовал, что здесь что-то не то и не так. Пива у хозяина не оказалось. Я спросил сыра. Сыр есть, но в подвале. Он открыл большой люк в полу и пригласил меня спуститься в погреб, чтобы выбрать сыр. Положение мое оказалось довольно сложным. Показать немцу, что я боюсь сойти с ним вниз, не позволяла честь русского солдата, а опасность была явная. Сидевшие за столиками молодые люди могли напасть на моего товарища и прикончить его, пока я доставал бы из кобуры наган, из которого тогда еще никто из нас не умел стрелять, а потом пристрелить и меня в подвале. Но немцы очень, как известно, дисциплинированы и исполнительны. Наверно на этот раз у них не было приказа убивать русских солдат поодиночке.
Я шепнул товарищу: «Посматривай», – и быстро последовал за хозяином в погреб. Там стояли громадные бочки и на полках лежали большие круги сыра. Я не считал нужным затягивать наш визит при данной обстановке. Отрезав сыра, мы поднялись наверх и, заплатив робко протестующему лавочнику за сыр серебряными рублями (по существовавшему тогда курсу: одна марка – 40 копеек), мы с товарищем не спеша, выдерживая характер, покинули пивную.
«Пронесло, слава тебе, Господи», – сказал товарищ, радостно вздохнув.
Я тотчас доложил своему командиру, полковнику Эристову, о подозрительном скоплении молодых немцев, но он сердито махнул рукой и сказал: «Глупости». Какие это были глупости, мы узнали немного позже. Спустя несколько дней, когда мы были уже далеко от Краупишкена, стало известно, что когда туда дошел пехотный обоз, то началась стрельба из окон и избиение пехотинцев. То же случилось и в другом месте с партией наших раненых, направляемых в тыл.
Продвигаясь еще дальше вглубь Германии, мы как-то пришли в богатое поместье Мюльхаузен4747
Возможно, ошибка в названии, т.к. Мюльхаузен находится на юго-западе от Кенигсберга, и в нем вряд ли могли быть наши войска. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть]. Оно принадлежало генерал-лейтенанту немецкой армии. Мы узнали, что перед нами, только что, Мюльхаузен покинула немецкая пехотная часть, и перед своим отступлением разграбила его полностью. Наше командование тотчас составило об этом акт на трех языках: немецком, русском и английском. Его дали подписать местным немцам и отправили в штаб верховного командования. Но немецкие солдаты не только ограбили своего генерала. Они загадили всю большую площадку-цветник перед его домом. По тому, как аккуратно и педантично это было выполнено, о случайном характере этой акции не могло быть и речи.
6-го августа, в праздник Преображения, рано утром полковник Эристов предупредил нас, что мы вошли в соприкосновение с неприятелем и наша батарея идет в авангарде, чтобы своим огнем помочь наступлению кавалерии. Обычно мы двигались шагом. На этот раз мы сразу перешли в крупную рысь и быстро подошли к большому открытому полю. Здесь был поворот дороги, и влево уходило длинное шоссе, обсаженное дубами.
Меня назначили командовать зарядными ящиками и коноводами. Однако они не пожелали слушать мою команду и, никого не спрашивая, поскакали к дальнему немецкому фольварку, расположенному в километре от позиций батареи. Тем временем наши открыли огонь. Немцы отвечали, по-видимому, вслепую, стреляя по квадратам, но нас не находили. Эта дуэль артиллерии продолжалась долго. Она закончилась только к вечеру.
Известно, что тыловые части больше подвержены страху, чем те, которые ведут бой. После того, как в укрывавший нас фольварк залетело несколько шрапнелей, мои «ящики» выразили желание податься еще дальше в тыл. Я протестовал. Однако, как только я отошел от них, два «ящика» удрали. Я помчался за ними и обнаружил их за одним из каменных сараев. Здесь же находились два солдата-кавалериста, которые с мрачным видом слушали, как ротмистр-кавалергард уговаривал их вернуться в строй. Он стыдил их и взывал к их солдатской чести. Они мрачно глядели в землю, опустив головы. Наконец, ротмистр им сказал:
«Что же, вы думаете, что мне не страшно? А вашим товарищам? Всем страшно, братцы, но никто же не бежит. Война, братцы. Ничего не поделаешь. Надо терпеть. Вот ведь артиллеристы не бежали», – и он лукаво поглядел на меня. – «А какой молодец Эристов! Как он громил немецкую пехоту! Они отступают по всей линии… А вас там нет. Не хорошо это. Ну, поехали».
Мои артиллеристы слушали офицера несколько смущенные, и когда я им сказал, что батарея требует снарядов, они быстрым аллюром последовали за мной. Оказалось, что я не ошибся. На батарее уже не было больше снарядов, и она ждала пополнения от нас. Конечно, мы не знали, по какой цели она стреляет, но мы заметили, что немцы замолчали. Вскоре замолчала и мы.
Вернувшись на батарею, я заметил взволнованные и растерянные лица офицеров. «Да, – подумал я. – Война – это совсем не то же, что стрельба холостыми на красносельских маневрах». А лица солдат были веселые и довольные: за весь день ни один немецкий снаряд даже близко не лег от них.
Тут я узнал, что гвардейская кавалерия при содействии артиллерии полностью разгромила немецкую пехоту, что огнем нашей батареи уничтожена немецкая батарея, что 3-й эскадрон Конного полка под командой барона Врангеля атаковал эту батарею и порубил оставшихся в живых немецких артиллеристов. Однако последним выстрелом немцы поранили несколько кавалеристов и убили нашего поручика Юрия Гершельмана, который присоединился к атаке добровольцем, из спортивного чувства. Врангель действовал по своей собственной инициативе. Он с эскадроном находился в охране нашей батареи. Когда Эристов стал поражать немецкую артиллерию, «неистовый барон» решил захватить их орудия и пошел в атаку. Эристов очень отрицательно отнесся к этой атаке. Он считал ее совсем ненужной с точки зрения военного дела, поскольку огонь нашей батареи уничтожил батарею неприятеля вместе с прислугой…
Меня послали с донесением в штаб командующего корпусом, продвинувшийся уже за линию боя. По дороге мне попадались тела убитых солдат. Они лежали почти все головой в сторону неприятеля, закинув руки вперед. Много было убитых лошадей с распухшими животами и задранными вверх ногами.
Мне встретился Андрей Шидловский, наш вольноопределяющийся, ординарец Эристова. Это был сын товарища председателя Государственной Думы С.И. Шидловского.
«Ну, что скажешь? – кричал он мне. – C`est une victoire. Une belle victoire!4848
Это победа. Блестящая победа! (фр.).
[Закрыть]». «А это что?» – спросил я его, указывая на тела убитых. «Mais c`est la gerre, mon amie».4949
Но это же война, мой друг (фр.).
[Закрыть] – «Нет, Андрей, это преступление», – ответил я. Шидловский пожал плечами и быстро отъехал. Он всегда куда-нибудь спешил, думая, что так полагается добросовестному ординарцу.
Наконец я нашел генерала Хана Нахичеванского, командира корпуса. Он стоял, окруженный многочисленной свитой, среди которой находились командиры полков. Рядом в фольварке помещался полевой госпиталь. Подносили убитых и раненых. Три солдата-конногвардейца несли офицера. Нахичеванский спросил: «Кого несете, братцы?» «Корнета Князева, ваше сиятельство», – ответил один из них. Тело Князева опустили на землю. Володя Князев был мой родственник. Перед войной, служа в Петербурге, он вел очень легкомысленный и непутевый образ жизни. Лицо его выражало удивление и страх. В глазах застыл ужас. Я закрыл его лицо платком и снял с пальца пажеское кольцо. «Зачем вы сняли кольцо?» – спросил начальник штаба полковник Чеснаков. «Вы отошлете кольцо родителям, все-таки он единственный их сын». Чеснаков молча взял кольцо.
Еще несли офицера. Опять вопрос: «Кого несете?» «Корнета Арапова, ваше сиятельство». Все повернули головы к командиру «синих» кирасир, генералу Арапову. Он снял фуражку и перекрестился. Нахичеванский, среди наступившего гнетущего молчания, подошел к нему и пожал его руку.
Немного в стороне от штабных ходил совсем юный офицерик-гусар. Он размахивал стеком, как бы дирижируя. Иногда сбивал головки высокой травы и, казалось, что-то шептал про себя или декламировал. Он совсем не обращал внимания на происходившее рядом. Нахичеванский повысил голос и, повернувшись к этому офицеру, сказал: «А это мы поручим князю Олегу. Ваше высочество…» Тот, услышав свое имя, как бы вдруг пришел в себя, подошел и взглянул на командира отсутствующими глазами. Тот что-то сказал ему. Олег козырнул и отошел к вестовым, держащим лошадей. Бедный князь Олег вскоре погиб совсем нелепой смертью. Ночью в расположении гусарского полка случился переполох. Началась беспорядочная стрельба и Олег погиб от своей же пули. Это был сын великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. Говорили, что Олег был тоже поэт. Юноша немного экзальтированный, и как бы не от мира сего.
А убитых все несли и несли…
В этом бою у немецкой деревни Каушен наша кавалерия понесла тяжелые потери. Особенно пострадали Конный полк и кавалергарды. Кавалеристы пошли на немецкую пехотную бригаду с артиллерией в пешем строю, к чему они совсем не были подготовлены. Никто не умел хорошо приноравливаться к местности, действовать перебежками, тем более окапываться. В кавалерийских частях было ничтожное число пулеметов: четыре на полк. Не было еще опыта их использования. Особенно большие потери были среди офицеров, которые не считали для себя удобным, перед своими солдатами, ложиться на землю под огнем неприятеля, и шли во весь рост, поражаемые немецкими пулями. В Конном полку из 21 офицера осталось в строю только девять. Были убиты: Миша Бобриков, Владимир Князев, два брата Катковы – корнет и вольноопределяющийся, ротмистр Суровцев, поручик Зиновьев, братья Курчаниновы… В Кавалергардском полку – поручик князь Кильдишев, корнеты Карцев, Воеводский и барон Пиллар, вольноопределяющийся граф Шувалов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































