Текст книги "Силуэты минувшего"
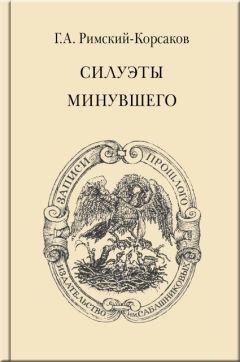
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
И вот, наконец, дошла очередь писать и про нашего вахмистра, подпрапорщика Бочкарева. Он по своему служебному значению стоял сразу же после командира батареи. Это был бравый красавец, высокого, кавалергардского роста, с моложавым лицом, с изысканными манерами и обаятельной улыбкой для нас и тяжелым кулаком для солдата. Мягкий приятный баритон вполне соответствовал его декоративной гвардейской внешности. Попал Бочкарев к нам в батарею за год до начала моей службы. До того он служил в Варшаве, в 3-й гвардейской конной батарее. Поэтому первое, что он меня спросил при нашем знакомстве, не брат ли я гродненского гусара, и на мой утвердительный ответ сделал приятное и несколько лукавое понимающее лицо. Действительно, там, в Варшаве, наши артиллеристы жили в большой дружбе с гусарами и уланами. Тем более, что помещались все в одном месте, в Лазенках. Артиллеристы приходили в собрание гусар и улан, как к себе домой. Офицеры-кавалеристы, конечно, все хорошо знали подпрапорщика Бочкарева, и при встречи с ним здоровались, как со своим подчиненным.
Назначен был Бочкарев к нам вахмистром в связи с увольнением в запас старого вахмистра Титова (подлинную фамилию его я забыл), прослужившего в 1-й батарее Его Величества более 25 лет. Столь долгий срок пребывания на сверхсрочной службе снискал ему широкую популярность и большое уважение у всех гвардейских начальников. Он служил вахмистром уже тогда, когда Николай II, будучи наследником, в начале 90-х годов командовал 1-й батареей, и был поэтому лично ему известен. Рассказывали, что он сумел так себя поставить, что его побаивались молодые офицеры, не говоря, конечно, о солдатах. Он, конечно, был полный и неограниченный владыка в своей батарее. На протяжении долгих лет он собирал обильную жатву с солдат и имел гарантированный гонорар и с командира, и с тех господ офицеров, которых он избавлял от неприятной и докучной обязанности вникать в строевую службу и учить солдат. Он был хороший и разумный хозяин, и батарейное хозяйство у него было поставлено прекрасно, что не могло не радовать командира батареи и требовало от него благодарности. Но и старший офицер батареи, который по военному уставу является хозяйственным руководителем батареи, мог спать вполне спокойно. Титов был женат, но свою «бабу» держал где-то в деревне, в Смоленской или Калужской губернии. По-видимому, он хорошо знал, как неприязненно относится начальство к женатым вахмистрам. Он довольно ловко приспособился обходиться без женской ласки. Как можно было понять из разговоров солдат, он действовал, как Фридрих II или как султан в гареме, который бросает платок той или другой одалиске, смотря по настроению. Надо думать, что это обстоятельство не могло не быть известно начальству, но, как показывали факты, оно предпочитало смотреть на шалости вахмистра сквозь пальцы, лишь бы удержать его на службе. Однако наступил день, когда этот почтенный служака решил, что все, что было доступно его мечтаниям на царской службе, он уже получил, и пора подумать об отдыхе. Это решение совпало, как говорили, с постройкой у него на родине еще одной паровой мельницы. Видно «баба» хозяйничала без него неплохо. Он попросил уволить его в запас. Командиры в один голос запротестовали и заявили, что и слушать не хотят об его уходе со службы. Тогда он обратился к различным старым генералам, некогда бывшими офицерами 1-й батареи, и просил похлопотать за него. Ему ответили, что никто не может себе представить 1-ю батарею без вахмистра Титова. Он предупредил начальство, что раз его не увольняют по хорошему, то придется уволить по дисциплинарному уставу. Он стал напиваться и безобразничать. Ему объявляли выговоры в приказе, но не увольняли. Он не являлся на службу. Никто этого не замечал. Тогда он решился на крайний шаг: поджег цейхгауз. Только тогда его уволили, без отдачи под суд. Проводы его, говорят, были очень торжественные. Он получил много ценных подарков от старых и новых офицеров. Он уже имел все медали, которые могли носить нижние чины армии.
Офицеры его не забывали, и в мое время говорили о нем с умилением и теплом.
Бочкарев, таким образом, получил довольно сложное наследство. Репутация лучшей батареи поддерживалась в значительной мере авторитетом вахмистра Титова. После него обнаружились разные недостатки. Многие офицеры привыкли не заниматься службой, а только присутствовать в батарее в положенные расписанием часы. Само собой, что был ликвидирован «институт одалисок», но его длительное существование принесло свои печальные плоды, о чем речь будет дальше.
Бочкарев в 1914 году ушел с батареей на фронт. Получил несколько георгиевских крестов и очень мечтал стать офицером. Убыль в офицерском составе в 1915 году помогла ему в этом. Он был произведен в прапорщики и получил назначение в какую-то армейскую артиллерийскую часть. Вспоминаю случай на фронте, в котором Бочкарев показал себя блестящим специалистом в области профессиональных военных обычаев. Осенью 1914 года наша батарея остановилась в городе Августове. Расположилась в казармах, покинутых в связи с войной местным пехотным полком. Мы с Бочкаревым заняли абсолютно пустую офицерскую квартиру и наслаждались тишиной и покоем после беспокойного марша по корням и пням августовских лесов. Как приятно было спать на полу, имея крышу над головой!
Как-то утром, когда мы попивали чаек, к нам вошел незнакомый пехотный полковник. Мы встали. Он подошел к нам и поздоровался с каждым из нас, вольноопределяющихся, за руку. Дойдя до Бочкарева, он протянул и ему руку, но Бочкарев, не подавая руки, представился ему: «Подпрапорщик Бочкарев». Полковник, не расслышав, спросил: «Что?» – и продолжал держать свою протянутую руку. Бочкарев еще раз громко и отчетливо доложил о себе. Тогда полковник, видимо сообразив в чем дело, отнял руку и несколько обиженно спросил, надолго ли мы заняли эту квартиру? После его ухода мы были смущены и взволнованы происшедшим случаем с рукой и стали выговаривать Бочкареву за то, что он не подал руки полковнику. Но Бочкарев уверял нас, что иначе он поступить не мог, что бывали случаи, когда офицеры, ошибаясь, здоровались с ним за руку, а потом, заметив ошибку, начинали всячески ругать за то, что не предупредил о своем солдатском звании. Нам показалось это чудовищным. Но, зная армейские обычаи, мы допускали любое проявления хамства со стороны господ офицеров. Мы допускали, что в официальной обстановке офицер не подавал руку солдату, но на фронте, в домашних условиях, в которых находились мы в данном случае, это проявление офицерской, сословной спеси нам было омерзительно. Стыдно, неловко было смотреть Бочкареву в глаза. Стыдно за своего товарища, стыдно за человеческое достоинство. Дискриминация, каста неприкасаемых!..
Из примечательных событий лагерного сбора надо упомянуть стрельбу батареи на военном поле, а потом на море в районе Ораниенбаума. Этих стрельб было очень мало. Всего два раза на военном поле. При однообразии лагерной жизни стрельба явилась все же развлечением и для офицеров, и для солдат. Я был назначен состоять ординарцем при командире батареи. Поэтому я находился на наблюдательном пункте, невысоком насыпном кургане, расположенном в километре от орудий. Сюда явилось разнообразное начальство. Один старый генерал, в очках и больших калошах, несмотря на жаркий июльский день, был в пальто с петлицами 1-й гвардейской артиллерийской бригады. Вид у него был профессорский, внешним видом он напоминал участников войны с Турцией 1877 года. Не спеша и очень обстоятельно, он стал меня спрашивать, откуда я и кто. Узнав мою фамилию, он спросил, не родня ли я Сергею Александровичу, и обрадовался, что я его племянник. «Передайте ему привет от старого товарища», – попросил он. Это оказался Потоцкий, инспектор артиллерии гвардейского корпуса, известный библиофил. Старик страдал от жары и хотел пить. Он обратился ко мне с просьбою достать ему где-нибудь воды. Просьбу Потоцкого о воде я передал адъютанту Саблину, который шепнул что-то Орановскому, и почти тотчас на наблюдательном пункте появился «шакал», как называли тогда разносчиков-маркитантов, таскающих за воинскими частями корзины с холодной закуской и выпивкой для услаждения господ офицеров. У «шакала» нашлась бутылка теплого нарзана, которую Потоцкий выпил с удовольствием и очень благодарил меня. Мне подумалось тогда, что, наверное, вечером за чаем он будет рассказывать жене об этом чрезвычайном происшествии. И еще подумалось, как удобно и приятно воевали во времена Тюреня или Морица Саксонского, когда армию сопровождали не алчные шакалы, а хорошенькие маркитантки.
Стрельбу (несколько очередей) вел сначала Эристов, потом Огарев. Считалось необходимым, чтобы все офицеры батареи в течение лагерного сбора провели стрельбу. Но снарядов было мало. Их экономили. Младший офицер мог быть доволен, если ему удавалось выпустить две батарейные очереди в год.
Эристов был самым выдающимся военным, специалистом-артиллеристом. Для него война была целью жизни, содержанием его военной службы. Это был артиллерист не только «Божьей милостью», но и замечательно образованный офицер, блестяще окончивший Военно-артиллерийскую академию. Между тем, по службе Эристов был самый неприятный, мелочный, беспокойный, порой грубый и бестактный, даже неумный начальник. От него страдали не только мы, вольноопределяющиеся, но и офицеры. Внешность у него была не очень внушительная: небольшого роста, брюнет на кривых ножках, с подстриженными усами по-английски, в пенсне и с выпученной нижней губой – признак стремления властвовать. Исключительно в силу отрицательных качеств Эристова я не остался служить в конной артиллерии. Оставаться в батарее вместе с Эристовым было невозможно. Эристов был грузин по национальности. Мать армянка, Сараджиева, из семьи богатых виноторговцев. Говорил Эристов с сильным кавказским акцентом и был крайне несдержан и горяч. Правда, он также быстро остывал, как и воспламенялся, но от этого не было легче. В минуту раздражения он терял, казалось, всякий контроль над собой и готов был, если не убить, то, во всяком случае, вцепиться в горло. Сердясь, он топал ногами, размахивал кулаками и неистово кричал всякие поносные слова. От него ежеминутно можно было ожидать какой-нибудь дерзости, которую никто из нас не мог бы допустить. Вольноопределяющиеся, находясь на фронте, не раз обсуждали вопрос, как придется им поступить в случае, если Эристов, неистовствуя, позволит себе задеть их честь и то, что называется, достоинство «порядочных людей»? Дуэль между нижними чинами и офицерами не допускалась. Во время войны дуэли вовсе запрещались и карались как уголовное преступление на территории военных действий. Поэтому для нас, вольноопределяющихся, требовать от Эристова удовлетворения обычным путем было невозможно. С другой стороны, недопустимо было и простить Эристову оскорбление. Применение оружия в защиту своей чести против своего командира во фронтовой обстановке, без дуэли, неизбежно влекло бы предание военно-полевому суду со всеми вытекающими печальными последствиями. Не желая подвергать себя риску подобной невеселой перспективы, мы решили при первом же благоприятном случае просить откомандировать нас в другую часть.
Позднее я понял, что Эристов отлично знал предел допустимого в своем неистовстве, и когда надо, отлично умел владеть собой. Вся его бесня происходила от распущенности и чувства безответственности. Кроме того, бывая в семье Панчулидзевых, где постоянно находилось много кавказцев, я убедился, что крик, спор, шум, хватанье за кинжалы, является непременной принадлежностью всякого собрания уроженцев «пламенной Колхиды».
В японскую войну Эрнстов получил несколько боевых наград. Он был, безусловно, храбрый человек, что не мешало ему быть самодуром. Впрочем, его упрямство разлеталось в прах при соприкосновении с желанием его жены, которую он действительно обожал.
В 1914 году он сделал с батареей поход в Восточную Пруссию и сразу же получил очень почетное назначение. Он был произведен в генералы и назначен командиром Кавалергардского полка. Случай беспрецедентный. Назначение состоялось по желанию офицеров этого полка. Впрочем, об этом я надеюсь ещё поговорить дальше.
И как военный, и как начальник, и как артиллерист, Кутайсов, командир 4-й батареи, являлся полной противоположностью Эристова. Про них говорили, что у них общего только то, что они живут на одной лестнице в казенном доме артиллерийского ведомства на Литейном проспекте. Кутайсов был добрейший и милейший человек, удивительно мягкий и гуманный. Он был потомок известного героя 1812 года, начальника русской артиллерии, убитого при Бородине. Однако внук артиллериста-героя совсем не интересовался артиллерийским делом. Вообще, он мало чем интересовался, кроме беззаботного и веселого «гулянья» по жизни. От своих предков Кутайсов унаследовал громадную библиотеку, которая занимала всю его казенную офицерскую квартиру. Владелец этой библиотеки хвастался, что он не прочитал ни одной из своих книг. Зато не было в Петербурге какого-нибудь увеселительного заведения, где его не встречали бы как близкого друга и дорогого гостя.
Рассказывали, что как-то Кутайсов «гулял» в кабаре на Крестовском острове. Под утро он решил ехать в «Золотые львы», лупанарий на Лиговке, считавшийся самым шикарным в столице. Чтобы не скучать такой длинный путь (не менее 7 километров), граф придумал взять с собой оркестр из кабаре, который он рассадил по одному музыканту на каждого извозчика. Оркестр должен был играть его любимые эстрадные номера (классическую музыку Кутайсов слушать не любил). Кутайсов ехал впереди колонны музыкантов и дирижировал. Само собой, что извозчики ехали с разной скоростью, и колонна растянулась более чем на версту. Говорят, что это зрелище было изумительное. Были музыканты, которые очень добросовестно исполняли свои партии, останавливались, где положено по партитуре. Кутайсов был очень доволен и говорил, что если на редких удивленных прохожих и городовых эта музыка и не могла произвести достаточно стройного впечатления, то вот, если бы они могли подняться в воздух, то на некотором расстоянии от земли все звуки оркестра должны были бы слиться в единую стройную мелодию и гармонию. В «Золотых Львах» обрадованная хозяйка встречала Кутайсова радостным восклицанием, прижимая руки к груди: «Herr graf ist gekommen!3636
Господин граф приехал! (нем.).
[Закрыть]»
Надо заметить, что Кутайсов никогда не позволял себе каких-нибудь бесчинств и безобразий, и платил за все щедро, конечно, не считая. И вот этот добродушный, веселый и, казалось, такой пустой гуляка, когда мы очутились в Восточной Пруссии, очень глубоко ощутил трагизм войны. Немногие и короткие встречи с Кутайсовым на фронте убедили меня, что это был человек большого сердца и большой души.
Наша дивизия вошла во Фридлянд в сумерки. Боя не было. Немцы куда-то скрылись. Город был совершенно безлюдным. Все заперто: двери, окна, магазины. Все окна закрыты ставнями. Ни собак, ни кошек, ни птиц. Полная абсолютная тишина. Городок затих и притаился. Все мы как-то тоже притихли и приуныли. Только оглушительно громыхали по булыжной мостовой наши пушки и зарядные ящики. И этот грохот был приятен. Хотелось ещё каких-нибудь живых, людских знакомых звуков. Узкие улочки старинного городка едва пропускали наши орудийные запряжки. Если бы окна вдруг открылись и… нам деваться было бы некуда. Рядом со мной стремя в стремя оказался Кутайсов. Мне захотелось с ним поговорить.
«Страшно, ваше сиятельство», – начал я.
«Да, ужасно страшно. За каждой ставней притаились живые ни в чем не повинные люди и дрожат от страха. Ждут, что мы будем их убивать, грабить, жечь, а мы дрожим, как бы не начали из окон строчить пулеметы. Сто лет назад город занимали французы. Потом мы, и тогда жители дрожали. За что? Кому это нужно? Вам не нужно и мне тоже не нужно. Я об этом все время думаю. Война – какой-то чудовищный, противоестественный абсурд. Я должен убивать этих паршивых немцев, иначе они убьют меня и унизят и опозорят нашу Родину, а теперь мы с вами только и думаем, чтобы унизить и опозорить их родину. Я ничего не понимаю…».
Я тоже ничего не понимал.
Как-то в Восточной Пруссии, продвигаясь вперед, наша дивизия подошла к небольшой железнодорожной станции, которую спешно покидал полк немецкой пехоты. В бинокль было отчетливо видно, как они грузили какое-то имущество в товарные вагоны. 4-я батарея получила приказ разгромить станцию и уничтожить поезд с немецкими солдатами. Кутайсов быстро свернул с шоссе, занял позицию и начал обстреливать станцию. Дистанция была не свыше трех километров. Поезд стоял на совершенно открытом месте. Первая очередь легла намного правее. Потом был сильный перелет. Потом недолет. Потом перелет. Потом снаряды стали падать левее станции. Немцы тем временем уже успели погрузиться в вагоны, и поезд отошел от станции. Наконец гранаты стали рваться на железнодорожной насыпи. Несколько гранат как будто накрыли цель, поезд быстро уходил. Все наблюдавшие стрельбу 4-й батареи выражали живейшее нетерпение и досаду. Любой фейерверкер мог бы стрелять лучше, чем Кутайсов. Он только попугал немцев, не нанеся им ни малейшего вреда. Мне даже показалось, что Кутайсов не хотел обстрелять поезд. Может быть, он пожалел этих «паршивых немцев»? Похоже, что так.
Я стоял рядом с Эристовым и слышал, как он сказал негромко, как бы про себя: «Вот классический пример, как не надо стрелять…»
Что должны были подумать немцы о качествах русской артиллерии? В этот день «подопечные» Кутайсова наверно были очень веселы. С ними очень мило пошутил русский командир батареи. Но эти шутки быстро прекратились, когда с ними заговорили пушки Эристова. Впрочем, не буду забегать вперед.
Судьба Кутайсова сложилась трагично. Он благополучно закончил войну. После Октября он демобилизовался и уехал на Украину, радуясь тому, что он может больше не служить. Он поселился у своих друзей, в одной из усадеб Харьковской губернии. Бандитская шайка, грабившая всё на своем пути, зарезала Кутайсова и всю семью его хозяев…
Эристов стрелял хорошо по любой цели: подвижной и неподвижной. Огарев же был посредственный стрелок и нуждался в подсказке. В седле он себя чувствовал более уверенно, и совсем на месте в Яхт-Клубе. Этот фешенебельный клуб находился на Морской. За его большим итальянским окном в часы прогулок располагались в креслах важные военные «шлюпики» и разглядывали проходящую публику. Огарева можно было тут видеть часто. Против дома Яхт-Клуба стоял старый городовой, весь увешанный медалями. Он считал своим долгом и почетной обязанностью бросаться и почтительно высаживать подъезжающих к клубу его членов. Огарев был спортсмен, и любил скакать постом на Конкур-Ипик в Михайловском манеже и на офицерских скачках в Красном селе. Не знаю, какие были его успехи в спорте, но в строю он бывал довольно беспомощен. Офицеры дали ему прозвище «лупета». По-видимому, происхождение прозвища надо искать в его корне. У него была привычка лупить солдат стеком. Кажется, офицеры его не очень любили. Он был, безусловно, «со странностями». Когда в 1914 году батарея пошла на фронт, Огарев был оставлен в Петербурге и получил другое назначение. Солдаты об этом не пожалели.
Младшим офицерам, не занятым во время стрельбы на батарее, полагалось находиться на наблюдательном пункте. Они скучали и дурачились. Сергей Гершельман нашел в земле шрапнельную пулю и показал ее Латуру: «Смотри, какая большая пуля». «Ну да. Это ведь прошлогодняя. Она выросла», – с невозмутимо спокойным видом отвечал Латур. Такой юмор был в его стиле.
Эристов послал меня с каким-то распоряжением на батарею. Стреляли с большими перерывами. Я надеялся успеть передать распоряжение и вернуться на наблюдательный пункт до выстрелов. Солдаты рассказывали малоприятное о шуме выстрелов, что от него «аж голова пухнет». Однако, когда я приехал на батарею, то солдаты, мои товарищи по учебной команде, стали меня уговаривать остаться с ними и посмотреть, как они стреляют. Отказаться было неудобно. Сознаться, что боюсь шума выстрелов, было стыдно. Я оставил своего коня у зарядных ящиков, стоявших по уставу несколько в стороне, у опушки чахлого лесочка, и пошел к батарее. Но вдруг меня как-то прижал к земле резкий, высокий, металлический, сухой, очень сильный звук выстрела. Не успел я зажать уши, как тарарахнул второй, третий, и дальше все шесть орудий разрядили свои жерла. Офицеры затыкали уши. Солдаты жмурились и хмурились, но рот, по уставу, не открывали. Позднее, уже на фронте, мне пришлось слышать стрельбу наших гаубиц, калибром больше (4,5 ?), чем наша 3-дюймовая полевая пупка. Их выстрелы были много мягче и тише. Как-то обе наши батареи, 1-я и 2-я, отправились в район Ораниенбаума отражать «неприятельский десант» и обстрелять флот. Это уже вполне походило, если не на войну, то на настоящие маневры. До Ораниенбаума от нас было километров 25. Но мы двигались не прямо, а совершали какие-то обходные движения, и к нашей позиции подошли только поздно вечером. В пути было занятно наблюдать, как суетились наши командиры и как Эристов фыркал на командира дивизиона полковника Пилкина, и как, наконец, они сцепились. Эристов не упускал случая, чтобы не выразить своего неудовольствия каким-нибудь распоряжением Пилкина, или чтобы не указать ему на его незнание строевой походной службы. Конечно, Пилкин не оставался равнодушным к этим колкостям.
После долгих блужданий по перелескам и деревням и томительных остановок на дорогах, батарея, наконец, заняла позицию для стрельбы на окраине военного поля. К Эристову подскакал полковник Пилкин и начал ему выговаривать строгим тоном:
– Полковник, князь Эристов, что это за позиция? В солдатики играете, ваше сиятельство?
– Никак нет, господин полковник, позиция прекрасная для тех, кто понимает что-нибудь в артиллерийском деле, – сразу, накаляясь, дерзко отвечает ему Эристов.
– Объясните ее преимущества.
– Широта обстрела и отсутствие мертвого пространства.
– Да, но у Вас обнажен правый фланг, и там невозможно поставить кавалерию для вашего прикрытия. А где Вы держите коноводов и зарядные ящики?
– У самой батареи. Так мне удобнее.
– Это запрещено уставом. Извольте убрать их оттуда.
– И не подумаю.
– Я Вам приказываю, полковник, князь Эристов.
– Я могу их передвинуть только к чертовой матери, и заодно отправить туда всех, кто мне мешает стрелять!
– Вы забыли, что здесь командую я, командир дивизиона! – кричит Пилкин.
– Ну и командуйте себе на здоровье, а меня оставьте в покое.
Пилкин уж давно соскочил с лошади и оба полковника стояли друг против друга, держа правую руку у кокарды, красные и возбужденные; того и гляди начнут драться. Я находился ординарцем при Эристове, и стоя в нескольких шагах от него, с волнением ожидал развязки служебной драмы, разыгрываемой перед моими глазами и на виду у всей батареи. Солдаты делали равнодушные лица, а между тем в душе потешались над своими начальниками, всецело находясь в их споре на стороне своего командира.
– Точь-в-точь, как два петуха, – шепнул мне взводный Белкин. – И вот так у них всегда. Кто я, да кто ты. Ни один не уважит. Срам, и только.
Офицеры спокойно выжидали окончания беседы своих начальников. Один только Огарев, старший офицер батареи, выражал явное нетерпение. Латур покусывал стебель сорванной ромашки. Д. Гершельман сбивал стеком головки цветов. Полковники, между тем, уже кончили говорить друг другу дерзости и стояли молча, не желая уступить друг другу. Не знаю, сколь бы времени продолжалась эта трагикомическая сцена, если бы не появление генерала Орановского. Он, видимо, хорошо знал упрямые и непокладистые характеры своих полковников, кавказский темперамент Эристова, с одной стороны, и с другой – аристократическое высокомерие и надменность Пилкина, сына старейшего генерал-адмирала, состоящего при особе государя императора еще со времен Александра III. При появлении Орановского полковники опять стали наскакивать друг на друга. Спор возобновился с прежним ожесточением.
– Господа, прошу Вас, успокойтесь. Нельзя же так, – суетился около них долговязый Орановский. – Les soldats vous écoutent. Finissez, s’il vous plaît3737
Солдаты вас слушают. Заканчивайте, пожалуйста (фр.).
[Закрыть], – умолял он своих подчиненных.
– Полковник Пилкин, дивизионная стрельба отменяется. Получено донесение, что неприятельская кавалерия (2-я дивизия) обходит нас со стороны Дудергофа. Первая бригада отходит спешно к Михайловке, избегая соприкосновения с неприятелем, – наконец командует Орановский, и батарея наша на рысях уходят домой.
– Отстрелялись, – смеются солдаты.
Я думал, что ссора Эристова с Пилкиным должна кончиться не иначе, как дуэлью. Однако наш вахмистр подпрапорщик Бочкарев успокоил меня, сказав, что такие столкновения начальнических авторитетов повторяются постоянно в удобных и неудобных случаях и кончаются не дуэлью, а «гуляньем» в офицерском собрании.
Но все же до Михайловки мы не дошли. Внезапно (как на войне!) нас повернули в другую сторону, и мы пошли в Ораниенбаум.
Увы, учебной стрельбе отводилось в нашем расписании очень мало времени. За все лето я помню, что батарея стреляла только три раза. Количество выстрелов было крайне ограничено. Если сам командир батареи мог дать всего несколько очередей по цели, то младшие офицеры жаловались, что им совсем не дают стрелять, и редкому счастливцу удавалось пальнуть разок-другой. Для таких, знающих свое дело командиров, как Эристов, отпущенных ему выстрелов, может быть, было и достаточно, но надо иметь в виду, что для других командиров батарей, менее эрудированных, то есть тренированных в стрельбе, учиться вести боевую стрельбу было крайне необходимо. Ведь как-никак, кроме «мувманта», у наших офицеров должны были бы быть и специальные военные знания, учитывая, что государство все же рассматривало гвардейскую конную артиллерию не как аристократический офицерский клуб, а как боевую тактическую единицу. Играть в солдатики на войне уже никак нельзя было, а надо было сражаться и побеждать врага, а это возможно было только при наличии хорошей практической подготовки. Надо заметить, что Пилкин был паж, сын старого придворного адмирала, а Эристов окончил Михайловское артиллерийское училище и Академию. Конечно, Пилкин был по сравнению с Эристовым полным профаном, но старался показать, что он начальник.
Наконец, мы подошли к берегу Финского залива. На расстоянии 3-4-х километров от берега двигалась баржа со средней скоростью, по которой и производилась стрельба. Из-за дальности расстояния результаты стрельбы были нам не видны (полевые бинокли Цейса были только у офицеров). Но как-то никто особенно и не интересовался этим. Все спешили на бивак, который расположился вблизи Дворца, на большой поляне. Здесь были поставлены палатки, в одной из которых разместилось офицерское собрание.
По лицам офицеров можно было догадаться, что они предвкушают великий загул. Здесь же рядом поставили орудия. К коновязи привязали коней. Солдаты расположились у костров, а господин вахмистр предложил мне поместиться в его палатке. Сюда же пришла и вся батарейная аристократия: каптенармус и взводные. Солдатский ужин был прекрасный. Украсил его и добрый стакан вина. Впрочем, Бочкарев ничего не пил. Он дежурил всю ночь и наблюдал за порядком, боялся, что солдаты разбредутся и кони отвяжутся. А ночь была великолепная. Тихая. Звездная. Только в офицерской палатке гремели трубачи, пели песенники и кричали ура. Когда утром батарея возвращалась домой, в Михайловку, то вид у всех чинов батареи был довольно мрачный.
Не могу не рассказать еще об одном трагикомическом случае, хотя я в нем играл довольно жалкую роль. Об этом случае любили вспоминать и от души посмеяться мои товарищи вольноопределяющиеся. Не помню почему, я как-то запоздал утром к батарейному учению, и к ужасу своему узнал, что батарея ушла в дальний круговой марш, направлением на Петергоф. Надо было догонять. Дежурный предложил мне взять резвого коня, Жемчуга. Я вскочил в седло и поехал вправо, в сторону Петергофа, противоположному Красному селу. Но как оказалось, я решил без хозяина. Как только я проехал последние дома деревни, мой Жемчуг высоко поднял голову, громоподобно заржал и повернул в сторону военного поля, где по его расчетам должны были находиться его боевые товарищи. Все мои усилия направить его в нужную мне сторону были тщетны. Более того, чем я сильнее требовал от него повиновения, тем он меньше обращал на меня внимания и ускорял свой аллюр, идя все время крупной размашистой рысью, не переходя, однако, в галоп. Бежал он, конечно, без всяких дорог, не обращая внимания на канавы, пни и рытвины. Он двигался стремительно и грозно, как танк, все вперед и вперед, по верблюжьи задрав голову. В моем сознании предстал образ великого Тартарена, несущегося на своем верблюде по пустыне… Однако мне было не до шуток. Жемчуг уверенно шел к тому месту, где обычно происходили батарейные учения, но там мы батарею не обнаружили. Это не смутило мое дикое животное, и оно понеслось дальше, испуская страшные лошадиные вопли.
Мое положение все меньше мне переставало нравиться. Правда, до Красного села оставалось еще не менее 4-5 километров, и я мог надеяться на то, что рано или поздно в моем звере иссякнет движущая его сила, и он принужден будет остановиться. Вдруг мы перескочили какие-то шесты с красными флажками и вступили в зону полигона. Только не доставало, чтобы меня приняли за движущуюся мишень! Надо было скорее проскочить это опасное место, и я дал гнусному отродью шпоры. Жемчуг поддал скорости. Теперь меня пугало другое. А что если Жемчуг из чувства братской солидарности захочет примкнуть к какой-нибудь другой кавалерийской части, находящейся в это время на военном поле? Вот был бы позор и стыд! Позор на всю бригаду, на всю дивизию! Скандал и то положение ridicule3838
Смешной, комичный (фр..)
[Закрыть], что может погубить и самую хорошую военную репутацию!
Я попробовал внушить Жемчугу, что Дарвин, да и другие ученые, считают человека высшим видом животных, и что человек претендует, не без основания, как Homo sapiens, на господство во всем животном мире и требует полного себе подчинения со стороны всех домашних животных, в том числе и лошади. Эти свои соображения я подтвердил несколькими ударами стека. Жемчуг, оглянувшись, удивленно посмотрел на меня и перешел на галоп. Этот тип не признавал никаких научных систем! И вот вдруг мы увидели впереди движущуюся по полю кавалерийскую колонну. Я говорю «мы», имея в виду себя и Жемчуга, который испустил боевой клич и ускорил аллюр до карьера. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним, стараясь удержаться в седле во чтобы то ни стало. Солнечные лучи слепили глаза и не давали мне рассмотреть, куда несли меня со скоростью звука Жемчуг и моя судьба. И, наконец – О, радость безмерная! – я увидел пушки, и как будто кони рыжие или может быть светло-гнедые… Итак, это если не наша батарея, то 4-я. Во всяком случае, «свои». А больше всего я боялся причалить к кавалергардам. И вот Жемчуг, испуская победные клики, на которые ему отвечал дружный рев батарейных коней, врезался в группу конных разведчиков, и, больно прижав мне ногу к стремени фейерверкера Куриного, радостно и с облегчением вздохнул. Эта скотина считала, что честно выполнила свой воинский долг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































