Текст книги "Силуэты минувшего"
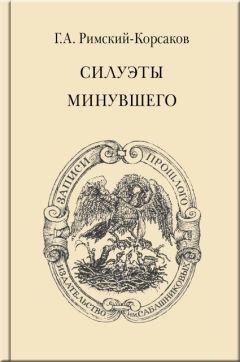
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Художники в этой постановке Горского дали довольно скучное и серенькое оформление, что тоже не способствовало поднятию творческого тона у всего спектакля.
Не знаю, из каких соображений театр вдруг решил возобновить «Жизель». Она давно не шла на этой сцене. Возможно, что Горского вдохновила на эту постановку Вера Каралли. Горский очень верил в нее. Верил её творческим возможностям, но все-таки, думается мне, он их немного переоценивал. У Каралли было много положительных артистических данных, но главное, она обладала большим сценическим обаянием. Это была артистка ярко выраженного лирического стиля. Но технические возможности её были средние, и, может быть, она не всегда стремилась их развить. Она совсем не обладала тем гигантским упорством и настойчивостью, благодаря которым Анна Павлова стала балериной высшего класса. Но я предполагаю, что если бы учителем Каралли был не Горский, а Тихомиров, то она достигла бы значительно большего и в технике.
Сразу по окончании ею школы в 1906 году, Горский дал Каралли танцевать «Лебединое озеро». До нее партию Одетты исполняла Рославлева, а потом Гельцер. Конечно, после Гельцер вчерашняя ученица Каралли производила грустное впечатление, хотя внешне она вполне соответствовала нашему представлению о заколдованной девушке-лебеде. Но Горский был доволен: лирический образ Каралли доминировал над всеми неполадками её исполнения. Также бледно выглядела Каралли и в «Дочери Фараона», в балете, который с блеском и мастерством виртуозно вела Гельцер. Но вот появилась Каралли в «Жизели», и здесь её лиризм разрушил все наши предположения о незрелости артистки. Известный критик Юрий Беляев написал в газете «Русское слово» о «Жизеле», что этот балет глубоко взволновал его. Лирико-драматический талант Каралли поразил его своей эмоциональностью и реализмом. В восторженном тоне он писал о полном возрождении старинного балета.
Что же сделал Горский с «Жизелью»? Он не знал и не мог знать тогда формулу, которую позднее Вахтангов предложил применять ко всякой новой театральной постановке: «Спектакль – это автор плюс современность». Но интуиция большого мастера подсказала ему правильное решение. Он сохранил сюжет и старую хореографию балета почти без изменения9191
Из первого акта Горский убрал всякие классические танцы.
[Закрыть], но перенес действие балета из средних веков в начало прошлого, 19– го века, в эпоху романтизма. Это приблизило сюжет к нашему времени, и вся драма Жизели приобрела некое реалистическое, а не абстрактное звучание. Красивая легенда приобрела живые черты действительности. В нашем представлении Жизель стала не средневековой сказкой, а романтической новеллой, которую можно поставить рядом с «Бедной Лизой» или с новеллами Э.Т. Гофмана. Каралли создала очень яркий и в то же время интимный образ простой, искренней, жизнерадостной, любящей крестьянской девушки. В её трактовке этого образа было больше от драматического театра, чем от академического, классического балета.9292
Позднее В.А. Каралли и Е.М. Адамович с успехом играли в кино.
[Закрыть] И какой холодной, бледной, жалкой и скучной показалась мне потом петербургская «Жизель» с Павловой. Да, с великой Анной Павловой, которая, как всегда, легко порхала по сцене, но не согревала своим искусством сердце зрителя. И вся эта сугубо средневековая, рыцарская чертовщина совсем лишена была романтического дыхания московской постановки. Там, в Петербурге, «Жизель» – классический балет. В Москве – романтический спектакль, с ясно выраженными чертами реалистического искусства. Там – изящный, поэтический спектакль. Здесь – интимная, человеческая драма.
Позднее я видел еще других артисток в «Жизеле» (Кудрявцева), но никто из них не мог придать этой партии такой силы эмоционального воздействия, какую излучала из себя Каралли. Я считаю, что «Жизель» – это не только победа Каралли и Горского. Это победа московского реалистического передового театрального искусства.
Необходимо указать, что достойным партнером Каралли в этом балете являлся М.М. Мордкин, артист редкого темперамента и обаяния. Он всегда умел наполнить всякий свой сценический, чисто балетный образ, реальным содержанием. Он никогда не исполнял формально пресловутые мужские вариации с приятной улыбкой на устах, а вносил в них элемент драматической выразительности. Он глубоко и вполне искренне переживал драму обманутой им Жизели. Он плакал подлинными слезами, когда во втором акте тень Жизели таяла в его руках, и какое безумное отчаяние овладевало им, когда она скрывалась в цветах могилы. На петербургской сцене я не встречал балетного артиста, равного ему по драматическому темпераменту. Кто из моих современников не восторгался его «итальянским нищим» (муз. Сен-Санса)! Он вполне воспринял лирико-реалистическое направление искусства Горского и был его достойным представителем.
На премьеру «Раймонды» Горский пригласил Глазунова (1907 г.). Композитор сказал много теплых слов балетмейстеру. Он сказал, что московская Раймонда воскресла в своем новом и весьма привлекательном для него образе. Действительно, балет этот совсем не был похож на какой-либо другой классический балет Мариинского театра. «Раймонда» была показана Горским как романтическая баллада, изложенная поэтическим языком хореографии нового современного стиля. Конечно, Горского вдохновляла и увлекала лирическая музыка Глазунова. Спокойно-созерцательная лирика Глазунова была близка и понятна Горскому. Ее гармонические приемы и контрапункты не пугали Горского, как они пугали Петипа.
Горский понял, что для балетной интерпретации музыки Глазунова нужен новый стиль хореографии, между тем как Петипа подошел к постановке «Раймонды», как к очередному, обыкновенному балету на сказочный сюжет. Музыка «Раймонды» ему не понравилась. Многое казалось диким и антихудожественным, как, например, мужская вариация для гобоя. Музыка Глазунова скорее ему мешала, чем вдохновляла.
У Горского в этой постановке появилось много свежих мыслей и живых мизансцен. Слабым местом была Белая дама, показанная примитивно-грубо. Новым были туники, длинные платья ниже колен и почти полное отсутствие пачек. Молодой состав исполнителей – последователей Горского – с увлечением вел свои партии, и спектакль получался необыкновенным, свежим и жизнерадостным.
Среди той балетной молодежи 900-х годов, которая испытывала сильное влияние «системы Горского», следует еще упомянуть А.М. Балашову, которой одно время Горский уделял особое внимание. Как танцовщица Балашова не выходила за пределы среднего уровня, а Горский хотел сделать из нее балерину и формально добился этого. Он предоставил ей возможность танцевать «Царь-девицу» и некоторые другие ведущие партии, хотя по справедливости ей это было не по её творческим силам. В её классическом танце можно было заметить много погрешностей против чистоты стиля. И не было в ней необходимой легкости и собранности петербургской школы. Несмотря на усиленную тренировку, тело ее было довольно рыхлым, мало «работанным», как говорил В.Д. Тихомиров. Но в характерных партиях она подкупала своей женской обаятельностью и живой непосредственностью. Благодаря своей чисто русской внешности, Балашова была действительно очаровательной «Царь-девицей», такая вот русская, «девица-душа» народных сказок. Для нее в «Коньке-Горбунке» Горский облегчил танцевальную партию балерины, и Балашова справлялась с ней достаточно успешно. Москва её любила и старалась не замечать её технические неполадки, но Петербург был совсем равнодушен к этой «московской красавице». Впрочем, дирекция театра показала её в Мариинском театре совсем неудачно, и можно думать, что кто-то нарочно выбрал для нее самую неподходящую к ее амплуа партию – Лизы в «Тщетной предосторожности».
Непонятно, чем руководствовалась дирекция театров в выборе репертуара при обмене балеринами между Москвой и Петербургом. Чья злая воля заставила Гельцер танцевать там «Конька-Горбунка», в котором ей с ее блестящей техникой нечего было показывать. А Павлова после Гельцер совсем не приглянулась москвичам в «Дочери Фараона». Конечно, это была чья-то интрига, без которой, кажется, театр существовать не может, особенно балет.
Я ничего не пишу о «Саламбо». Причина та, что этот балет не оставлял никакого сильного впечатления. Балет этот был сделан по типу «большой французской оперы»: великолепное зрелище, но ничего для души. Яркие, роскошные декорации, дорогие костюмы, много массовых сцен и всяких танцев, но нет ничего, что проникло бы в сознание, что заставило бы желать еще и еще смотреть этот спектакль. А.Ф. Арендс написал доброкачественную, но не увлекательную музыку. Ни одной свежей мелодии, которая запомнилась бы. Почему-то Арендс, хороший мастер оркестровки, в своем балете не сумел сделать музыку более значительной, как в наше время это удавалось делать И.В. Асафьеву. Серый музыкальный фон не соответствовал драматическому характеру сюжета. Впрочем, для того, чтобы драматический конфликт Саламбо – Мато мог взволновать зрителя, нужен был очень сильный композитор-лирик. Почему-то все же Мусоргский отказался писать оперу на этот сюжет. Лучшая по композиции массовая сцена, жертвоприношение Молоху, волновала своими натуралистическими подробностями – сжиганием юношей в огненной печи кровожадного бога. Хотелось скорее ее забыть. И совсем не волновал великолепный академический пафос Гельцер-Саламбо.
Если говорить о «школе Горского», то нельзя не упомянуть о двух удивительных артистках Большого театра: Софии и Ольги Федоровых. Они ярче других воплощали «стиль Горского», московский стиль эмоционального балета. Тогда на московской сцене наблюдались два полюса балетного искусства. На одном стояла Гельцер, на другом С. Федорова 2-я.
У Екатерины Васильевны техника классического танца доведена была до высшего предела. В её танце все безупречно, строго, академично, монументально.
У Софьи Федоровой ничего от классической техники нет. В этом она совершенно беспомощна. Она ясно выраженная «характерная» танцовщица. Когда её по каким-то непонятным побуждениям администрация театра заставляла одевать пачки и исполнять какой-нибудь классический танец, то на нее жалко было смотреть, настолько она всем своим обликом не соответствовала классическому стилю танца. Маленькая, невзрачная, немного сутулая, совсем не идеально сложенная, жидкие ноги, плоская ступня. Некрасивая, с дурной привычкой скашивать рот и как-то прикусывать нижнюю губу, что должно было, по-видимому, заменять улыбку, и вся какая-то приниженная и тусклая. Вот портрет С. Федоровой в классическом танце. Портрет совсем не привлекательный. Любопытно её сценическое поведение: держится незаметно, ничем не стараясь привлечь внимание зрителя. Но вот оркестр играл вступление к её характерному танцу, и она вся преображалась. Сразу делалась выше, стройнее. Появлялся гордый взгляд, уверенность смелых движений, живость, темперамент, огонь, бурная стихия пляски, ничем не скованная, не подчиненная даже музыке, а казалось, сама рождающая музыку. Её стихия танца увлекала самых равнодушных. Тут уж ничего не было от прежнего академизма. Она танцевала не для узкого круга любителей «изящного» искусства, для первых рядов партера и лож бенуара, а для тех, там, наверху на галёрке. И когда она выходила на аплодисменты публики, она кланялась тем, верхним. Это было нарушение этикета. Полагалось сначала поклониться направо, в сторону царской ложи, потом налево – в сторону ложи директора, а потом публике. Впрочем, в Москве этот порядок не очень соблюдался. Не было, кажется, случая, чтобы С. Федорову не заставляли бисировать свой танец, несмотря на запрещение требовать повторения танцевальных номеров.
В театре Федорова держалась как-то особняком. Её считали чудачкой. Одевалась безвкусно, неряшливо. По внешнему облику мало походила на артистку, да еще императорского балета. Никакого женского шарма вне сцены не имела. По своему образу мыслей – крайняя индивидуалистка передового направления. Однако позднее она очутилась в эмиграции, и держалась там обособленно и независимо, вызывая иронические замечания русской колонии – «ах, эта Федорова!».
Она обладала незаурядным драматическим талантом. Лучшие её роли были: Эсмеральда (в «Дочери Гудулы»), старуха в «Золотой рыбке» и любимая жена хана в «Коньке-Горбунке». Недаром Горский считал своей лучшей или, во всяком случае, своей любимой работой «Дочь Гудулы», мимо-драму, в которой центральное место занимала С. Федорова.
Ее сестра – Ольга Федорова третья. Тоже весьма своеобразная артистка редкого женского обаяния и сценического шарма. Красивой ее никак нельзя было назвать, и сложена для балетной артистки неважно, и внешность совсем простецкая, даже вульгарная, и манеры совсем не изысканные. Ее амплуа – полу-характерная солистка. Но, выступая в классике, и она страдала, и зритель, зато в характерных эпизодах, особенно, когда была в настроении, была даже много эмоциональнее своей сестры. Она очень мало работала над своей техникой, и покоряла она зрителя, главным образом, своей женской непосредственностью.
Ее появление на Мариинской сцене было организовано с явным намерением провалить артистку. Она появилась в первый раз в совсем ей чуждой роли Золушки в дивертисменте в «Спящей Красавице». Номер этот бледный, не динамичный, без какой-либо характерности. По мысли Петипа, по-видимому, эту Золушку следовало бы изображать кокетливой французской субреткой, к чему Ольга была абсолютно непригодна. Бедная московская дебютантка металась по сцене с мехом для раздувания угля (sic!) и чувствовала себя очень скованно и неуверенно, тем более, что и музыка этого номера не может вызвать никакого эмоционального подъема, а без этого Федорова переставала быть артисткой. В Москве Горский исключил Золушку из дивертисмента. Публика из вежливости слегка похлопала Федоровой. Но вот немного позднее Федорова танцевала известный «Форбан» из «Корсара», и зал заревел от восторга. Еще бы, ничего подобного они там, в Петербурге, не видали. Она нарушила все установленные «академические» традиции этого театра. Однако, расточая восторженные комплементы О.В. Федоровой, петербургская критика умалчивала, что успех этой артистки был, прежде всего, успехом «школы Горского». Его вообще петербургская пресса старалась не замечать.9393
О.В. Федорову не следует смешивать с А.И. Федоровой, тоже артисткой петербургского балета классического жанра, в интимном круге театралов носящей прозвище «Аня-Ваня».
[Закрыть]
Познакомился я с А.А. Горским после Революции, в 1919 году. Время было суровое. Трудным оно было для всей нашей страны, трудным и для Большого театра. Трудности были творческие и хозяйственные. Уехали кое-кто из артистов: Балашова, Каралли, Фроман, Мордкин, Волинин и др. Театр не отапливался. Было очень холодно. Публика в зале сидела в пальто и шапках. Их снимали из уважения к артистам только некоторые старые москвичи, в том числе: М. Шик, Н.Л. Славин, Г. Гейс, Про. Я придумал себе такой «смокинг»: черная кожаная куртка, крахмальный воротничок и штаны в полоску.
Творческая жизнь балета как будто совсем замерла. Однако Горский репетировал «Щелкунчика». Подготовлялся этот балет уже несколько сезонов, но что-то все задерживало его появление на сцене. Декорации написал Коровин. Монтировка балета проходила с невероятными трудностями. Не хватало самых необходимых материалов. Балет шел без балерины. Ведущие партии исполняли учащиеся школы – Кудрявцева и В. Ефимов (Щелкунчик). Первый акт в основном оставался верным первой петербургской редакции, но вместо знаменитого финального вальса «Снежинок» Горский создал новую хореографическую картину: страну Дедов-Морозов, куда попадают Маша и Щелкунчик. Музыка вальса сохранялась, но в вальсе принимали участие Снегурочки и Деды-Морозы. Здесь же дан большой дуэт Маши и Щелкунчика (музыка pas de deux феи Драже). Показать Дедов-Морозов было и логично, и последовательно. Но все же как-то было жалко «вальса снежинок», хотя эта лесная картина никакого отношения к развитию сюжета балета не имела. Третье действие показывает рождественскую елку, на фоне которой проходят танцы игрушек. Вместо вальса цветов дан вальс кукол, они танцуют его на пальцах, передвигаясь и шатаясь по-кукольному. В дивертисменте вместо пляски буффонов Горский дал очень живую увлекательную русскую пляску «под лубок». Никакого логичного конца или апофеоза (как у Петипа) Горский балету не придумал. В этой постановке совсем пропал слащаво-приторный французский тон Петипа и отсутствовали, так раздражавшие Теляковского, танцующие бриоши (пирожные). Шло все очень свежо, искренно, молодо. Почему-то все же этот балет продержался недолго в репертуаре театра.
После «Щелкунчика» никаких новых крупных работ Горскому в театре не предлагали, если не считать «Пустячков» Моцарта. Новое руководство театра, Е.К. Малиновская, относилась к Горскому сдержанно, только снисходительно-вежливо, не больше. У нее появились свои фавориты, которым она всячески покровительствовала и полностью доверяла судьбы московского балета. Это были В.А. Рябцев (режиссер балетной труппы) и Л. Жуков. Первый, талантливый актер на характерные роли, был из тех администраторов, которые считали, что самое правильное ничего нового самому не придумывать, а угадывать желание начальства. Он знал, что Горский не пользуется авторитетом у руководства театра и не старался предоставить ему возможность для широкой творческой работы. А Горский хотел еще работать и даже томился без живого дела. Правда, в это время он начал как-то физически сдавать. Он стал замыкаться в себя и как-то потерял способность смело мечтать. Но от работы он не отказывался, а в театре ему ничего не предлагали. Многие артисты балета тоже тяготились творческим застоем и отсутствием интересной работы. А ведь еще недавно они с Горским, в порядке частной инициативы, приготовили любопытную новую танцевальную программу, куда входила симфоническая «3-я сюита» Чайковского.
Наконец, группа артистов театра решила создать «самодеятельный» коллектив и предложила Горскому осуществить программу балетного вечера. В эту группу вошли: Е.М. Адамович, Е.И. Долинская, Л. Банк, Н. Тарасов, С.В. Чудинов. Горский охотно согласился. Решили восстановить недавно исполненную 3-ю сюиту Чайковского и добавить к ней: Скерцо («Сон в летнюю ночь») Мендельсона (для солиста) и танцы из оперы «Иван Сусанин». Надо признать, что программа получилась довольно пестрая и бледная. В ней не было гвоздя, но ее преимущество заключалось в том, что большинству исполнителей эти произведения были хорошо известны, и поэтому не требовали длительного времени для их подготовки.
Для меня авторитет Горского, как заслуженного балетмейстера, стоял тогда так высоко, что я считал невозможным обсуждать намеченную им программу. Я мог только предлагать, а решал он с коллективом артистов и с А.Ф. Арендсом. Теперь я знаю, что программа была составлена неудачно, не привлекла бы внимания публики, и не могла бы иметь и материального успеха. Мне кажется, что было бы более удачным составить программу «симфонического балета» из произведений одного Глинки: «Камаринская», «Вальс-фантазия» и танцы из опер. В коллектив вошли еще двенадцать артистов Большого театра. Все согласились участвовать «на марках», то есть оплата труда будет зависеть от заработка. Однако Горскому и А.Ф. Арендсу, дирижеру оркестра, гарантировали, если не ошибаюсь, по пяти тысяч рублей. Все это предприятие требовало организационных расходов, и нужен был «меценат», который взялся бы финансировать это интересное дело. Такой меценат нашелся. Это был Д.С. Бартель, управделами одной из московских научных организаций. Коллектив не считал нужным спрашивать разрешение у директора театра Е.К. Малиновской на такого рода концертную работу, поскольку в те годы более или менее все артисты театра где-нибудь еще прирабатывали на стороне. Репетиции проводились в помещении балетной школы Большого театра. В зале было холодно. Школа почти не отапливалась. Артистки репетировали в теплых джемперах и гамашах. Мужчины одевали лыжные костюмы, а кто постарше оставались в пиджаках. Горский снимал только свою барашковую шапку, а все движения показывал в пальто. В это время он уже стал носить бороду a la Карл Маркс. Зрелище было довольно комичное, когда этот седой, бородатый дядя прыгал и вертелся на одной ножке, одной рукой удерживая развивающиеся полы пальто.
Концертмейстером была Т.В. Остроглазова, которая уже много лет работала в Большом театре. Иногда на репетиции приходил А.Ф. Арендс. Он ежился от холода, хотя был в шапке, шубе и больших теплых ботиках. Вид у него всегда был хмурый и недовольный. Бывало, он останавливал репетицию и сердито спрашивал Горского: «Что это они у вас топают, как табун лошадей?» или указывал на несовпадение движений с ритмом музыки. Я никогда не видел, чтобы он улыбался. Только один раз он, узнав, что я внук Н.Ф. фон Мекк, вдруг заулыбался. Все лицо его расплылось в улыбке. Он прикрыл глаза рукой и, вздохнув, сказал: «Боже мой, какие счастливые воспоминания!», и потом, покачав головой, добавил: «Какое было время…» А.Ф. Арендс играл на музыкальных вечерах в доме Н.Ф. фон Мекк. Был приятелем П.И. Чайковского.
Репетиции шли успешно. Все уже было готово. Был снят Большой Колонный зал Дома Союзов. Выпущена афиша «Симфонического балета», как я предложил назвать этот концерт. Начали продавать билеты и вдруг… мы узнали, что Большой театр не дает артистам костюмы. Горский узнал, что Малиновская запретила выдавать костюмы из гардероба театра. Будто бы это распоряжение не было направлено непосредственно на «Симфонический балет», а явилось, как мера для борьбы с «халтурой» артистов театра. Горский старался убедить Малиновскую, что вечер «Симфонического балета» не халтура, а показ творческой работы группы артистов балета под его руководством. Тогда Малиновская предложила просмотреть программу «Симфонического балета» на закрытом спектакле в Большом театре, при этом Малиновская обещала, что если работа коллектива ей понравиться, она включит ее в репертуар театра. Но костюмы все-таки не дала.
Между тем, А.Ф. Арендс, надеясь, что переговоры Горского с Малиновской закончатся благополучно, уже назначил репетицию оркестра в Колонном зале. Как тяжело мне было прерывать эту репетицию, чтобы сообщить Арендсу печальный результат переговоров Горского с театром. Должен признаться, что я не сразу решился обидеть старого музыканта моим сообщением. А он действительно обиделся. Он считал, что его имя является для театра гарантией серьезности работы коллектива. Горский имел смущенный вид. Он не рассказывал подробно содержание своей беседы с Малиновской, но стало известно, что она, как это часто с ней бывало, наговорила много неприятностей, обвиняла его в отходе от интересов театра, в нежелании работать, в желании создать свой балетный театр и т.п.
Все же я тоже решил поговорить с Малиновской. Я указал ей, что все приготовления к концерту закончены, афиша выпущена, билеты продаются и коллектив артистов просит разрешить дать хотя бы один концерт для покрытия организационных расходов, иначе артистам придется расплачиваться из собственных кошельков. Малиновская ответила с нескрываемой злобой и издевательским тоном, что она очень жалеет бедных артистов и поэтому советует провести намеченный концерт, «тем более, что уже выпущена такая интересная афиша», но костюмов она не даст. А мы-то с Горским надеялись получить из театра не только костюмы, но и несложные декорации для оформления сцены. Мне кажется, что Малиновская имела что-то личное против меня, так как в разговоре с Горским сказала: «Нам не нужны Советские Дягилевы». «3-я Сюита» была показана на сцене Большого театра для дирекции и руководящих работников. Исполнялась она под рояль, без костюмов и декораций. Дирекция признала эту работу Горского недостаточно интересной, чтобы включить ее в репертуар театра.
После неудачи с постановкой «Симфонического балета» Горский сделал еще одну попытку осуществить интересную для него студийскую работу в рамках Большого театра. Он взял хореографические сцены Глиера «Хризис» на античные темы. Партию Хризис исполняла Е.М. Адамович. По-видимому, довольно жидкая и мало динамичная музыка этого раннего произведения Глиера мало вдохновляла Горского. Он работал без творческого подъема и увлечения. Все же он довел постановку «Хризис» до конца и показал ее фрагменты Малиновской на сцене театра. Присутствовал и Глиер, который остался очень доволен исполнением партии Хризис.
Однако и на этот раз Малиновская не нашла возможным использовать эту работу Горского на сцене Большого театра. Такое решение Малиновской было, пожалуй, на этот раз закономерным. Лирические, античные сцены мало соответствовали переживаемому нашей страной суровому кризису. Гражданская война, голод, холод, разруха никак не гармонировали с любовным томлением Хризис. Горский был далек от понимания реальной политической обстановки. Впрочем, кто тогда в Большом театре понимал что-либо в политике? Среди этих баловней судьбы находились такие артистки, которые думали, что «Петлюра» это какое-то новое неприличное слово из матросского словаря. Никаких больших постановок театр Горскому больше не поручал. Правда, он поставил еще «Вакханалию» в «Тангейзере». Это была последняя удачная вспышка его творческого вдохновения.
Нимфы, сатиры, вакхические позы, сладострастные движения, кубки, виноградные лозы, хитоны, вся обстановка грота Венеры была такой близкой и понятной эстетическому мироощущению Горского. Впрочем, Горский в это время стал заметно слабеть: физически и психически. Театр не особенно заботился, чтобы поддержать артиста, который двадцать пять лет прослужил в его стенах. Он стал преподавать в балетной школе Элирова. Школа имела очень сомнительную репутацию и, кажется, не без основания. Многие упрекали Горского, что он своим именем прикрывает грехи Элирова. Но он мне как-то сказал: «Вот меня ругают, что я пошел преподавать к Элирову. Но знаете, голод и холод. Театр ничего для меня не сделал, а Элиров привез мне дрова, дал прекрасный паек и деньги, и Элиров рад исполнить каждое мое желание». Все же он угасал, и в 1924 году его не стало.
Теперь, по прошествии сорока лет после кончины Александра Алексеевича Горского, хотелось бы подвести итог его творческой деятельности. Сделал он для русского сценического танцевального искусства очень много.
Он придал танцу новое направление: лирико-драматическое. В старые балетные формы он вложил новое содержание, более нам созвучное. Он поднял значение балетного искусства на высшую ступень и поставил его рядом с русской драмой и оперой. Он начал новый вид балетного творчества: программно-симфонического, в котором музыка приобретает самодовлеющее значение, и содержание ее раскрывается средствами хореографии. Он осовременил старые балетные произведения и приблизил их к новым эстетическим требованиям. Он еще раз напомнил, что техника не есть цель искусства, а лишь средство.
К сожалению, он не обладал для успешного завершения своих художественных замыслов нужной для этого целеустремленностью действий. Его мягкий характер русского интеллигента-приспособленца мешал ему громко требовать и смело вступать в борьбу. Он не порвал с бюрократической казенной, театральной средой, которая тормозила и мешала его творческим порывам, как это сделали Фокин и Касьян Голейзовский. Он предпочитал политику компромиссов, а в искусстве это дает плохие результаты. Это привело к тому, что во многих случаях мешает назвать Горского яркой художественной индивидуальностью. А между тем, он все же был настоящий и большой художник.
Он начал с больших «феерических» постановок лирико-драматического характера. Позднее он пришел к созданию «программно-симфонических» произведений, эклектичных по своей форме. Поэтому нельзя говорить о ясном и вполне законченном стиле его творчества.
И вот в то время, когда имя Фокина стало известно и в Старом и в Новом свете, Горского не знают за пределами нашей страны. Между тем, это он начал реформу классического балета, а Фокин лишь продолжил ее, используя его опыт. Я думаю, что полностью раскрыть все отпущенное Горскому природой творческое дарование в значительной степени помешали его патологическая неустойчивость, а позднее психическая болезнь, развившаяся на почве слишком острой эмоциональной возбудимости. Во всяком случае, Горский – это яркая, блестящая эпоха московского балетного театра. Творчество его было прогрессивным явлением и связано с лучшими передовыми, реалистическими традициями русского театрального искусства.
Мне хочется сравнить путь, проделанный в театре Горским, с судьбой А.П. Ленского. Он в конце прошлого века, еще до появления МХАТа, говорил о правде в театральном искусстве, об искренности, переживании, о перевоплощении в образ. Он учил. Он создал школу. Он возглавил группу молодежи Малого театра. Ему предоставили сцену для «экспериментов». Но все же «театра Ленского» он не создал. Из его идей вырос МХАТ. А это был большой талант, большой артист (какой неповторимый Фамусов!), большой художник (посмотрите на его проект памятника Гоголю). Его имя должно быть окружено величайшим уважением.
Горский тоже учил. Он тоже вдохновлял молодежь на служение правде в театре. Он тоже имел сцену для эксперимента. И он тоже не создал своего театра, а создал его М. Фокин. Почему так получилось?
Я думаю, что тут большое значение имеют личные, человеческие качества Ленского и Горского. Оба слишком мягкие, слишком деликатные, слишком «интеллигенты». Не борцы и не вожди. Не организаторы. В искусстве, как известно, одного таланта мало. Надо уметь его применять, приладить, представить, реализовать. А этого они не умели делать. Но разве это умаляет их значение для искусства? Наши советские балеты «Красный Мак», «Бахчисарайский фонтан» явились результатом освоения художественного наследия Горского.
Роль Тао-Хоа, которую так блистательно исполняла Е.В. Гельцер, подвела итог сценической деятельности этой большой артистки, воспринявшей передовые идеи «школы Горского».
Советский балет пошел по пути реализма, который указал ему Горский.
1964-1966 гг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































