Текст книги "Силуэты минувшего"
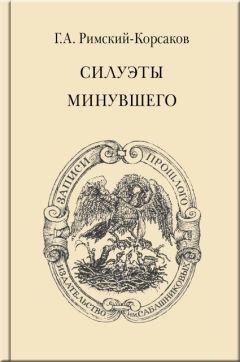
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Погром продолжался несколько дней. Вначале, когда хватали бутылки с водкой, все обходилось благополучно. Но когда добрались до цистерны со спиртом, и он загорелся, то погибло немало солдат, которые падали в горящий спирт. Многие, пытаясь спастись, охваченные пламенем бросались на землю и катались по ней. Но земля была уже крепко скована морозом, и несчастные обгорали до смерти. В моем эскадроне сильно обгоревший Воробьев умер через несколько дней в страшных мучениях. Ткаченко, также обгоревший, поправился. Среди наших кавалеристов было меньше обгоревших, чем в пехоте. Цистерна при полном безветрии горела как свеча, и ее яркое пламя, говорят, было видно далеко от города.
Солдаты моего эскадрона стали приносить ко мне на квартиру свои «трофеи», опасаясь оставлять их в казарме. Таким образом, у меня образовался внушительный склад водки. В город хлынули со всего уезда крестьяне за вином, и началась оживленная торговля водкой. Остаток бутылок эскадрон решил пропить сообща. Пригласили меня, но что там происходило, я не помню, так как каждый солдат хотел, чтобы я непременно отпил из его бутылки. Меня очень бережно принесли домой, где я пролежал после этого несколько дней в плохом состоянии.
Наконец состоялся общеполковой митинг для выявления нашего отношения к советской власти. Митинг проходил в манеже. Народа собралось так много, что протиснуться вперед к трибуне было невозможно. Ораторы выступали, сидя на плечах своих товарищей. Офицеров присутствовало не много. Представители эскадронов заявляли о признании советской власти. Мой эскадрон занимал условную позицию, и я заявил на митинге, что мы признаем советскую власть, если эта власть даст народу то главное, что ему сейчас надо: мир, хлеб и свободу. С таким же заявлением выступил и князь Эристов, поручик из запаса, командир одного из эскадронов Изюмского гусарского полка.
Вскоре был получен приказ нового командующего московским военным округом товарища Н.И. Муралова о демобилизации старой, царской, армии. Полковой совет решил всем демобилизованным выдать новое обмундирование. Полковой цейхгауз был набит обмундированием, благодаря умелому хозяйствованию помощника командира полка по хозяйственной части подполковника Паевского. Этот хитрый поляк умел удовлетворять потребности солдат и хранить громадные запасы «на всякий случай». Надо заметить, что в других полках уже давно солдаты разгромили цейхгаузы, у нас же он строго охранялся, и покушений на него не было. Охранять цейхгауз были взяты австрийские пленные, которые очень добросовестно несли службу. У меня тоже вестовым стал австриец Фриц, очень вежливый и подтянутый, вполне довольный своей судьбой.
Перед полком встал очень серьезный вопрос о сохранении конского состава. Число лошадей в полку достигало несколько тысяч. Кто их будет кормить и поить, когда все солдаты уйдут домой? Наконец, полковой совет решил раздать коней беднейшему населению деревень. Чтобы получить полковую лошадь, требовалось свидетельство сельского совета, что гражданин такой-то нуждается в коне для сельскохозяйственных работ. Я был назначен председателем комиссии по раздаче лошадей. Со всех сторон ко мне устремились граждане с заявлениями о выдаче коней. Я их раздавал по несколько сот в день. И вдруг в канцелярии полка появились два штатских, которыми оказались – председатель большевистского городского совета и секретарь городского комитета большевиков. Они потребовали от меня объяснений, на каком основании я разбазариваю советское имущество. И тут же при мне стали совещаться – какому суду меня предать: военному трибуналу или народному? Не слушая моих объяснений, они ушли, запретив дальнейшую раздачу лошадей. Тогда я понял, что и мне пора демобилизоваться и уезжать из Борисоглебска, и, одевшись по-солдатски, я вместе с тремя моими эскадронцами поехал в Москву. Супруга моя уже давно жила у родителей в Москве на Садовой-Триумфальной, в доме «пиковой дамы», своей бабушки.
Была весна…
Я уехал из полка одним из последних. Уже уехали офицеры-украинцы, узнав, что у них организуется свое войско под желто-блакитными знаменами. Уехали поляки. Разбежалась молодежь. Старшие офицеры еще чего-то выжидали.
Я покинул Борисоглебск вовремя, – туда вдруг приехала банда матросов-карателей уничтожать офицеров и буржуазию. Они начали с того, что убили жандармского полковника и его сына. Полковник пользовался всеобщим уважением, особенно среди рабочих-железнодорожников, как весьма гуманный человек. Узнав об этом убийстве, наши офицеры попрятались, где кто сумел. Н.И. Парма, Гусаков и еще другие бросились в лес, примыкавший к городу и тянувшийся на многие десятки километров вдоль реки Вороны. Позднее там скрывались орды бандита Антонова. Скрываться в лесу пришлось целую неделю. Родные носили им пищу в условленное место. Тюрьма в городе наполнилась «буржуазией».
Любопытно, что когда в городе буйствовали матросы, в то же время ротмистр Эвальд формировал полки Красной армии, куда призывал вступать и наших офицеров. Начавшаяся в государстве анархия – мать порядка, не знала, что хотела ее левая рука и что делала правая. Гусаков – Белорусский гусар – был женат на Аносовой, племяннице Н.И. Муралова, командующего московским округом, но и он прятался в лесу.
Поезд, в котором я ехал, шел только до Грязей. Там пришлось прожить четыре дня. Уехать нормальным порядком, т.е. взяв билет в пассажирский поезд, было невозможно. Чудовищные толпы солдат и штатских людей ожидали проходящие поезда, желая ехать. Обычным способом, т.е. через дверь вагона, сесть было невозможно. При помощи вооруженной охраны, которую мне дал комендант станции, прапорщик, нам удалось втиснуться в вагон поезда, идущего на Орел. Меня сажали охранники, действуя прикладами и угрожая толпе наганами.
Осмотревшись, я заметил в вагоне четырех человек, одетых в солдатские шинели и папахи. Они сидели смирно, не разговаривали между собой и несколько робко смотрели по сторонам. Я сразу признал в них переодетых немецких пленных, которые, по-видимому, пытались как-нибудь добраться до своих. Война была уже фактически закончена. Брестский мир подписан, и препятствовать им удирать из плена не было смысла. Еще запомнилась группа людей с большевистскими бородками. Они что-то читали и писали, и вслух произносили лозунги, как бы стараясь их лучше запомнить: «Мир хижинам – война дворцам! Мир без аннексий и контрибуций! Земля трудящимся! Национализация фабрик и заводов! Смерть буржуазии!» и т.п. Они ехали на съезд в Москву как делегаты.
Что я знал тогда о большевиках? Очень мало. Я знал, что есть у них Ленин, Троцкий, Н.И. Муралов – командующий московским военным округом, бывший московский губернский агроном, брат Варвары Ивановны Аносовой, жены директора банка в Борисоглебске. В их доме любили музыку, и я там играл с их дочерью в четыре руки. Младший их сын, Коля Аносов, позднее стал известным дирижером5454
Н.П. Аносов – отец известного советского дирижера Геннадия Рождественского. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть]. Этот Коля после Октября написал своему дяде, Н.И. Муралову, письмо, где просил его объяснить, чего хотят большевики? Муралов ответил. Его письмо мы все читали по много раз. На бумаге все было хорошо и гладко. «Большевики не людоеды и хотят справедливого устройства жизни», – писал он. По всему было видно, что письмо писал человек честный, гуманный, искренно верящий в торжество добра над злом. Письмо это оказало на нас влияние. Мы стали более терпимо относиться к большевикам и понимать их. Личность Муралова внушала уважение, также как и вся его последующая деятельность. Лично я искренно сожалел, когда он погиб в 1938 г., осужденный вместе с Пятаковым, Рыковым и Зиновьевым. На суде они «признали», что якобы при помощи поляков и немцев хотели свергнуть Сталина. В уплату за помощь они обещали полякам часть Белоруссии, а немцам прибалтийские области. Муралов в последнем слове признал этот план преступным, и заявил, что бороться со Сталиным надо было другими мерами.
От Ельца мы добрались до Москвы довольно свободно. Подъезжая к столице, мы услышали выстрелы, и когда поезд остановился на перроне Курского вокзала, то никто из вагона не выходил, ожидая, чтобы кончилась стрельба. Вдруг в вагоне появились вооруженные юнцы и стали выгонять всех, требуя скорее выбираться. Они орали, ругались и время от времени стреляли, не целясь. Это была вдохновляющая и запоминающая встреча с советской властью.
В трамвае какой-то господин сугубо интеллигентского вида возмущался: «Никогда Россия не знала такого позора. Не сегод ня, так завтра немцы будут в Москве, и мы будем им низко кланяться». С другого конца вагона раздался юношеский тенорок: «И поклонитесь. Так и надо. У них культура, наука, сила, а у нас тьма, невежество, грязь. Они нас научат, как надо жить». «Позор, позор, молодой человек» – шумел господин. Пока я слушал этот знаменательный диалог, у меня вытащили кошелек с деньгами! Их было не много, но все же… обидно. Так встретила меня революционная Москва.
Я не знал, где находится моя мать и поехал к дяде Александру Александровичу Римскому-Корсакову, который, приехав из Петрограда в Москву, поселился на квартире князя А.Д. Голицына на Спиридоновке, в доме кн. Долгорукой. Там же жила и моя сестра с мужем. Сам князь находился с семьей на Кавказе.
У дяди толпился всякий народ, из тех, кто надеялся, что через две недели большевиков уже не будет. Немцы придут в Москву, свергнут большевиков и «восстановят порядок». Дядя поддерживал в них эту уверенность. Много позднее я узнал, что дядюшка в это время собирал деньги для отправки их царской семье. Он отправлял в Свердловск также офицеров для «охраны» Романовых и организации их побега. Все это было крайне несерьезно, необдуманно и глупо. Но это была деятельность, так нужная тогда дяде, чтобы его никто не мог упрекнуть, что он ничего не сделал для спасения царя и его семьи. Вся эта деятельность прекратилась из-за вынужденного внезапного отъезда дяди из Москвы.
А Москва веселилась, как могла. Летние сады, парки процветали.
Одновременно произошел мятеж левых эсеров, убийство Мирбаха, ликвидация анархистов. Дело в том, что под видом анархистов стали делать налеты на богатых москвичей и бандиты, конечно одетые матросами. Надо было очистить город от преступных шаек. ЧК быстро расправилась с ними.
Я в это время уже жил с матерью и Вершиниными в Волочанове. Там было вполне спокойно и внешне ничего не изменилось, как будто никакой революции и не произошло. Так продолжалось до августа месяца 1918 г., когда неожиданно матери пришлось уехать из Волочанова, после того, как Колька Тростников, председатель Волоколамского совдепа, положил на маму контрибуцию в один миллион рублей.
В Волочанове был организован совхоз и Вершинин назначен его заведующим. Все наше домашнее имущество было роздано рабочим и служащим. Мать, когда уезжала, ничего не взяла с собой. Но вскоре и Вершинину пришлось уехать с Натусей из Волочанова, после того, как его предупредили добрые люди, что Тростников собирается его арестовать. По совету преданного ему кучера Станислава Седлецкого сначала Вершинин отправил партию своих вещей через станцию Княжьи Горы, а с женой Натусей уехал в Москву через Шаховскую. Так кончилась наша связь с Волочановым. Уехала к себе на родину в Венев наша няня Елена Ивановна и позднее умерла там в доме инвалидов. Уехала и Надине (Надежда Андреевна Меймер), наша бонна, а потом завхоз. Уехала она к себе в Пернов (Лифляндия) и никаких потом известий о ней мы не получали. Доехала ли? Все могло случиться с ней в пути, где господствовала разнузданная толпа.
По приезде моем в Москву встал вопрос, где мне работать? Я считал, что война еще не закончена и так или иначе придется принимать в ней участие. Поэтому я подал прошение о приеме меня в Академию Генерального штаба. Мою анкету мне со смехом вернули, сказав при этом, что таким, как я, места в рядах Красной Армии нет. Это меня оскорбило.
Как-то, в одном из летних садов я встретил моего сослуживца по Борисоглебску, изюмского гусара Гольма. Он отвел меня в сторону и спросил, не хочу ли я войти к нему «в пятерку» по борьбе с советской властью? Я ответил, что считаю такое занятие абсурдным и не советую и ему заниматься этим делом.
– Тебе нравятся большевики? – спросил Гольм.
– Нет, мне они не нравятся, но их поддерживает весь русский народ, с которым твоя «пятерка» конечно не совладает. И против тебя – история.
– Трусишь? – сказал он.
Я пожал плечами и ничего не ответил. Гольм, явно раздраженный, отошел от меня.
Немного позднее все эти конспиративные «пятерки» спасителей России были разгромлены и развеяны в прах.
В июле 1918 г. на улицах Москвы появилось объявление, подписанное комендантом города, о том, что все бывшие офицеры (независимо от возраста) обязаны явиться на регистрацию в бывшее Алексеевское военное училище. Началась паника. Стало известно, что все, кто приходит на регистрацию, задерживаются, как арестанты. Мне удалось получить у Н.И. Муралова бумагу, что я вполне лоялен к советской власти и не подлежу задержанию. Когда я и мой знакомый, Докучаев, пошли регистрироваться и подошли к Алексеевскому училищу, то увидели толпу женщин, стоявшую у ворот, которую тщетно пытались отогнать часовые, а за решеткой стояли заключенные, махавшие нам руками и кричавшие – «Уходите!». Но мы все же решились зайти, надеясь на мандаты, выданные нам Мураловым. Нас очень любезно впустили, но когда я показал свое удостоверение, сказали, что отпустить нас может только начальник, в очереди к которому стояло не меньше 200-300 задержанных офицеров.
Мы заняли очередь, но к вечеру продвинулись весьма незначительно. Арестованных было очень много. Как потом стало известно, в Алексеевском училище собралось больше 50 тыс. человек. Начальство явно не учло этого и не подготовилось к принятию такой массы людей, которую надо было караулить и кормить. Все помещения были наполнены людьми. Очень многие расположились на дворе, лежа прямо на земле.
К вечеру очень захотелось есть. Но нас не кормили. Однако мне удалось подружиться с музыкантской командой. Нас там приютили на ночь и накормили хлебом. Всю ночь мы слышали крики на дворе и частые выстрелы. Потом загорелись дома, стоявшие за стенами училища. Было жутко.
На другой день рано на рассвете мы уже заняли места в очереди к начальству и попали к нему лишь в сумерки. Это оказался некто Аросев, помощник Муралова. Лицо суровое, взгляд суровый, презрительная усмешка. Едва взглянув на мое удостоверение, он кивнул курсанту-латышу и тот вывел меня на свободу, радушно сказав: «До свидания». За мной вышел и Докучаев, а с ним еще два паренька Бурдуковы, сыновья заместителя Муралова по командованию Московским военным округом. Мы узнали от них, что эту «регистрацию» придумал Троцкий и предлагал расстрелять всех, кто явится в училище. Это не удалось, благодаря резкому возражению Муралова и других большевиков.
Это «Алексеевское сидение» ясно показало мне, что хочешь – не хочешь, а надо идти служить в армию, тем более, что начались призывы на военную службу. Я узнал, что родственник моих знакомых, полковник Ростовцев, формирует артиллерийскую бригаду под Москвой. Я явился к нему, и он сразу же предложил мне командовать батареей. Я начал отказываться от такого высокого назначения, к которому совсем не был подготовлен, но Ростовцев убедил меня, что формироваться они будут не меньше, чем через полгода, а «за это время многое может измениться в стране», и что помощниками у меня будут опытные унтер-офицеры. Кроме того, я понял, что он очень хотел избавиться от присланного ему из округа командира-коммуниста, рабочего парня, занюхавшегося кокаином, к военной службе никакого отношения до того не имевшего.
Я согласился, получил удостоверение с печатью, что я – командир Первой батареи Первой московской артиллерийской бригады, и поехал в Люблино, где предстояло формироваться батарее, а пока что там проживали на частных дачах человек 30-40 «красноармейцев». При первом же взгляде на них я подумал, что такому сброду городских подонков мог бы позавидовать сам батька Махно. Это была банда разнузданной молодежи, которая, по-видимому, считала для себя удобнее и безопаснее не жить в самой Москве, а хотя бы на время укрыться под шинелью и красными звездами бойцов Красной Армии.
После выстрелов Фанни Каплан начался «красный террор». Никто не мог спать спокойно. Мне пришла в голову неразумная мысль уехать на некоторое время из Москвы и поехать к отцу в Торжок. В дороге у пассажиров два раза проверяли документы «человеки с ружьем». Одну простую женщину, у которой не было ни паспорта, ни документов, высадили. Она плакала и умоляла их оставить ее, объясняла, что она едет к больной дочери. Они кричали и издевались над ней: «Вот мы тебе покажем больную дочку! Ты есть самая гидра контрреволюции!» Никто за нее не заступился. Все пассажиры дрожали…
В Торжке все обошлось благополучно, но только там я понял, что в большом городе лучше можно было бы спрятаться от «красной» опасности. Отца моего не трогали и не беспокоили возможно потому, что он был парализован и не мог ходить. Но вернее потому, что в городе уже знали Ольгу Романовну, мою мачеху, как музыкантшу.
Стояла поздняя осень 1918 г. Батарея не получила еще ни пушек, ни коней, ни обмундирования. Наконец, был получен приказ отправляться в Тамбов, где мы должны были получить все для нас необходимое. Перед отъездом Ростовцев познакомил меня с товарищем очень большевистской внешности, но от которого за тысячу верст пахло офицером белой армии. Он тоже ехал в Тамбов. Ростовцев сказал мне, чтобы мы ехали вместе. «Так будет спокойнее», – и при этом многозначительно улыбнулся. В дороге мой спутник держался очень смело, ругался и спорил с пассажирами, хватался даже за пистолет и шептал мне при этом: «Как я ненавижу всю эту сволочь». Не доезжая до Тамбова, ночью, когда все в вагоне спали, он тихо поднялся со своего места, молча пожал мне руку и вышел. Больше я о нем ничего не слышал.
Этот факт, может быть и незначительный, заставил меня насторожиться и напомнил о бдительности. Оставаться в Тамбове сильно не хотелось. Что я там увидел? Комендант станции дал мне ордер на номер в гостинице. Я обнаружил, что в окнах у нее нет ни одного стекла. Печи не топились – не было топлива. В коридорах смрад и вонь от замерзших на полу человеческих экскрементов и мочи. Почти все номера свободны – выбирай любой, но никакой мебели, кроме топчанов, в них не было. Я стоял в нерешительности – что делать дальше? – когда из соседнего номера вышел какой-то тип и мне строго сказал: «Оправляться, товарищ, только у своей двери. К другим не суйся…»
Военный комендант города сказал мне, что для моих красноармейцев назначено пребывание в казармах бывшего пехотного полка, а для командного состава имеется особняк купца такого-то, где я могу находиться. Действительно, в центре города я нашел красивый двухэтажный купеческий дом. Он стоял пустой, тоже с выбитыми стеклами в окнах и без малейшего намека на какую-либо мебель. Даже не было и топчанов. Я проспал здесь одну ночь на полу среди обломков стекол и штукатурки и наутро попросил у приехавшего Ростовцева разрешения съездить в Москву «за вещами».
Мне окончательно стало ясно, что в Тамбове мне делать нечего и надо удирать. Куда? Я сам еще не знал. Но до этого в Москве я неожиданно встретил бывшего правоведа Н.Л. Славина и узнал от него, что открывается Военно-Хозяйственная академия (интендантская), где его зять Наседкин заведующий учебной частью и что меня, конечно, примут туда учащимся. И вот я решился. Ростовцев без сопротивления откомандировал меня учиться, но при этом заметил: «Смотрите, не пожалейте»… Жалеть мне в дальнейшем не пришлось. Вскоре после моего отъезда из Тамбова Ростовцев был арестован и потом расстрелян. Вместе него был назначен старый кадровый артиллерист капитан Троицкий. Он быстро сформировал батарею и в боях с белыми погиб смертью храбрых.
В те годы, как известно, ездить в поездах было мучительно и страшно. Места доставались сильнейшим. Лезли в окна. Ехали на крышах и буферах. Освещения не было. Ехавшие дрожали за свои вещи. Я оказался прижатым к молодому человеку в солдатской шинели. Вечером, когда все пассажиры стали дремать на своих узлах, мой сосед вдруг спросил меня: «А вы давно не видели Елену Михайловну?». Вся обстановка совсем не располагала к такому вопросу. Я несколько опешил от неожиданности, но потом спросил: «Почему вы знаете, что я знаком с Е.М. Адамович?» «Видите ли, – отвечал сосед, – я тоже, как и вы, любитель балета. Мы с вами не были знакомы, потому что наши орбиты проходили вокруг разных звезд. Но я вас как-то еще до революции видел вместе с Еленой Михайловной, вот почему и спросил».
Оказалось, что мой спутник – студент юридического факультета и готовится быть судебным следователем. Фамилию его я забыл. Прощаясь, он мне сказал, что, кажется, Елена Михайловна живет все там же – на Малой Дмитровке, 25. Я поблагодарил его, и мы расстались.
Я стал припоминать. Пожалуй, года три я не встречался с Еленой Михайловной, хотя и сохранил в душе самое доброе чувство к ней. После революции я ни с кем из балетного мира не встречался. Было как-то не до балета. Но теперь, узнав адрес Елены Михайловны, я решил повидать ее. Встреча произошла на «высшем уровне». Дальнейшее известно5555
Е.М. Адамович, солистка балета Большого театра, в 1918 г. стала гражданской женой автора. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть]…
В Хозяйственную академию, кроме Н.Л. Славина, поступил и Геннадий Карпов, сын брата Вари фон Мекк (жены Волички), и Вася Ненароков, сын сестры Вари.
Состав учащихся (50 человек) был довольно пестрый. Преобладали дети служащих и интеллигентов. Слушали лекции мы на Знаменке в доме армянина-купца, напротив дома Марии Кирилловны Морозовой. А позднее – в аудитории какого-то технического училища на Девичьем поле. Дисциплина была средняя. Одевались, кто во что мог. С большим вниманием и жадным интересом слушали мы лекции Ивана Ивановича Межлаука, начальника снабжения Красной Армии. Он читал нам марксизм-ленинизм, политэкономию и текущую политику. Блестящий оратор, остроумный и смелый, с громадной эрудицией – он окончил два факультета: юридический и филологический. Коммунист-фанатик. Ходил с громадным пистолетом, висевшим на ремне через плечо. Говорил, что расстрелял своего товарища по гимназии, белого офицера, попавшего к нему в плен. Призывал к беспощадному уничтожению всех врагов революции. Ко мне относился с некоторым вниманием. В 1937 г. он был начальником Комитета искусств и потом исчез, также, как и его брат Валерий Межлаук. Это были две крупные и яркие индивидуальности, и конечно они Сталину мешали.
Добираться с Малой Дмитровки на Девичье Поле было нелегко. Трамваи почти не ходили. Аудитории не отапливались. Было голодно. Так прошла зима, а весной (1919 г.), в мае, вдруг Межлаук объявил нам, что завтра в 10 часов утра мы все уезжаем в Петроград на борьбу с наступающим Юденичем. Елена Михайловна только-что протанцевала «Лебединое озеро» и ехать мне очень не хотелось. Но отказаться было невозможно.
По прибытии (через сутки пути) в Петроград, Межлаук объявил нам, что он назначен членом реввоенсовета 7-й армии и поручил мне, Протопопову и Лисицину достать, «где хотим», две полевые пушки, поставить их на железнодорожные платформы и ехать в Гатчину, где будет его штаб.
В Арсенале нам показали кучи разбитых орудий, и мы с большим трудом отобрали одну пушку и водрузили ее на платформу. Но снарядов к ней нам получить не удалось. Так добрались мы до первой станции за Гатчиной, где проходила линия фронта. Там нас встретил очень довольный Межлаук, но пока мы с ним разговаривали, станцию обстрелял гранатами подошедший белый бронепоезд. Мы разбежались в разные стороны, а потом постарались объяснить Межлауку всю вздорность его затеи и доказали ему, что пушка на платформе стрелять может только вперед и беззащитна в случае ее окружения врагом. Мы предложили передать нашу пушку стоявшей рядом батарее и просили нам дать новое назначение. Моих товарищей Межлаук направил служить в отдел снабжения армии, а меня, по моей просьбе, откомандировал в штаб армии для пополнения формирующейся кавалерии.
В штабе я нашел трех молодых товарищей в штатских костюмах, с офицерскими бородками, явно контрреволюционного вида. Они подозрительно глядели на меня, тоже в штатском костюме, а я на них, но беспрекословно направили меня в распоряжение Московского округа.
Это была весна 1919 г. Сталин приехал спасать Петроград от Юденича и стал без разбора уничтожать бывших офицеров царской армии, ставших командирами в Красной Армии. Он расстрелял начальника артиллерии (бывшего генерала), начальника инженерного управления полковника И.Л. Балбашевского, отца моего товарища. Погибло много офицеров «с бородками», в том числе муж Нины Ивановны Балбашевской, а ее саму арестовали и отправили в Бутырки. По улицам Петрограда гнали толпы арестованной «буржуазии», в основном стариков и старух. Матросы топили «буржуев» на баржах в море (так погиб отставной полковник Мезенцев Борис Петрович). Часы были переведены на три часа вперед. Солнце заходило во втором часу ночи. Было страшно. Паника овладела всеми.
У меня был браунинг и разрешение на него, выданное московской ЧК. Но я решил, что лучше от него отделаться. Но как это сделать? Обсудив с моим приятелем Ю.А. Шапориным это дело, мы решили, что пистолет надо спрятать… в фойе театра оперетты (над Елисеевым). С одним из знакомых актеров мы засунули этот пистолет в стенные часы в фойе (!), и я помчался в Москву. Смешно и глупо!? А тогда было не до смеха…
В Москве я узнал через Н.Л. Славина, что его брат, ротмистр Нарвского гусарского полка, поступил инструктором в Отдел по формированию кавалерийских частей Главного штаба. Инструкторами в Красной Армии назывались командиры. Они различались по красным нашивкам на обшлагах воротника и на левом рукаве.
Начальником этого отдела был назначен некто А.А. Тамарин, личность незаурядная, с большой долей авантюризма. По профессии Тамарин был журналист. Он прославился тем, что первый сообщил в газету «Русское Слово» об отречении Николая. Он говорил, что он татарин, что служил в «дикой дивизии». Все это вздор. Как позднее выяснилось, это был крымский еврей Грузенберг (или что-то вроде этого). По секрету каждому он сообщал, что он князь Ширинский. Внешность, впрочем, у него была азиатская, манеры – «под офицера». Собирал и продавал старинные вещи. Женщин не избегал. Он убедил Реввоенсовет в желательности формировать национальные татарские полки кавалерии. Поэтому у него было при штабе зеленое «знамя пророка», а работники штаба носили зеленые нашивки с полумесяцем и красной звездой. Место формирования отдела было сначала Казань, а потом Сарапуль.
Работников отдела Тамарин набрал крайне разношерстных. Здесь собрались в основном те, кто хотел пережить бурное и опасное время гражданской войны в наиболее удобных, спокойных и, главное – безопасных условиях. Заместитель Тамарина считался, и только считался, Крылов – бывший генерал-майор, служивший ранее где-то на Востоке. Он держался в стороне от всех и от всего, что делалось в нашем отделе, или, как он назывался официально: «Особый отдел по формированию кавалерийских частей Красной Армии при Реввоенсовете». Пытался оказывать влияние на Тамарина Малышев, бывший армейский капитан пехоты, человек с характером и неглупый. Он первый, кажется, понял, что Тамарин авантюрист, и поспешил перевестись куда-то в Москву. Это был нумизмат и коллекционер и, кажется, больше его ничего не интересовало.
Был еще П.В. Алексеев, из богатых московских купчиков – любитель спорта, ловкач и пройда, умел обделывать свои делишки к своей выгоде. После Тамарина он был назначен начальником отдела и, не скупясь, подкармливал нашего комиссара, в чем деятельное участие принимала его супруга – из очень буржуазной семьи.
Колоритной фигурой был Иммерман, сын известного московского портного-еврея. Он пытался изображать из себя татарина, но это плохо ему удавалось. Он смотрел на свое пребывание в отделе как на удобный плацдарм для спекуляции, чем Бог пошлет. Когда Юденич подходил к Петрограду, он мне шепнул: «Придерживайте у себя «керенки», так как потом (т.е. после падения советской власти) советские деньги ничего не будут стоить». Был еще один еврей (фамилию забыл) из московских спекулянтов. Он держался тихо, стараясь никому не попадать на глаза. И он и Иммерман, очевидно, были приняты Тамариным в отдел за солидное вознаграждение.
Отдел не мог обойтись без комиссара, и Тамарин был озабочен, где ему найти такого комиссара, который не мешал бы ему заниматься коммерческими делами, для чего, очевидно, и был им сформирован наш «Особый отдел». Н.Л. Славин предложил Тамарину своего знакомого, А.А. Штанге, товарища его брата по Училищу Правоведения. Штанге в первую германскую войну был преображенцем и летчиком, служил и в «дикой дивизии», и после революции вступил в партию и служил в юридическом отделе Комиссариата по Иностранным делам. Тамарину очень понравилась анкета Штанге, его боевое прошлое, да и он сам, так как А.А. обладал счастливой способностью располагать к себе людей – и больших, и малых. Я тоже хорошо знал Штанге по Правоведению, и мы были в добрых отношениях, хотя смотрели на многое по-разному.
Канцелярия штаба состояла из зеленых юнцов. Все они были архипролетарского происхождения, сыновья рабочих Камвольной Даниловской фабрики, хозяином которой, как известно, до революции был К.С. Станиславский (Алексеев).
Надо сказать еще об А.М. Вертоградском. Это был единственный в отделе подлинный кадровый кавалерист-профессионал. Он держал себя со всеми крайне корректно, но ни с кем не сближался и был полностью погружен в свою службу. Именно поэтому ему и было поручено формирование бригады Красной Кавалерии. Это был тихий и весьма скромный человек. О нем тепло отзывается Жуков в своих «Воспоминаниях». Когда будущий маршал командовал 4-й кавалерийской дивизией, Вертоградский был там начальником штаба. О нем и я сохранил самое приятное воспоминание.
Тамарин принял меня на службу в свой отдел без особого удовольствия и, как я думаю, рассчитывал на меня «на всякий случай»: если произойдет какая-либо перемена, тогда мои связи в старом мире смогут ему пригодиться.
Весной 1920 г. было объявлено, что кавалерийская бригада при отделе будет формироваться в селе Колпна, Орловской губернии, а штаб остается в Москве.
Когда я прибыл в Колпну, то нашел там с сотню красноармейцев и несколько командиров, которые томились от безделья, так как не было еще ни коней, ни оружия, и люди предавались приятному отдыху в приятной и, главное, сытой обстановке. Бригадой командовал старый кавалерист, полковник (фамилию забыл). На одной из его дочерей был женат бывший поручик Римский-Корсаков, с которым мне не удалось познакомиться. Он был в командировке. Еще был очень милый бывший ротмистр В.П. Пеньков (жена его – певица Большого театра, дочь А.Ф. Арендса). Одним из эскадронов командовал Брусилов, ротмистр гвардейских Конных гренадер, сын известного генерала. Он держал себя как-то отчужденно и замкнуто.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































