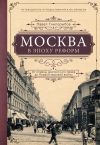Автор книги: Григорий Джаншиев
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
В № от 26 февраля той же газеты напечатана была горячая, но вычурная статья бывшего дворового М. П. Погодина, тоже стремившаяся к подготовке народа к предстоящему событию. Начинается она так: «Русские люди, русские люди, на колени! Молитесь Богу! Благодарите Бога за это высокое несравненное счастье, за это безмерное (беспримерное?) в летописях ощущение, которое всех нас ожидает, за эту великолепную страницу, которою украсится отечественная история».
Затем Погодин, подделываясь под ломаный народный язык раешника, продолжает так: «Хотите ли, я расскажу вам, как все это будет? Крестьяне в назначенный день нарядятся в свои кафтаны, пригладят волосы квасом, пойдут с женами и детьми в праздничном платье молиться Богу. Из церкви крестьяне потянутся длинною чередою к своим помещикам, поднесут им хлеб-соль и, низко кланяясь, скажут: «Спасибо вашей чести на том добре, что мы, наши отцы и деды от вас пользовались: не оставьте нас и напередки вашею милостью, а мы навсегда ваши слуги и работники»… «Крестьяне пойдут, – продолжает Погодин свою приторную маниловщину, – с хлебом-солью не только к добрым[251]251
Об соотношении между добрыми и недобрыми помещиками мы находим некоторые любопытные указания в речи Николая I, сказанной в 1848 г. дворянам (см. выше). Объявив, что слухи об освобождении крестьян нелепы, Николай I обращал внимание их на злоупотребления помещичьею властью. «На 50 дворян, – сказал он, – 15 хороших, 25 порядочных, 10 негодных», т. е. 20 % (см. Материалы, I, 77). На чем основаны эти гадательные данные, неизвестно. Один крепостник смотрел на крепостное право более оптимистически; по его уверению, дурных помещиков все 2 %, и им нужно внушить страх Божий и евангельскую любовь и… больше ничего! – (Русск. Стар., 1897. № 9. С. 19). Некоторое представление о том, каково жилось у «добрых» помещиков средней руки, т. е. таких, которые в своей среде признавались порядочными людьми, дают Записки Д. Н. Свербеева (Москва, 1899), принадлежавшего к числу таковых и, конечно, стоявшего за крепостное право. Он передает, как об явлениях заурядных, о продаже на фабрики, в рекруты, даже даче приказным взяток крепостными. Отец Свербеева был масон, старавшийся быть справедливым в отношении к своим крестьянам, которых он называл «Богом и государем данные ему подданные». Человек вспыльчивый, раздражительный, он всегда старался сдерживать себя, не поддаваться гневу. Он никогда «не дрался с людьми из собственных рук, – пишет его сын, – и у нас не было тех тяжких истязаний и тех орудий казни над крестьянами, которые мне случалось встречать даже в сороковых годах и у лучших соседних помещиков. У нас и в заводе не было, чтобы тяжко провинившимся брили половину головы и половину бороды и не позволяли им отращивать волосы до помилования; у нас не существовали в конторе колодки, к которым приковывались виноватые, и не надевали на них ошейников. Без розог дело не могло, конечно, обходиться, но это были обыкновенные занятия управляющего с конторою». Указав на то, как его отец все-таки позволил себе очень произвольное действие: отобрав из новокупленного имения с сотню крестьян дурного поведения, он переселил их на свою землю под Кременчугом и там продал с землею, Д. Н. Свербеев говорит: «Это доказывает одну святую истину, что и лучшие помещики не могли не злоупотреблять крепостным правом» (I, 29). А до каких чудовищных размеров могло доходить у дурных помещиков опьянение патриархальным крепостным самовластьем, можно судить по следующему образчику: «Малоархангельский помещик Михаил М-нев запряг свою голую жену в тарантас, а девок, тоже голых, на пристяжку и на вынос, да и поехал на сенокос, где и велел всех голых девок и жену мужикам на корде гонять. Подвернулся женин брат, медик, он его до полусмерти иссек на конюшне и челюсть переломил ему». Дальше в письме сообщается, что этот дикий человек в конце концов «предан суду за разорение крестьян, за вынуждение крестьянских жен и дочерей к разврату и за жестокое обращение как с ними, так и с женою своею, которую он травил собаками, выворачивал ей руки, вырвал ей все волосы с головы и ударами раздробил челюсть» (Русск. Стар., 1898., ноябрь).
[Закрыть], но и к недобрым помещикам, ибо в семье не без урода, а кто старое помянет, тому глаз вон». Статью свою Погодин заканчивает пожеланием, чтобы из первых копеек вольного труда, по объявлении манифеста добытых, собрана была сумма, и поставлена в Москве на память потомству церковь во имя Александра Невского. «Там, – заключает Погодин, – должна теплиться во веки веков неугасимая лампада; там должна воссылаться молитва за благодушного Царя, который вместо Юрьева дня, скорбной для крестьян памяти, дарует крестьянам и дворянам, купцам и мещанам и духовенству прекрасный Александров день»[252]252
Чествование «Александрова дня» местами, в Москов. губ., вошло в обычай между крестьянами. Он празднуется 30 августа. Официальное празднование «19 февраля» доселе еще не установлено, хотя всего уместнее было приурочить его к установленному в 1896 г. празднованию Александра Невского – в честь Царя-Освободителя. При мин. внутр. дел гр. Д. А. Толстом воспрещено было общественным учреждениям чествование 25-летия освобождения крестьян, и вообще администрация смотрела косо на всякие сочувственные манифестации 19 февраля по поводу годовщины объявления воли. Не лишено назидательности, что родственный гр. Толстому по духу ретроград-крепостник граф Закревский тоже запретил в 1858 г. московской интеллигенции празднование 19 февраля.
[Закрыть]. К числу подготовительных мер относилась и командировка в губернии свитских генералов и флигель-адъютантов полковничьего чина, коим велено было состоять при губернаторах и способствовать скорейшему объявлению манифеста.
2 марта без предварительных повесток созвано было общее собрание Сената в присутствии и. д. министра юстиции Д. Н. Замятина. Сенату прочитан был манифест 19 февраля, затем он был положен в министерский портфель и обратно увезен, причем сенаторам было внушено хранить строжайшее молчание. Сенат подал Государю благодарственный адрес. Адрес был принят, но приказано было не печатать.
С такою чрезвычайною таинственностью, с такою-то мрачною сосредоточенностью готовилось растерявшееся, встревоженное правительство ко встрече светлого, радостного дня провозглашения свободы, при наступлении которого у бедного Иванушки впервые, по выражению его истинного друга, М. Е. Салтыкова, должно было «весело взыграть сердце», и впервые он должен был «засмеяться» под бодрящим впечатлением «пахнувшего на него свежего воздуха»!..
§ 2. Объявление волиСегодня (5 марта) лучший день моей жизни.
Александр II
Дожили до этого дня, а все не верится, и лихорадка колотит, и досада душит, что не на месте.
Из письма Тургенева к Герцену
Если бы было возможно, мы бросили бы все и поскакали бы в Россию. Никогда не чувствовали мы прежде, как тяжела жертва отсутствия.
Герцен
Редко или, лучше, никогда еще смертному не доводилось совершить дело столь важное и благородное, как то, которое совершил Александр II, возвративший одним почерком пера 23 миллионам их права.
Kolnische Zeitung
Настал, наконец, давно желанный, благодатный, ясный[253]253
В указанных Воспоминаниях «Старого гвардейца», напротив, говорится, что целый день шел снег. Но, очевидно, память изменяет автору, который самый день объявления манифеста относит то к 19, то к 26 февраля (см. Русск. Арх. 1892. № 1). Другие очевидцы передают, что 5 марта был один из тех светлых дней, которыми так редко балует холодная северная весна и которые в силу этого обстоятельства особенно бывают дороги и памятны (см. «Материалы». Т. III. Дневник А. В. Никитенко в Русск. Стар. 1891. № 1 и Г. Д. Щербачева в Русс. Арх. того же года. № 1).
[Закрыть] день 5 марта, великий день объявления воли, которого народ русский с изумительным долготерпением ждал ровно 99 лет[254]254
Известный историк русского законодательства проф. И. Д. Беляев указывает, что скоро после манифеста Петра iii от 18 февраля 1762 об освобождении дворян от обязательной службы ждали с полным правом крестьяне отмены крепостного права, существование коего обусловливалось этою службой, и, так как ожидание не оправдалось, начались беспорядки. «Крестьяне на Руси» И. Д. Беляева, 275–277. См. там же, 258.
[Закрыть]!..
По наружному своему виду Петербург не представлял собою ничего особенного. Это было Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, стало быть, большое оживление на улицах было естественно. Никаких внешних, видимых, чрезвычайных мер к охране столицы не было принято генерал-губернатором Игнатьевым, несмотря на то, что он, как и шеф жандармов кн. Вас. А. Долгоруков, будучи противниками освобождения, с нескрываемою тревогою и злорадством ждали его осуществления. Обстоятельство это тем более бросалось в глаза, что тот же Игнатьев года полтора назад настоял на принятии чрезвычайных мер предосторожности, ввиду исполнившегося 8 сентября 1859 г. совершеннолетия наследника престола и ожидавшегося волнения народа, который ждал «воли» в этот день[255]255
По инструкции, составленной Игнатьевым, петербургский обер-полицеймей-стер должен был распоряжаться на улицах, а сам генерал-губернатор Игнатьев, не отличавшийся, как передают, большею храбростью, безотлучно находился при особе Императрицы в Зимнем дворце. Петербургские полки были соединены по телеграфу; загородные тоже были наготове. Городовые вооружены револьверами (см. «Материалы», II, 129).
[Закрыть]. Такое «бездействие власти» тем более казалось странным современникам, что в тот же день в Москве пешие и конные патрули с заряженными ружьями ходили целый день и даже заходили в трактиры. Но бездействие петербургской власти, как узнаем из появившихся теперь воспоминаний старого гвардейца, было только кажущееся. На самом деле военным генерал-губернатором Игнатьевым 4 марта была разослана по полкам инструкция с подробным означением, какие полки в какие именно полицейские части города следует отрядить; полкам велено было никуда не отлучаться и быть 5 марта все время наготове[256]256
См. Материалы, III, 180. Русск. Стар., 1892. № 1.
[Закрыть]. Сам Игнатьев находился весь день 5 и 6 марта в Зимнем дворце при Императрице.
Бывший на дежурстве 5 марта в Зимнем дворце свитский генерал так описывает впечатления и настроение этого дня: «Лица, собравшиеся в Зимний дворец в ожидании Государева выхода, были, очевидно, неспокойны. Послышался глухой гул, как бы выстрел; генерал-губернатор посылает узнать, что такое, и ему докладывают… что глыба снега скинута с дворцовой крыши. Через несколько времени послышался колокольный звон; опять опрометью мчится фельдъегерь и, возвратившись, докладывает… что звонили у Исаакия по случаю похорон какого-то священника»[257]257
См. там же.
[Закрыть].
Однако, как и следовало ожидать, страхи и тревоги были напрасны. В Петербурге в церквах с амвона прочитана была благая весть о свободе. Манифест был также афиширован и на стенах. В некоторых церквах послышалось ура, но в большинстве случаев был он выслушан молча и даже с некоторым недоумением[258]258
См. н. Воспоминания Щербачева в Русск. Арх. В этот день, как отмечает официальный Истор. Обзор, по любопытному совпадению читалось за литургиею, так хорошо шедшее к событию дня, место из Послания к римлянам: «Братие! Нощь убо прейде, а день приближается. Отложим убо дела темные и облечемся в оружие света» и проч. (см. н. приложен, к Ж. М. Вн. Д.).
[Закрыть]. На людей интеллигентных, радовавшихся освобождению народа, произвел неблагоприятное впечатление холодный, витиеватый тон манифеста и официальное выхваление доблести дворянства, якобы добровольно[259]259
Член Главного комитета гр. В. А. Адлерберг сказал: «С первого слова ложь», – и решительно отказался подписать ст. i проекта Полож. о крест., где говорилось, что крепостное право отменяется «по желанию дворянства», и слова эти были вычеркнуты. (См. н. Материалы, III).
[Закрыть] отказавшегося от крепостного права, между тем как совершенно игнорировалось достойное, полное выдержки и такта поведение крепостного населения, засвидетельствованное не раз и имевшее колоссальное значение для хода и исхода реформы. «Я не могу не удивляться и не радоваться, – говорил Александр II в своей известной речи в заседании Государственного совета 28 января 1861 г., – и уверен, что и вы все также радуетесь тому доверию и спокойствию, какое выказал наш добрый народ в этом деле»[260]260
См. выше речь Александра II, а также отзыв Салтыкова.
[Закрыть]. И об этом замечательном событии, которое с любовью отмечено было в первоначальном проекте манифеста, ни слова не говорилось в его новой редакции[261]261
Здравый народный смысл, между прочим, говорилось в Самаринском проекте, не увлекся ни ложными опасениями, ни несбыточными надеждами (см. н. сб. Семенова. Т. III. 4.1. С. 3–8). Вопреки уверению г. Семенова, видящего в Фила-ретовском произведении не одно, а даже несколько совершенств (sic) и рекомендующего его «как образец для составления подобных государственных актов» (см. н. сб. Семенова. Т. III. 4.2. С.783), – по единогласному свидетельству всех современников, слышавших чтение манифеста и наблюдавших впечатление, им произведенное, следует признать, что именно следует избегать такого «образца» при составлении государственных актов. Если даже и образованные люди выносили очень смутное впечатление при чтении этого неуклюжего, черствого, объемистого документа, то не трудно понять, какой образовался сумбур в головах массы крестьян при слушании этого растянутого «образца» приказносеминарской риторики и многословия (см. Воспом. миров, посред. г. Крылова в Русс. Старине, 1892. № 4 и Дневник конторщика в Русс. Арх., 1897. № 9. С. 134).
– И. С. Тургенев в письме своем А. И. Герцену, не зная истории составления манифеста, так передает свое впечатление по прочтении этого акта: «Самым явным образом он написан был по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем. Вот фразы вроде «благодетельно устроят» и «добрые патриархальные условия»– которых ни один русский мужик не поймет. Но самое дело он раскусит, и дело это устроено, по мере возможности, порядочно». «Мы здесь (в Париже), – продолжает Тургенев, – третьего дня отпели молебен в церкви и поп произнес нам краткую, но умную и трогательную речь, от которой я прослезился, а Н. И. Тургенев чуть не рыдал. Тут же был и старый кн. Волконский (декабрист). Много народа перед этим ушло из церкви… – Дожили до этого дня, а все не верится, и лихорадка колотит и досада душит, что не на месте». (Письма к Герцену. Женева, 92,141). Манифест 19 февраля был напечатан в том же 1861 г. на польском, финском, латышском, шведском, еврейском, татарском и армянском языках (см. Крест, вопр. Межова. СПб., 1865. С. 180–181).
[Закрыть].
На народ манифест не произвел особенно сильного впечатления, благодаря отчасти своему тяжелому книжно-официальному слогу, отчасти очень большому объему и обилию мелких подробностей. Только одно место в манифесте, где говорилось: «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и благо общественного», – только это теплое место затрагивало сердечные струны, и все невольно осенили себя крестом.
Но общий смысл манифеста и совершившегося великого[262]262
«Матушка не могла поехать в церковь в день объявления манифеста, – пишет помянутый гвардеец, – потому что кучер явился к ней и с плачем объявил, что в такой великий для всех день ему невозможно работать» (Русс. Арх., 1892. № 1).
[Закрыть] и радостного для народа события был слишком для него ясен и, конечно, не мог не произвести на него глубокого впечатления. Однако напрасно мы стали бы искать внешних проявлений, сколько-нибудь соответствующих глубине этого потрясающего чувства и величию пережитого народом исторического момента. Объясняется это, во-первых, обычною сдержанностью народа и отсутствием у него органов и способа для проявления своих чувств и мыслей, а во-вторых, робостью, забитостью, неуверенностью народа, издавна привыкшего быть в качестве animae vilis объектом бесцеремонной расправы со стороны начальства[263]263
«В самый великий, священный для народа день объявления свободы петербургская полиция выпорола двух дворников, вся вина коих состояла в том, что они в трактире говорили незадолго до 5 марта о подписанной Государем воле» (см. Русс. Стар., 1891. № 1. С. 71).
[Закрыть] и стесненного в проявлении даже вполне легальных чувств. Так, по рассказу современника, народ, стоявший около манежа, где Государь сам лично прочел манифест 16 февраля, снял шапки, когда показался Государь, но ура не смел кричать, не имея на то разрешения полиции[264]264
См. н. Материалы, III, 190. – О личном настроении Виновника праздника кн. Мещерский говорит следующее: «То, чего не пришлось найти 32 года назад в обстановке и в настроении молящихся Исаакиевского собора, – писал он в 1893 г. в Гражданине, – то многие из нас увидели в этот день в лице Виновника торжества: выражение праздника. Сколько ясной радости, сколько душевного довольства было ярко написано на благородном лице Преемника Николая Первого в этот день, когда свершилось то, чего не решился сделать, легко сказать, кто: Николай I… Ни одна тучка не омрачала ясного неба (sic) на лице счастливого дарованным народу счастьем Монарха. Я в этот день, помню как вчера, видел лиц, присутствовавших при той трогательной сцене, когда на Сенатской площади (?) толпа благодарного народа впервые поднесла хлеб-соль своему Царю-Освободителю от освобожденных Им от крепости крестьян. Сии свидетели говорили об этой сцене со слезами умиления и прибавляли, что, право, им казалось, что Государь и Наследник его окружены были сиянием, до того светлы были и их лица, и лица народа. В тот же день, как рассказывали тогда, счастливый Монарх пошел навестить свою дочь, малолетнюю великую княжну Марию Александровну, и, сияя от радости, целуя ее, сказал, что сегодня – лучший день его жизни» (20 февраля 1893 г.).
[Закрыть]. Впрочем, были моменты, когда народ, не будучи в силах сдержать наплыва восторженного чувства благодарности и забыв страхи перед всякими начальствами, встречал Царя-Освободителя такими громогласными и идущими от сердца кликами «ура», которые могли издать лишь люди, впервые свободно, по-человечески вздохнувшие после многовековой злой неволи. Эти сияющие, радостные лица народа, впервые дождавшегося после трехвекового томления рабства светлого праздника на своей улице, эти стихийные взрывы сдержанного, но неудержимого восторга, эти пламенные громогласные вспышки беспредельного народного ликования навсегда запечатлелись в уме и сердце имевших счастье видеть и слышать их.
«Было 2 часа пополудни, – рассказывает один из этих счастливцев, – на Царицыном лугу было народное гулянье; плац был полон народом. Издали послышались крики «ура». Государь ехал с развода. По мере того как Он приближался, крики «ура» становились громче и громче; наконец, когда Государь подъехал к плацу, толпа заколыхалась, шапки полетели вверх, раздалось такое «ура», от которого, казалось, земля затряслась. Никакое перо не в состоянии описать тот восторг, с которым освобожденный народ встретил своего Царя-Освободителя. Я счастлив, – пишет автор воспоминаний, – что мне пришлось в моей жизни видеть этот народный энтузиазм, не поддающийся описанию»[265]265
См. Воспоминания Г. Д. Щербачева в № 1 Русс. Арх., 1891.
[Закрыть].
Другой из современников, профессор и цензор А. В. Никитенко под 5 марта пишет в своем Дневнике: «Великий день: манифест о свободе крестьян мне принесли около полудня. С невыразимо отрадным чувством прочел я этот драгоценный акт, важнее которого вряд ли есть в тысячелетней истории русского народа. Я прочел его вслух жене моей и детям в кабинете пред портретом Александра II, на который мы все взглянули с глубоким благоговением и благодарностью. Моему десятилетнему сыну я старался объяснить, как можно понятнее, сущность манифеста и велел затвердить ему навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя. Я не мог усидеть дома, продолжает Никитенко. Мне захотелось выйти побродить по улицам и, так сказать, слиться с обновленным народом. На перекрестках наклеены были объявления от генерал-губернатора, и возле каждого толпились кучки народа; один читал, другие слушали. Везде встречались лица довольные, но спокойные… Из знакомых я встретился с Галаховым (ученым). – Христос воскресе! – сказал я ему. – Воистину воскресе! – отвечал он, и мы взаимно передали друг другу нашу радость. Потом я зашел к Ребиндеру. Он велел подать шампанское, и мы выпили по бокалу в честь Александра II». Мы поймем эту наивную, юношескую экспансивность пожилого ученого, если примем на вид, что он радовался объявлению воли и как просвещенный гражданин, и как бывший раб, сам познавший всю горечь и стыд крепостного бесправия[266]266
Русс. Стар., 1891. № 1. До 20-летнего возраста Никитенко был (как и Погодин) крепостным кавалергарда гр. Шереметева, владевшего 150000 душ. Никитенко, получивший солидное образование, рассказывает подробно мучительные перипетии, предшествовавшие его освобождению из позорной неволи и поступлению в Петербургский университет. Любопытная игра судьбы! Никитенко выдвинула и приуготовила освобождение та самая клерикальная реакция, которая имела в виду укрепление крепостного феодального строя жизни. «Созданный Меттернихом Священный союз, – пишет сам Никитенко, – имел в виду противодействовать идеям, возбужденным французскою революциею, т. е. парализовать движение народных масс к свободе, к обузданию феодального произвола, к установлению великого начала, что не народы существуют для правителей, а правители для народов. Это был настоящий заговор против народов. Не пренебрегая никакими средствами, союз призвал к себе на помощь и религию или, вернее, ту часть ее, которая была с руки ему: о смирении и повиновении. Любопытно, что и в наши дни обскуранты тоже признают за народом единственный “великий талант” —повиновение» (см. прим. П. Б. в Русс. Арх., 1877. № 9. С. 136). «Обходя идею братского равенства, составляющую главную суть учения Христа, он недобросовестно держался только буквы известных истин, которые, взятые в отдельности, всегда могут быть по произволу искажены. Так поступали обскуранты всех времен. Они пользовались религиею, как средством для отупения умов (с. 151–152)». Затем Никитенко рассказывает, как он попал в секретари одного из библейских обществ, созданных тогдашним реакционным движением, и как речь его, крепостного, пленила главу реакции кн. А. Н. Голицына, начавшего хлопотать у гр. Шереметева. Никитенко получил вольную в 1824 г.» причем много помог ему будущий декабрист Рылеев (см. Записки и Дневник Никитенко, 1873. Т. I. С. 160–173).
[Закрыть]!
Великий день 5 марта прошел вполне спокойно.
Любопытная вещь! Опасались народных волнений, и что же? День объявления как будто нарочно пригнали на Прощеное воскресенье, когда народный масленичный разгул и буйство достигают высшего размера. Был ли тут затаенный расчет со стороны крепостников, жадно ждавших возможности запугать беспорядками Государя и эксплуатировать народные волнения в своих интересах, или невероятная непредусмотрительность тонких, но ничего не смысливших в народной психологии администраторов, но отрадно отметить, что сам великий именинник 5 марта, освобожденные крепостные, еще раз осрамили гнусные расчеты крепостников и выручили несообразительное начальство своим достойным, исполненным такта и самообладания, поведением, страдавшим скорее излишнею сдержанностью, нежели избытком экспансивности. Легко представить, как сладко и радостно должны были вздохнуть эти измученные жестоким произволом крепостные, ежедневною, ежеминутною мелкою домашнею тираниею дворовые, едва верившие выпавшему на их долю счастью! А между тем они сдерживали себя и таили в сердце охватившие их радостные чувства. Народ не только не «бунтовал», вопреки мрачным, но бессмысленным опасениям дальновидной полиции, но даже не дозволял себе шумных внешних излишеств в изъявлении своей радости, которые были, однако, так естественны, скажем более – законны и почтенны в такой исключительный счастливый день, как день уничтожения рабства и возвращения человеческого достоинства! Сызмальства привыкший под давлением двойной ферулы крепостного права и начальственного произвола сдерживать себя в проявлении вовне самых святых и заветных чувств, освобожденный раб не имел духа и воли отдаться свободно охватившему его ликованию, подобно больному, не могущему расправить свои члены, парализованные долгой болезнью. Даже самого Творца своей свободы и счастья, Царя-Освободителя, народ, как уже замечено, не всегда смел открыто приветствовать, не имея на то прямого разрешения начальства.
Еще больше обманул народ дрянные расчеты «его сивушества Полугарова, всех кабаков и выставок беспечального обладателя», по выражению Салтыкова, расчеты откупщиков. Кто о чем, а откупщик в этот день думал только об одном, как бы побольше народа споить своею гнусною отравою и сорвать барыши с этого редкого народного праздника. И без того большие запасы водки, делавшиеся обыкновенно для последнего дня Масленицы, были на сей раз еще более увеличены. Но, увы! – расчет оказался ошибочным: народ, как бы сговорившись, счел неуместным предаваться в такой великий день пьяному разгулу и откупщики потерпели убыток, не успев даже выручить суммы, обычной для Масленицы.
В последующие дни манифестации в Петербурге имели более правильный, но не менее грандиозный характер. Фабричные окрестностей Петербурга прислали к генерал-губернатору Игнатьеву депутацию с просьбою разрешить подать Государю адрес и хлеб-соль. Игнатьев принял их очень грубо и отказал наотрез. Тогда депутация заявила, что она обратится к министру двора Адлербергу, и Игнатьеву пришлось поневоле разрешить депутации подать хлеб-соль. Фабричные явились в числе 20 тысяч на площадь Зимнего дворца и подали Государю Императору хлеб-соль, но адрес не был принят[267]267
См. Материалы, III, 194.
[Закрыть].
Спустя неделю после объявления манифеста, 12 марта, тысячи крестьян, фабричные и ремесленники, отслушав литургию в Александро-Невской лавре, отправились с женами и детьми к Зимнему дворцу и, поднеся хлеб-соль, подали адрес следующего содержания:
«Всемилостивейший Государь!
Фабричное и ремесленное население столицы Твоей, проникнутое сознанием счастия, которым оно обязано Твоему великодушию, приходит ныне излить пред Тобою чувства беспредельной благодарности и преданности верноподданнической.
Единственный из Монархов! Ты соблаговолил день Твоего самодержавного воцарения соделать днем свободы народной, и мы все знаем, насколько в этом деле нашего освобождения принимало участие Твое вселюбящее сердце. Мы пришли благодарить Тебя за права гражданские, которые Ты даровал нам, за жизнь, которую Ты обновил для нас, за наше настоящее счастие, которого не знали отцы и деды наши, за будущее счастие наших детей и внуков.
Мы знаем, Государь, что, получая новые права, мы должны принять на себя новые обязанности, и обещаем Тебе соделаться достойными великого дара, ниспосланного нам Твоею державною волею.
Мы просим Бога под Твоим благотворным царствованием прославить и возвеличить любезное отечество наше, мы молим Его, Всемогущего, сохранить нам надолго драгоценные дни Твои, чтобы Ты Сам видел и вкусил плоды Твоего насаждения и, окруженный всенародною любовию, долгое время наслаждался счастием Твоего свободного народа!»
В ответе своем[268]268
Любопытен рассказ об этой аудиенции, напечатанный со слов одного из крестьянских депутатов в С.-Петербургских Ведомостях.
«Братия! – писал депутат, – великое дело нам пришлось совершить для нашей общей пользы и признательности, которую мы изъявили первые из числа двадцати трех миллионов освобожденного народа Государю Императору.
Это сочувствие и признательность наша шибко прогремит во всей нашей России и даже будет известна за границей, в иностранных землях.
Первые слова Государя Императора к нам:
– Здравствуйте, дети!
– Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!
– Мы пришли благодарить Тебя, Государь, за свободу, которую Ты даровал нам. Удостой принять хлеб и соль от трудов наших.
Его Величество перебивает нашу речь своим словом:
– Благодарю вас, дети, за сочувствие ваше, которое стоило немалого труда. Поняли ли, дети, что для вас сделано, в пользу вашего общего блага, Мною в объявленном вам Манифесте?
– Мы чувствительно благодарим Ваше Императорское Величество за Ваши великие благодеяния, которыми Вы обновили жизнь нашу.
Его Величество: —Это было начато еще Моим Родителем, но Он не успел его кончить при своей жизни. Мне пришлось с помощию Бога совершить оное дело, для блага вашего. Но вы, дети, теперь должны благодарить Бога и молиться о вечной памяти Моего Родителя, и самим вам, всем вообще, всем быть полезным для блага отечества. Благодарю вас; Я доволен вами». (Москов. Вед., 1861. № 94).
[Закрыть] Государь заявил, что освобождение это всегда было желанием и заботой Родителя его, который уже приступил к этому делу, и затем дал депутации добрые, отеческие наставления насчет христианского, честного и правильного образа действий, которому освобожденные крестьяне должны оставаться верными, если хотят нести в свободном состоянии своем все преимущества, какие оно может им дать[269]269
Напрасно мы стали бы искать в газетах того времени следы этого народного ликования и энтузиазма. Только через неделю появилась не столько для России, сколько для Европы, в Journal de St.-Petersbourg следующая заметка об одной из народных сцен, бывшей на Дворцовой площади перед Зимним дворцом: Государю представилась депутация мастеровых и крестьян, которая отделилась от толпы, собравшейся на площади в числе нескольких тысяч, и выразила в простых и трогательных выражениях признательность свою за освобождение от крепостной зависимости. Приведенный адрес также был напечатан в Journ. de St.-Petersbourg. Мы заимствуем его из Москов. Вед., напечатавших «перевод» в № от 17 марта. По всей вероятности, это тот самый адрес, который не был принят раньше.
[Закрыть].
Так спокойно прошли в Петербурге эти незабвенные исторические дни, ожидавшиеся с тревогою и ужасом. Но если обратиться к данным о настроении общественных групп или сословий, то они окажутся очень скудными. И понятно почему. Из двух непосредственно заинтересованных классов один, дворянский, хранил затаенное злобное молчание, другой, крестьянский, и рад бы выразить воодушевлявшие его чувства, да не имел еще организованного орудия общественной мысли и слова. Купечество и духовенство оставались равнодушными, так как реформа их прямо не задевала. Общесословных же учреждений в то время почти не существовало. Вот почему особенного внимания заслуживает, как отголосок общественного мнения, адрес, поданный общесословною Петербургскою думою. Дума, между прочим, писала: «Приняв на вид, что Высочайшим манифестом 19 минувшего февраля Его Императорскому Величеству благоугодно было возвратить крестьянам их древнюю исконную свободу, каковая Монаршая милость дополнила и довершила дарованную российскому дворянству манифестом Петра III от 18 февраля 1762 г. свободу от обязательной службы Царю и Государю, с которою было тесно связано обязательное тягло крестьян[270]270
Эта точка зрения настойчиво проводилась в исторической русской литературе. См. Материалы 1, 21–22.
[Закрыть], и уничтожила в России несвободные отношения сословий к государству; и убежденная, что цветущая жизнь городов по большей части зависит от благоустроенного положения сельских жителей, обеспечивающих существование первых и доставляющих им способы обогащения, проникнутая этим убеждением и вследствие того душевно сочувствуя дарованному ныне меньшей братии счастью, не может отказать себе в сердечной потребности испросить у Его Императорского Величества соизволения повергнуть к подножию престола излияние верноподданнической благодарности за всемилостивейшее сопричисление крестьянского сословия, на непомещичьих землях поселенного, к свободному русскому обществу», – С.-Петербургская дума приговорила: «Просить Государя Императора считать городское общество ревностнейшим и усерднейшим ценителем и сподвижником (?) величайшего преобразования, которое составит на веки веков блестящую страницу царствования Его Императорского Величества и вместе источник неугасимой славы и непоколебимого процветания России». Затем С.-Петербургская дума ходатайствовала перед Государем о принятии в дар дома Межуева для устройства в нем Александровской больницы для чернорабочих.
Я помню незабвенный год…
Каким он светом осветил
Царем раскованный народ
От уз, которые носил!
О, как тогда мы ликовали,
Толпою окружив амвон.
Когда нам волю объявляли
Под праздничный веселый звон!..
И с тех пор часто вспоминаю
То детство, то тяжелы годы,
И тем лишь душу услаждаю,
Что я дождался дней свободы.
Бывш. двор. Ф. Бобков
Что же происходило в знаменательный день 5 марта в первопрестольной Москве? Не легко ответить на этот вопрос. Берешь в руки газету того времени – тишь да гладь или, по выражению Аксакова, слышно одно только молчание на всех языках! Ничто так наглядно не рисует жалкое, унизительное, рабское положение тогдашней печати, как это вынужденное, систематическое молчание ее в то время, когда к голосу ее особенно прислушивались и когда она, с большою обстоятельностью трактуя об иностранных государствах, не смела коснуться дела, всех волновавшего. Перелистывая единственную московскую газету Московские Ведомости, можно подумать, что они издавались не в Москве, а где-нибудь за границею. Целые столбцы заняты в университетской газете прениями во французском сенате о светской власти папы, об образовании итальянского королевства, отчетами об английских журналах и т. п., но ничего или почти ничего об освобождении крестьян! В течение всего февраля мы нашли в ней только одно лаконическое известие по крестьянскому вопросу, а именно следующую телеграмму (очевидно пересказ вышеупомянутой статьи Сев. Пчелы) из Петербурга от 18 февраля: «Обсуждение крестьянского вопроса оканчивается; надеются, что это событие (обсуждение?) совершится постом», и только[271]271
См .Москов. Вед. от 19 февраля. № 41.
[Закрыть]! Как раз в день появления этого известия, 19 февраля, подписывается освободительная хартия, приступают к спешному печатанию ее. В публику проникают слухи об этом великом событии, распространителей слухов наказывают в полиции розгами[272]272
См. назв. Материалы, II, 115.
[Закрыть], но в печати о нем ни слова.
5 марта читают в Петербурге манифест, там же происходят народные манифестации, но в печать опять-таки ничего или почти ничего не проникает. С 4 по 6 марта Московские Ведомости не выходили. В № от у марта, за пометкою «сообщено», находим официальное сведение о чтении манифеста в московских церквах и о молебствии. Затем сообщается, что экземпляры манифеста были разосланы во все дома, а дворовым роздано было чрез полицию «Положение о дворовых». В съезжих домах и во всех конторах квартальных надзирателей поступило в продажу по рублю за экземпляр «Положения о крестьянах» – в первые дни не более одного экземпляра на одни руки[273]273
Впоследствии было пущено еще в продажу по 10 к. «Краткое изложение прав
и обязанностей крестьян, вышедших из креп, зависимости».
[Закрыть].
Но неужели Москов. Ведом, промолчали этот единственный день и так-таки сами от себя не сказали ни слова по поводу этого важнейшего события в русской истории? При беглом обзоре номера ничего не оказывается. Но, к чести русской печати, редакция (редактором был В.Ф.Корш), не смевшая прямо говорить об этом, постаралась обойти бдительность цензуры косвенно. Где-то в глухом углу газеты, в отделе библиографии, – где говорится о книге Тройницкого «Крепостное население по ю-й ревизии», – газета поместила несколько прочувствованных строк о событии дня под замаскированным заглавием «Крепостное население в России». Вот что, между прочим, говорится в этой контрабандной, прочувствованной библиографической заметке: «Великое событие занесено в летописи России и Европы. Государственное начало, этот мощный двигатель и блюститель народных интересов, начало, спасшее Русь от раздробления, от монголов и выдвинувшее нас на прямой путь общеевропейского развития, ныне мудро разрешает вековые узы крепостных отношений между миллионами людей. Русская земля, благодаря этому двигающему началу и благороднейшему его представителю Государю Императору Александру Николаевичу отныне устраивается на новых основаниях. В ту минуту, как мы пишем эти строки, миллионы наших братьев с любовью и сердечным умилением произносят это вовеки благословенное имя. Александров день, как назвал Погодин 19 февраля, навсегда останется одним из великих дней Русской истории. Этот день, мы в том уверены, будет днем священным для всего населения необъятного русского царства. Он не может оставить по себе недовольных»[274]274
Моск. Вед. № 52.
[Закрыть].
Только в библиографической заметке под заглавием «Крепостное население» газета могла излить волновавшие ее чувства, навеянные волею!! Может ли быть что-нибудь возмутительнее такого положения печати?..
Какова была в этот день физиономия первопрестольной, об этом совершенно умалчивают Московские Ведомости, и только неделю спустя, при описании ужина, о котором речь будет ниже, в подстрочном примечании указывается, что в этот день, 5 марта, все знакомые целовались при встрече[275]275
Моск. Вед. № 58.
[Закрыть].
Вообще в Москве праздник 5 марта прошел еще тише, чем в Петербурге, где появление Виновника празднества вызвало неудержимые взрывы народного энтузиазма. М. П. Погодин, ездивший на день, на субботу 4 марта, в Петербург, узнав там, что на 5 марта назначено объявление воли в Москве, спешил вернуться домой, чтобы воочию видеть, как Москва в Кремле у Ивана Великого будет чествовать великое историческое событие. Разочарование Погодина было полное. В Москве были приняты чуть ли не большие еще меры предосторожности, чем в Петербурге. Народа на улицах было немного. Погодин был в Успенском соборе, где мечтал услышать, после обычного многолетия Государю, многолетие освобождаемому крестьянству, русскому дворянству, словом, ждал чего-нибудь необычного, «неказенного», способного «возбуждать дух любовного единения между сословиями», но надежда его не исполнилась. После молебна народ стал расходиться, прислушиваясь к чтению манифеста, который в разных местах Дворцовой площади читали студенты, купцы и др. Как ни странно, в этот день ни разу не оглашался Кремль криком «ура»; по крайней мере, Погодин, старательно собиравший характерные мелочи этого дня, об этом не упоминает.
Передает Погодин в Красном Яичке, между прочим, следующие сцены: мужик вез дрова на рынок и увидел объявление, прибитое на будке. – Что это такое? – Свобода! – Как стоял, так и упал на колени в лужу и начал молиться Богу и благодарить. – Другой мужик пришел к Иверской и, упав на колени, вне себя воскликнул: «Спасибо Тебе, Матушка, дай Тебе Бог много лет здравствовать и с Государем нашим любезным Александром Николаевичем!» – Рабочие на винном дворе, числом около 300, заставили читать после обедни манифест и затем бросились целовать друг друга и плясать.
– Ну, уж Царь у нас, – сказал один крестьянин, – удалой – какой день выбрал – прощеный!
Пьянства в Москве было в этот день меньше против обыкновенного: 5 марта было выпито на 1,660 р. меньше, чем в предыдущее Прощеное воскресенье. На большой фабрике Алексеевых, где обыкновенно в этот день было штрафованных за опоздание 80 человек, на сей раз не было ни одного; на пивоваренном заводе Даниельсона из 250 рабочих также не было ни одного запоздавшего. В чистый понедельник в четырех больших типографиях все наборщики были на местах, – случай небывалый[276]276
См. н. брошюру «Красное Яичко», 8, п, 13. После появления фельетона моего «Объявление воли» (в Русск. Вед. 5 марта 1894 г.) я получил чрез Ф. Д. Бобкова письмо от «бывшихкрепостных», в котором они писали: «Мы чрезвычайно благодарны за выражение чувств, которыми мы сами полны, но которые сами выразить не умеем иначе, как молитвой. Мы, собравшись в маленьком кружке, горячо поминали прошедшее, тяжелое время и день объявления в 1861 г. под праздничный веселый звон. С небес светило так ярко красное солнышко, освещая онемевшие от внезапной радости лица крепостных и сверкая на светлых штыках патруля, проходившего улицами, оказавшихся ненужными для смиренных овец, отпущенных из хлевов вечного страха и томительной неизвестности. Мы помним, как губернатор объявил 19 февраля, что объявление воли 19 числа не следует и не известно, когда состоится, что нас опечалило, а еще более оскорбляло то, почему-то господа были убеждены, что дворовые люди при объявлении воли будут буйствовать. Чтобы разуверить в этом общественное мнение насчет дворовых, мы 27 февраля составили статейку по поводу вышедшей тогда книжки г. Славина: «Как должны встретить крепостные люди волю», которую заключили так: «Класс дворовых людей не посрамит своего отечества и не опечалит своего великодушного Благодетеля благочестивейшего Государя Императора:
Но отрешившись от оков,Предстанет в образе ином,Не будет гостем кабаковИ распрощается с вином. Мы смело тогда говорили это, зная людей своей среды и их настроение, и 5 марта в день объявления воли гордились, что не ошиблись и что действительно дар Царя приняли с должным благоговением и благодарностью. И ныне, в 33 годовщину, мы также горячо благодарим за освобождение Бога и молим за Царя-мученика».
[Закрыть].
Страсть Москвы к торжественным банкетам сказалась и в этот незабвенный день. Вечером 5 марта состоялся помянутый ужин в Самарином трактире, но описание его появилось лишь 14 марта. Собралось 32 человека: литераторы, помещики, купцы, артисты и чиновники. Все при свидании целовались, поздравляя друг друга с великим радостным событием. Некоторые христосовались, называя этот день нашим гражданским воскресеньем. Первый тост за здоровье «Освободителя» был провозглашен «старейшим по летам и заслугам», как выражались Москов. Ведом., Щ… (без сомнения, Щепкиным, которого, однако, газета не назвала по имени, – уж не из опасения ли скомпрометировать его в глазах начальства?). Голос его дрожал. Он хотел что-то сказать, но залился слезами и не мог договорить. Почти у всех присутствующих навернулись слезы на глазах. После первого тоста возникла мысль ознаменовать этот торжественный день каким-нибудь добрым делом на пользу освобождаемых.
Решено было в течение двух лет освободить хотя одного из дворовых людей, если кто помещик, – посредством выдачи увольнительного свидетельства на другой же день, – в противном случае содействием своими средствами. Но так как из присутствующих ни у кого не было прислуги из дворовых, то они обязались склонить к тому других. Кроме того, в изъявление общей радости и признательности к благородному подвигу Монарха и в том убеждении, что в настоящее время общество должно путем благотворительности прийти на помощь правительству в устройстве быта дворовых людей и их семейств, постановлено: 1) открыть с разрешения правительства (таковое не последовало) подписку в целой империи для учреждения благотворительного общества попечения о дворовых людях; 2) немедленно открыть подписку среди присутствующих и продолжать ее в столице; 3) на собранные деньги немедленно приступить к открытию соглашения о выдаче увольнительных свидетельств дворовым, проживающим в Москве. По подписке было собрано более 5000 руб., причем в ней приняла участие и прислуга, как только она узнала о цели[277]277
Москов. Ведом., 1861. № 65. На другой день по объявлении воли в канцелярию московского генерал-губернатора поступило от бывшего дворового 5 трудовых рублей для употребления в память освобождения крестьян. Крестьяне с. Осоргина Звенигородского уезда собрали для той же цели по 25 к. с души, – всего 15 р. (см. № 41 Моск. Вед.). Но, к сожалению, столь симпатичное народное движение, не встретив должной поддержки и организации, затерялось бесследно и заглохло.
[Закрыть] подписки. Решено было собираться по воскресеньям, но добрая инициатива эта дальнейших последствий не имела в виду противодействия администрации.
В этот же «прощеный день», 5 марта, вспомнили и стихи И. С. Аксакова, коими он в 1858 г. приветствовал приступ к освобождению крестьян, и внушенные тем высоким подъемом духа, которым было охвачено, несмотря на все неблагоприятные условия в то время, все, что было порядочного и честного в русском обществе:
Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет!
Людям мир, благословенье!
Горьких мук исчезнет след.
Дню вчерашнему-забвенье,
Дню грядущему привет…
5 же марта весть об освобождении крестьян была разнесена телеграфом по всей Европе, встретившей ее единодушным сочувствием. Kolnische Zeitung посвятила 25 (13) марта этому событию следующие прочувствованные строки:
«Редко или, лучше сказать, никогда еще смертному не доводилось совершить дело столь важное и благородное, как то, которое совершил благодушный Император Александр II. Одним почерком пера он возвратил 23 миллионам людей их права. То, что он исполнил свое желание, с которым вступил на трон, лишь в седьмой год своего царствования доказывает, с какими великими трудностями была сопряжена отмена в России крепостного состояния. Похвалы, воздаваемые в манифесте дворянству, без сомнения, побудят дворян сделаться достойными их. Дай бог, чтобы дело, предпринятое великодушным Государем, имело успех, согласный с желаниями его. Этот Монарх занял теперь одно из самых прекрасных и почетных мест в истории».
В это же время начало приводиться в исполнение предложение Погодина о сооружении в Москве в память Александрова дня (освобождение крестьян) храма во имя Александра Невского, на трудовые копейки крестьян. Сначала подписка шла очень бойко. Один из бывших крепостных, препровождая к московскому генерал-губернатору 5 руб., писал[278]278
См. н. Летопись, прил. УК. М. В. Д., 159.
[Закрыть]: «Примите от меня трудовые пять рублей на сооружение монумента Великому Александру Милостивому, который следует поставить за спасение против храма Христа Спасителя. С моей легкой руки тоже найдутся добрые люди, которые ценят добродетель, и если из нашего низшего сословия по копейке сложатся, и то много будет; трудовая копейка дороже дарового рубля и монумент наш простоит во веки веков, и имя Александра Милостивого будет нетленно».
Стали поступать и крупные пожертвования (ростовский купец Сорокин пожертвовал 1000 рублей). С.С.Маслов (приятель Белинского), впоследствии завещавший все свое крупное состояние на народное образование, прислал Погодину, как будущему ктитору церкви, 50 рублей при письме, которое заканчивалось так: «Да празднуется 19 число февраля на вечные времена в память нашего родного, желанного Царя-человека Александра II». Для усиления прилива мелких пожертвований Погодин предлагал собирать без всякого участия властей. «В воротах всякого генерал-губернатора и всякого митрополита, – писал он, – стоит сторож в мундире или тулупе, и не осмелится пойти к ним ни один крестьянин с своим пятаком или гривною»[279]279
См. Красное Яичко, 16.
[Закрыть]. Погодин предлагал ставить кружки в мелочных лавках. Прав ли был он или нет, видно из того, что лишь 35 лет спустя было приступлено к исполнению этого поистине благочестивого желания русского народа[280]280
Только в 1896 г. собрались, наконец, приступить к постройке храма в память освобождения. Но любопытный признак времени: для такого великого всенародного памятника не могли найти в Москве лучшего места, как затерянная в одной из глухих окраин Москвы Миусская площадь! Впрочем, и то сказать, такие дела, как дарование свободы 23 миллионам имеют столь прочный и наглядный памятник в сердце народа, что не нуждаются в официальном напоминании и искусственном раздувании. Никому не знать, никому не счесть, справедливо писал в 1880 г. Госуд. совет, в своем адресе Александру II, сколько теплых молитв вознесено за него. (Биогр. слов., 875).
[Закрыть], тогда как за это время исполнилось немало мишурных и дорогостоящих затей, внушенных тщеславием и подхалимством.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.