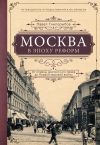Автор книги: Григорий Джаншиев
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
(Как «уцелела» розга на суде волостном?)
Каких бы ни вымышлял ум диалектических изворотов для оправдания розги, все это рушится перед внутренним простым чувством, осуждается простотою сердца.
И. С. Аксаков
Привычка и обыкновение укоренили зло, а теперь (1860 г.) телесные наказания суть не что иное, как безотчетное варварство.
Н. И. Тургенев
В истории отмены телесных наказаний есть один эпизод, представляющийся странным и непонятным. Под влиянием могучего, гуманно-освободительного движения пало крепостное право, уничтожены были законом 17 апреля 1863 г. шпицрутены, плети, клеймения и другие жестокие и позорящие наказания, связанные с крепостным правом и им обусловленные, и почему-то уцелели на волостном суде жалкие остатки крепостного строя в виде розог доселе, т. е. спустя 34 года после падения его. Как могло случиться это странное явление, что, когда отменялись в 1863 г. более жестокие телесные наказания, – вопреки воплям рутинеров, уверявших, что без плетей «нельзя спокойно спать», – менее жестокое, но не менее позорное наказание в виде розог оставлено было для крестьянского суда? Справки в законодательных материалах последнего 35-летия ясно показывают, что это прискорбное явление обязано своим происхождением частью бюрократической нерешительности, а частью рутине и канцелярскому недоразумению.
Крепостной строй и розги до такой степени связаны были между собою законом сосуществования, что как только возникли первые проекты об упразднении рабства из уважения к достоинству человека, сам собою стал на очередь и вопрос об уничтожении розог.
Вещь замечательная: первым провозвестником мысли об отмене розог явился Я. И. Ростовцев, проведший большую часть службы в военно-учебном ведомстве, где, как и в других учебных заведениях, порка детей была самым заурядным явлением. Гуманные веяния конца 50-х гг. оказали влияние и на этого служаку николаевской эпохи, в душе человека доброго. Из писем, писанных Ростовцевым Александру II из-за границы летом 1858 г., видно, что уже при первых набросках плана крестьянской реформы мысль об уничтожении розог, как одной из естественных принадлежностей крепостного состояния, выступала совершенно явственно. В письме от 3 сентября 1858 г. Ростовцев, между прочим, пишет Александру II: «Относительно наказаний осмелюсь еще присовокупить, что во всяком случае о наказаниях телесных не следует упоминать вовсе: во-первых, это было бы пятном настоящего законодательства, законодательства об освобождении; во-вторых, есть же в России места, где телесные наказания, к счастью, вовсе не употребляются. Некоторые говорят, – продолжает Ростовцев, – что русский мужичок розгу любит (sic). Точно ли это справедливо? Если же он к ней и привык, то не надобно ли от нее отучать… Сверх того, исправительные меры, постановленные Высочайшею властью, как и всякий закон, должны действовать долгое время. Со смягчением нравов и меры исправительные сами собою должны смягчаться; если же меры эти смягчаться не будут, не будут смягчаться и нравы»[485]485
См. н. сб. Скребницкого. Крестьянское дело. Т. I, 911.
[Закрыть]-
При обсуждении крестьянского вопроса в дворянских комитетах вопрос о розгах стоял на втором плане. Большинство комитетов вовсе обошло этот вопрос. Некоторые комитеты, как-то: большинство вологодского, екатеринославский, витебский, самарский, вятский и др., высказались за сохранение розог. Самарский комитет (где участвовал и известный Ю.Ф. Самарин, впоследствии член редакционной комиссии) предоставлял крестьянам курьезное право откупа от розог, с платою 30 коп. за удар. Против этого постановления самарский губернатор К. К. Грот, один из горячих поборников освобождения (см. ниже), заметил, что если комитет признает нужным сохранить телесное наказание, то гораздо лучше прямо выразить, что телесному наказанию подвергаются одни неимущие крестьяне. Тульское меньшинство, в котором участвовал и кн. Черкасский[486]486
Кн. Черкасский и раньше в литературе имел стычку из-за розог. В Сельском Благоустройстве (1858, № 9) он высказал мысль, что желательно сохранить за помещиками право наказывать освобожденных крестьян розгами до 18 ударов. Русский Вестник Каткова (1858, № 18) и вся журналистика единодушно заклеймили предложение кн. Черкасского, который должен был публично покаяться в своей ошибке (Сельское Благоустройство, 1858. № 11).
[Закрыть], впоследствии член редакционной комиссии, допуская в принципе телесное наказание, освобождало от него женщин. Оба владимирские проекта высказывались за отмену телесного наказания в порядке суда полицейского, оставляя его для суда уголовного. Большинство московского комитета, в общем, очень консервативного, высказалось за отмену телесного наказания в крестьянском суде, «в видах смягчения грубости нравов, развития уважения к собственной личности, причем, – рассуждал комитет, – каждый из них поймет и то уважение, каким обязан в отношении к правам других сограждан». Меньшинство же комитета, под предводительством тогдашнего губернского прокурора (впоследствии известного деятеля судебной реформы и археолога, сенатора) Д. А. Ровинского (1895), находя телесные наказания бесполезными и служащими орудием самого возмутительного произвола, предлагало немедленно уничтожить не только розги, но и плети, шпицрутены и вообще телесное наказание во всех его видах[487]487
А. И. Скребницкий. Крестьянское дело, I, 578.
[Закрыть].
Из дворянских депутатов, вызванных в редакционную комиссию некоторые очень энергично высказались против телесного наказания. Владимирский депутат Гаврилов, сославшись на то, что все три владимирских проекта единодушно отвергли розги, между прочим, заявил: «Вопрос о телесном наказании в настоящее время (в 1860 году!!) может считаться решенным и юридическою наукою, и опытом. Трудно защищать наказание, убивающее в человеке чувство чести и нравственное достоинство, ожесточающее и недостигающее даже цели устрашения, если только оно не обращается в физическое истязание». Считая излишним входить в подробный разбор вопроса о телесных наказаниях, осужденных и обществом, и литературою, Гаврилов указывал, что владимирское дворянство, при разногласии по другим вопросам, относительно данного вопроса было единодушно[488]488
Там же, 580.
[Закрыть]. Горячо возражали также и депутаты Касинов, Соколов-Бородкин и Грабянка, из коих последний заметил, «что оставление розог в законе может крестьян довести до отчаяния»[489]489
Там же, 562. «Розголюбы», уверенно заявлявшие от имени народа, что он любит «розгу», должны были с сожалением убеждаться, что благодаря «воле» розга до введения земских начальников понемногу стала исчезать из практики волостных судов, приговоры коих иногда оставались без исполнения (см. Русские Ведомости, 1893. № 141). Некоторые земские начальники, – вопреки внутреннему смыслу ст. 29 Прав. Вол. суда, имевшей в виду в лице земского начальника создать орган для ограничения, а не распространения позорного наказания, поняли свою миссию в обратном смысле и, тотчас по вступлении в должность, стали настаивать на исполнении даже старых приговоров волостного суда (см. прим. 53) о розгах, что Гражданин ставил в особую историческую заслугу новому институту. Местами такая ревность к розгам наталкивалась на серьезное препятствие в виде отсутствия в местном населении желающих принять должность «палача» (Русское Богатство, 1892. № 8). Вообще, по-видимому, «воля» оказала уже отчасти свое благое действие. Позор телесного наказания, которое хладнокровно переносили лет сто тому назад титулованные аристократы и даже придворные фрейлины (см. Народ. Карт. Ровинского, V, 57), ныне стал понятен и потомкам «хамов», из которых некоторые прибегают к отчаянным средствам для защиты своей чести. Так орган С.-Петербургской Духовной академии Церковный Вестник, требующий – в разрез взглядам «розголюба» Гражданина, до сих пор неспособного понять позор телесного наказания, – полного изгнания розги из суда и школы, отмечает свежий, поразительный своим печальным красноречием, факт самоубийства крестьянина во избежание позора телесного наказания: 12 марта 1893 г. в селе Порзове Петровского уезда (Саратов. губ.) повесился в хлеве на чересседельнике крестьянин Алексей Мальцев 40 лет. Вообще, самостоятельный домохозяин Мальцев был приговорен волостным судом за замеченное в последнее время пьянство и мотовство. Мальцев подал жалобу в съезд, но она не могла быть принята по формальному упущению. Страх пред позорящим наказанием был причиною трагического исхода дела. Как раз вслед за оглашением этого потрясающего случая Гражданин рисовал своим читателям радужную перспективу предстоящего лета в деревне, обещая урожай не только трав и хлебов, но и… розог! Вот подлинные слова «розголюба»: «Теперь приятно ехать в деревню, – писал Гражданин, – потому что ожидается урожай, но, – продолжает газета, – не это одно дает светлую обстановку деревне для едущих в нее: в деревне стало легче и лучше жить во многих губерниях, благодаря явившейся в ней между (sic) мужиками острастке в лице земского начальника. Это, благодаря Бога, не иллюзия, это приятная действительность. Крестьянин стал бояться розги (курсив Гражданина), и жизнь в деревне стала легче (№ 20 мая 1893 г.). Неисправим, хоть брось! Невольно скажешь про эту злобствующую литературу, к которой так применимы слова Салтыкова: «Ненавистью и желчью пропитано каждое слово этой литературы, и это горькое чувство могло бы иметь очень опасные для общества последствия, если бы не было слишком ясно, что в слове ее лежат те бесплодные обращения к прошедшему, которые обусловливаются корыстным или наивным непониманием самых простых, общепризнанных и естественных законов человеческого развития» (Соч., II, 503–504). Замечательно, что «эта ликующая и праздноболтающая» газета, зачуяв, что пропаганда земскими начальниками розог начинает вызывать неудовольствие, с обычною своею нахальною развязностью стала громогласно заявлять в феврале 1895 г., что она «никогда» не усматривала «связи» между розгами и земскими начальниками. «Земские начальники, это – все люди, с верою в добро и с любовью к делу взявшиеся за труд, – писал в 1895 г. кн. Мещерский. – Перед ними так светло сияет образ почившего Государя, призвавшего их стать близко к народу, и вот подвинутые сердцем, безгранично преданным Монарху и безгранично любящим народ, они исполнили Царский завет и стали близко к народу… Их, наверное, клянусь в том, – вопиет неисправимый крепостник, бия себя в грудь, – народ полюбил, в них добрый крестьянин уверовал; что-то родное повеяло от этого земского начальника в душу мужика и, наоборот, что-то родное от этого мужика повеяло в душу земского начальника» (.Гражд., 1895. № 57). Нужно быть камнем, чтобы не прослезиться пред этими напускными всхлипываниями Иудушек «Гражданина», с таким же правом и добросовестностью могущих говорить от имени народа, с каким архикрепостник гр. Панин в Редакц. комис. выдавал себя за «представителя» крестьян (см. главу I).
В литературе о злополучном институте земских начальников составили эпоху откровенные, вышедшие в 1899 г., воспоминания бывшего земского начальника г. Новикова под заглавием «Записки земского начальника». Окончательный вывод компетентного автора – это смертный приговор над этим архаическим учреждением. Г. Новиков, как эксперт, изучивший на деле институт, передает вещи, сравнительно с которыми злоупотребления, отмеченные либеральной печатью, кажутся пустяками. Автор «Записок» на радость Гражданина заявляет, что земский хозяин в сущности бесконтрольный распорядитель судьбами крестьян и может безнаказанно чинить над ними всякие беззакония. А институт завоевывает все новые территории.
[Закрыть].
Смерть знаменитого председателя редакционной комиссии Ростовцева, имевшая громадное влияние на судьбы крестьянской реформы, отразилась неблагоприятно и на вопросе об отмене розог. На место мягкого, гуманного энтузиаста Ростовцева, смотревшего с доверием в будущность «святого дела», т. е. освобождения крестьян, неожиданно выступает мрачный рутинер-педант, упрямый поборник всех решительно допотопных начал и порядков граф В. Н. Панин, горячо отстаивавший не только крепостное право, но и цензуру, канцелярскую тайну, плети и клеймение. Такой ослепленный консерватор quand тёше, такой «враг всякой мысли, всякого гражданского, умственного и нравственного совершенствования», как характеризует его цензор Никитенко[490]490
«Дневник», II, 76.
[Закрыть], не мог сочувствовать отмене розог. Гр. Панин, назначение коего было восторженно приветствовано крепостниками, как знамение реакции против либеральной программы Ростовцева, с первых же шагов своих делает решительные попытки для поворота крестьянской реформы согласно видам крепостников. Если другие попытки гр. Панина (как-то: обезземеление крестьян, сохранение вотчинной полиции и пр.) разбились о дружное сопротивление редакционной комиссии, то пламенная защита им розги, к несчастью, увенчалась успехом.
В книге Н. П. Семенова передается следующий пикантный диалог, происходивший между бестолковым апологетом розог гр. Паниным и убежденным противником телесного наказания членом комиссии Соловьевым:
Гр. Панин. Правительство старается о том, чтобы его (телесного наказания) избегать. Изъятие для должностных лиц из крестьян оно имеет в виду. Относительно образованных людей все к тому стремятся. Где и для каких случаев должно определить телесное наказание – это легко. Например, побил кого-нибудь – применить телесное наказание к грубому человеку. Воровство – это деяние посрамительное. Для вора пойти в тюрьму ничего не значит. За побои телесное наказание не только будет соответствовать общему чувству справедливости, но и будет полезно. Насчет детей, освобождению их от телесного наказания я не сочувствую. В деревнях они часто воруют. Телесное наказание будет для них благодеянием. Почему их не высечь?! Насчет женщин – иная дерется; тех, которые воруют и бьют других, следует тоже, мне кажется, сечь.
Соловьев (графу Панину). Я положительно признаю, ваше сиятельство, что телесные наказания бесчеловечны. Штраф действительнее розог. Я подаю голос против телесного наказания. Я видел у государственных крестьян, как розги не достигают цели. Я думаю, что это наказание развращает и унижает.
Граф Панин. Надо говорить обо всем с большою точностью. Если наказание справедливо (?), то оно не развращает.
Соловьев. Наказанный таким образом теряет самолюбие.
Граф Панин. Хорошо; не потерял ли самолюбие, когда он украл? Тут надо теории (!) оставить. Есть целые деревни, которые воруют. Уж пример наказания удерживает (??).
Соловьев. Едва ли не справедливо то, что дворянство, когда для него было отменено телесное наказание, было столь же к нему не приготовлено, сколько ныне крестьянство.
Граф Панин. К сожалению, это несправедливо (!). Посмотрите в истории – герои носили следы этого наказания.
Соловьев. Но именно отмена телесного наказания возвысила дворянство.
Граф Панин. Чтобы решить вопрос, взгляните на запад Европы. Разве воры перестают воровать оттого, что их не секут? Эти вопросы решаются с практической точки зрения.
Соловьев. Денежный штраф и заработок действительнее.
Граф Панин. Но заработки у нас не в привычке[491]491
См. Семенов. Освобож. крестьян. Т. III, 128.
[Закрыть].
Читая эту нескладную, нелогичную, бестолковую защиту розги, сводящуюся в конце концов к силе привычки, невольно вспоминаешь, что даже панегиристы графа Панина указывают на своеобразное устройство мыслительного аппарата графа Панина, благодаря которому выводы часто у него противоречили посылкам[492]492
См. Там же. Т. II, 672.
[Закрыть].
Завзятый «розголюб», по выражению сенатора Д. А. Ровинского, гр. Панин настаивал во что бы то ни стало на сохранении розог даже для женщин. Вот его подлинная аргументация: «Я просил бы, – говорил этот маньяк, – устранить изъятие от телесных наказаний женщин, потому что, при всем уважении к полу, есть женщины, которые бьют других. О женщинах был у нас уголовный случай – этот пример у меня на глазах, – что жена разрубила своего мужа за то, что он требовал от нее удовлетворения супружеских желаний; тут в деле было, вероятно, не доказано, – шутливо фантазирует гр. Панин, – что она имела любовника».
Это нелепое, совсем не идущее к делу замечание так подействовало, по заявлению Н. П. Семенова, на членов Редакционной комиссии, что на женщин распространено было телесное наказание[493]493
См. Там же. Т. III. Ч. 2. С. 190.
[Закрыть].
Принципиальных защитников розги, вроде гр. Панина, было очень немного в составе Редакционной комиссии. Другие члены, как, например, Н. А. Милютин, сочувствуя отмене телесного наказания, имел непростительную слабость находить, что вопрос этот нужно отложить до общего пересмотра вопроса о всех телесных наказаниях вообще[494]494
См. Там же у Семенова, 129.
[Закрыть]. При голосовании вопроса о розгах голоса членов разделились пополам. Suum cuique: приводим результат голосования:

Голос председателя дал перевес защитникам розги, и таким образом опасение Ростовцева оправдалось, и освободительный акт был «запятнан» розгою.
Сохранение Редакционною комиссиею розги произвело на общественное мнение крайне тяжелое впечатление. Не только вся либеральная часть журналистики порицала эту меру, но и корифеи славянофильства выступили против нее. «„Что это за наказание, столь оскорбляющее честь и достоинство одних сословий или лиц и не оскорбляющее чести и достоинства других лиц?“ —писал К. С. Аксаков по поводу освобождения одних старост от телесного наказания, одних крестьянских должностных лиц. Здесь скрыта та мысль, что по закону не предполагается ни чести, ни достоинства в сословиях и лицах, не изъятых от телесного наказания»[495]495
День, 1862 г. № 45.
[Закрыть].
И. С. Аксаков, упоминая с тяжелым чувством о вышеприведенном прискорбном голосовании в Редакционной комиссии, при котором, к удивлению и огорчению всех искренних друзей народа, единомышленниками презирающего народ гр. Панина оказались Самарин и Милютин, писал в 1860 г.: «Конечно, ни Константин, ни я не подписались бы за сечение, и вовсе не из трусости. Каких бы ум ни измышлял диалектических изворотов для оправдания розги, все это рушится пред внутренним простым чувством, осуждается простотою сердца. Достаточно взглянуть или написать: за сечение, чтобы противоречие всего нашего внутреннего существа обличило хитрость диалектических доказательств. Становится просто невозможным подать голос за розгу. Слепцы, слепцы!.. Какой ложный расчет! Что они выиграли? Предупреждение нескольких частных случаев неповиновения; но эта выгода уничтожается тем нравственным вредом, который наносится обществу, тем оскорблением нравственного чувства, которое истекает от возведения в почетное звание розги, от разумного признания и узаконения побоев! Наконец, утрата веры общественной в человека – разве это не страшный вред обществу»[496]496
И. С. Аксаков, в его письмах, III, 149. Герцен, пораженный тем, что Милютин оказался в числе защитников розги, писал, что история выставит их имена у позорного столба.
[Закрыть]*
В 1862 г. состоялось предусмотренное Редакционною комиссиею обсуждение общего вопроса об отмене телесных наказаний. Под влиянием гуманных веяний, охвативших общество с особою силой после благополучной отмены крепостного права, состоялась, несмотря на ожесточенное сопротивление «кнутофилов», отмена как по гражданскому, так и военному и морскому ведомствам шпицрутенов, кошек, плетей, розог, клеймения и других остатков варварских наказаний. Телесное наказание было изгнано из казарм, из военных судов, из уголовного суда всех ведомств и из учебных заведений. «Россия, – как выразился сенатор Ровинский, – словно в сказке какой, из битого царства вдруг небитое стало». Но по какой-то иронии судьбы великий освободительный акт 19 февраля, давший толчок этому благотворному движению, остался вне его воздействия, и пятно его в виде розог осталось несмытым.
Причина этого грустного и на первый взгляд непонятного явления кроется, как это ни кажется странным, в чрезмерном благоговении, доходившем до фетишизма, пред Положениями 16 февраля. Если уж такой беспринципный оппортунист, как министр внутренних дел П. А. Валуев, старался ловко обходить неудобные для него постановления Положений в административном порядке, не решаясь требовать отмены в законодательном порядке, то почитатели освободительной хартии считали ее просто неприкосновенною. Исходя из этого почтенного, но несколько утрированного чувства, впрочем, достаточно оправдываемого политическими обстоятельствами того времени, – комитет, рассматривавший вопрос об отмене телесного наказания, не желая колебать только что объявленное[497]497
Один из крепостников, сильно восстававший против отмены розог, в мнении своем, поданном в комитет, указал на политическую опасность подобной реформы. В его расстроенном воображении рисовались такие ужасы: «Во-первых, по простоте своей крестьяне не в состоянии будут вместить в умах, что шесть месяцев тому назад царь не считал телесного наказания ни вредным, ни безнравственным, а теперь убедился, что оно ненужно и унизительно. Народ поймет это так: Положение было подсказано царю помещиками, а теперь царь заговорил сам, и вот уж розгу он отменил. Во-вторых, они сообразят, если без их просьбы сверх отмены неволи низошла льгота, о которой они не гадали, то остается ждать и ждать, и не терять надежды – авось хоть десятину накинут или хоть усадьбу подарят даром, или хоть рубль скинут с оброка» (Свод мнений по вопросу об отмене телесных наказаний. С. 94).
[Закрыть] Положение 16 февраля, признал неудобным отменять телесные наказания в волостном суде. При этом комитет полагал, что по мере распространения образования между крестьянами они сами откажутся от позорящего наказания.
Таким образом вышло поистине изумительное недоразумение: в 1861 г. отмена розог была отложена до пересмотра общего вопроса о телесных наказаниях, а в 1863 г., когда состоялся пересмотр, розги уцелели ввиду нежелания колебать законоположения 16 февраля 1861 г.
В 1864 г. еще раз стал на очередь вопрос о розгах при обсуждении в Государственном совете Судебных Уставов. Некоторые члены предлагали внести в Уст. о нак. правило, по которому мировым судьям предоставлялось бы право назначать за мелкие проступки розги до 30 ударов там, где нет достаточного помещения в домах заключения. Но огромное большинство членов Государственного совета (и в том числе бывший ярый защитник розог гр. В. Н. Панин) высказались против розог. Указав на то, что в волостном суде розги были сохранены только по нежеланию быстро колебать вновь введенное Положение о крестьянах, Государственный совет продолжает: «Наказание розгами вовсе не соответствует своей цели, ибо, будучи лишено жестокости совершенно отмененных уже шпицрутенов и плетей, оно для большинства народа, привыкшего с детства к грубому обращению, весьма малозначительно и не только не возбуждает (это писалось 30 лет тому назад), говоря вообще, особенно между виновными страха, но, напротив, весьма часто предпочитается лишению свободы, уплате денежных взысканий или отдаче в общественные работы. Из опыта известно, что телесное наказание представляет в сущности безнаказанность, ибо виновный, получив известное число ударов, отпускается на свободу и имеет всю возможность следовать своим порочным наклонностям. Между тем телесные наказания не могут не быть признаны положительно вредными, препятствуя смягчению нравов народа и не дозволяя развиваться в нем чувству чести и нравственного долга, которое служит еще более верною оградой общества от преступлений, чем самая строгость уголовного преследования»[498]498
См. Т. LX. Дела о преобр. Суд. части, журнал Государств, совета от 30 сентября 1864 г. С. 5.
[Закрыть].
Казалось бы, столь авторитетное и решительное осуждение розог предвещало скорое исчезновение этого последнего жалкого наследия гнусного крепостного права. Однако этому ожиданию не суждено было доселе, т. е. в течение 30 лет с лишком, осуществиться. Сначала вопрос об изгнания розги заглох, затем изменились веяния, а впоследствии, когда в самом народе[499]499
Наше крестьянское молодое поколение, не испытавшее на себе развращающего действия крепостного права, относится враждебно к розге. Вот как здраво рассуждает молодой волостной писарь, могущий устыдить лезущего в пестуны к «невежественному народу» (см. пред. к 6 изд.) культурного кн. Мещерского: «Начать с того, – говорит он, – что мы не видели ни одного случая, когда бы розги исправили порочного человека, и сомневаемся, чтобы вообще можно было указать такой случай; тогда как в деревенской жизни зауряд встречаются факты, ясно свидетельствующие о том, что человек сравнительно хороший и порядочный, но почему-либо понесший наказание розгами, понижается нравственно, как-то опускается, его достоинство как человека падает и в его собственных глазах, и в глазах его односельчан. Но то, что унижает человека, не может служить к исправлению его нравственности. В среде крестьян за телесное наказание стоят главным образом старики, люди старых понятий, перенесшие гнет крепостного права. Но, – продолжает он, – теперь уже выступает на сцену новое поколение, которое в громадном большинстве совсем иначе смотрит на дело. Особенно это резко сказывается в молодых людях, побывавших в народной школе, но всего печальнее то, что именно эти люди в силу исключительных условий захолустной жизни нередко подвергаются опасности очутиться под розгами». С этим свидетельством волостного писаря, т. е. человека, близко стоящего к народной жизни, – об отношении народа к телесному наказанию, Курские Губернские Ведомости сопоставляют следующий факт, сообщенный Донскою речью: «Крестьянин Гуляй-Борисовской волости Черкасского округа Федот Корсунов, человек пожилой и семейный, имеющий дочь-невесту и пользующийся среди сельчан известным общественным положением, стал пьянствовать и буйствовать, за что и был привлечен к ответственности. Дело о нем поступило в волостной суд, который по рассмотрении дела постановил такого рода приговор: «Крестьянина Федота Корсунова за пьянство и за буйство подвергнуть телесному наказанию 15 ударами розог, но имея в виду, что в последнее время многими земствами и печатью возбужден вопрос об отмене телесного наказания, как позорящего человечество, и принимая во внимание лета обвиняемого и его семейное положение, заменить телесное наказание арестом при волостной тюрьме на семь дней». Тот же автор (вол. писарь) передает, что розги служат возмутительным орудием мести в руках старшин из мироедов против крестьян, получивших некоторое образование и мешающих им обделывать темные дела («Русс. Ведом.», 1895. № 181, 183). См. также № 85 «Русс. Ведом.» за тот же год, где рассказана трагическая история крестьянина Трещалова. По проискам кабатчика и его приятеля волостного старшины грамотный, развитой столяр Трещалов был приговорен в 1887 г. к 14 ударам розог. Боролся он против несправедливо наложенного наказания всеми способами, но ничего не вышло. С введением земских начальников предложено было немедленно исполнить приговор. «При разложении Трещалова на пол» он оказал сопротивление. Началось уголовное дело, которое и кончилось его психическим расстройством и завершилось приговором Московской Судебной палаты с участием сословных представителей от 15 марта 1894 г., коим Трещалов был приговорен на год в арестантское отделение с лишением особых прав.
Волынь передает о следующем характерном факте из области применения телесного наказания. «Крестьянин села Скоболова Красносельской волости Житомирского уезда Никифор С., – рассказывает газета, – за какую-то неважную провинность был по требованию «громады» высечен публично розгами (получил всего два удара). Эта расправа настолько повлияла на С., что он, не вынесши позора, на второй же день лишил себя жизни, повесившись на перекладине в собственной клуне» («Русс. Вед.», 1897).
В 1895 г. приговорено было к телесным наказаниям в Вятской губернии 523 человека; более всего по уездам Сарапульскому и Иранскому: в первом 107, а во втором 105 человек, и менее всего в Нолинском —25 и Вятском —12 человек. Эти данные, говорит «Вятский Край», достаточно свидетельствуют, что телесные наказания в нашей губернии все еще имеют широкое применение. Более полу-тысячи приговоренных к наказанию розгами в одной губернии и за один год – цифра довольно почтенная. В 1895 году всех осужденных мужчин в волостных судах по уголовным делам было 56 476; из них, как мы видели, 523, или 1 из каждых 107 человек, приговорены были к телесным наказаниям. Но и это уже само по себе большое процентное отношение приговоренных к наказанию розгами должно еще увеличиться оттого, что в числе 56476 осужденных есть немало лиц, изъятых по закону от телесных наказаний, а также немало лиц, осужденных за такие преступления и проступки, за которые в законе не положено телесных наказаний.
Газета указывает на следующий факт, рассказанный минувшим летом сибирскими газетами. Как известно, в 70 верстах от Иркутска находится Александровская центральная каторжная тюрьма, в которой число заключенных доходит иногда до 21/2 тысяч. В последние три года телесные наказания в качестве тюремно-дисциплинарной меры в этой тюрьме вовсе не применяются, и от этого дисциплина и порядок не только не понизились, но значительно повысились; даже необходимость прибегать к карцеру значительно сократилась, так как карцер потерял свое прежнее значение относительно снисходительного наказания и стал в глазах арестантов чем-то томительно-позорным. Если, говорит «Вятский Край», оказалось вполне возможным обходиться без телесных наказаний при управлении «тяжкими преступниками, которым нечего терять», то не может быть, конечно, и речи о совершенной ненужности этих наказаний для Вятской губернии. Нельзя не отметить также и неодинаковой частоты применения телесных наказаний в различных уездах губернии: в одних секут часто, в других – редко. В то время как крестьяне Вятского уезда почти не знали в 1895 г. этого унизительного и позорного для человеческого достоинства наказания, в Сарапульском и Иранском уездах было приговорено к наказанию розгами в каждом более 100 человек. Сами крестьяне ныне достаточно уже сознали весь стыд и позор телесных наказаний; поэтому с достаточной вероятностью можно признать, что частое применение телесных наказаний зависит не от состава волостных судов, а от посторонних, чисто внешних влияний на волостные суды.
[Закрыть] стало расти движение против розги, в обществе на подмогу этого сохраненного «по недоразумению» позорного наказания явилась в связи с институтом земских начальников[500]500
Приятно отметить среди земских начальников отрадное исключение в лице зем. начал. Гжатского у. А. И. Чернова, бывшего, если не ошибаемся, московского присяжного поверенного. Г. Чернов не считал миссиею своей должности восстановление кулачного права и розог, а, напротив, следуя духу нового законодательства 60-х гг., систематически не утверждал приговоры волостных судов о телесных наказаниях. За это посыпались на него, как «за измену» знамени, яростные нападки со стороны Гражданина и Москов. Ведомостей. Г. Чернов выпустил прекрасную брошюру «Из волостной юстиции», в которой на основании истории права и указаний практики вполне убедительно доказывает юридическую несостоятельность, нравственный вред и практическую бесполезность порки. И это еще нужно доказывать в России в лето от P. X. 1895-е!..
Отмечая в своей назидательной брошюре, что розги были созданы и служили неизбежною принадлежностью крепостного права и что они стали с развитием грамотности и поднятием личного достоинства крестьян под влиянием интеллигенции выходить из употребления, автор с недоумением останавливается пред вопросом, как могло произойти неожиданное, противно истории, оживление розог?.. А ларчик просто открывается: на реформе 12 июля 1889 г., как и на всех реакционных мероприятиях системы Толстого, видно скрытое или явное стремление так или иначе реставрировать порядки времен крепостного права. (Ср. Тимофеев, 125). В превосходной статье В. И. Семевского «Необходимость отмены телесных наказаний» («Русс. Мысль», 1896. № 2, 3) вопрос обработан с исчерпывающею дело обстоятельностью и разносторонностью. Некоторые земские собрания (С.-Петербургское, Московское, Тверское, Смоленское и др.) не раз ходатайствовали об отмене этого вредного остатка наказаний варварских времен… Г. Алисов сообщал в конце 1897 г. о вторичном единогласном ходатайстве Воронежского земского собрания о полной отмене розог («Рус. Ведом.», 1897. № 325).
[Закрыть] та страшная сила, которая именуется привычкою и рутиною. «Многое само по себе непонятное, – по справедливому замечанию декабриста Н. И. Тургенева, – уясняется привычкою и обыкновением. На многое уродливое и ужасное люди смотрят хладнокровно, потому лишь, что они привыкли смотреть на это. Многое уродливое и ужасное люди делают даже сами потому единственно, что отцы их то же делали и что современники их продолжают то же делать»[501]501
См. Рукописную записку П. Н. Глебова. Крестьяне уже начинают освобождаться от власти этой дикой рутины. Так, в Русских Ведомостях (1900. № 74) была помещена статья, в которой отмечались некоторые факты и цифры, свидетельствующие о новых прогрессивных течениях народной мысли и жизни. Новое и весьма важное доказательство несомненного существования этих движений представляет собою отмеченная на днях в Русских Ведомостях статистическая работа г. В. Постникова о телесных наказаниях, применявшихся в Нижегородской губернии. Г. Постников разработал собранные от 243 волостных правлений данные о применении телесного наказания в Нижегородской губернии за 1868, 1878, 1888 и 1898 годы. Эти данные касаются двух сторон вопроса – числа приговоренных к розгам и деяний, за которые волостные суды назначали это наказание. По этим данным оказывается, что с каждым годом, отдаляющим деревню от времен крепостного права, розга, представляющая наследие этих варварских времен, мало-помалу выходит из обихода деревенской жизни. Вот что говорят об этом цифры, относящиеся к Нижегородской губернии. В 1868 г. из общего числа осужденных волостные суды приговорили к розгам 57 %, в 1878 г. – 40 %, в 1888 г. – 33 % и, наконец, в 1898 г. – с небольшим 1 %. Приводя эти цифры, г. Постников ставит их в связь с распространением образования и общением крестьян, благодаря преобразованным учреждениям с образованными классами.
[Закрыть]. История «розги» показывает, как опасно не доделывать однажды начатое дело, как необходимо ковать железо, пока оно горячо, особенно у нас, когда за редкими красными днями прогрессивного движения неизбежно следуют долгие серые дни апатии и регресса. Но даже и в такое ретроградное время нельзя было ожидать такого порядка вещей, чтобы освобождение от позорного наказания и наложения его будет решаться не законом, не судом, а поставлено в зависимость единственно от вкусов, симпатий индивидуальных воззрений того или другого земского начальника, от водворения и смещения коих будет исчисляться эпоха фактической отмены розог, либо восстановлений их для данной территории русской земли[502]502
«Воронежский предводитель дворянства г. Алисов писал в 1897 г.: «Мне лично известно, что в двух уездах губернии, где мне приходилось принимать участие в местных делах, в одном – в продолжение шести, а в другом – трех лет телесное наказание совершенно не применялось. С уверенностью могу сказать, что за все это время ни в том, ни в другом уезде ничего особенного не случилось. Общественная жизнь деревни в этих уездах шла своим порядком, как и в тех уездах, где еще не окончательно отрешились от бесполезности телесных наказаний, хотя последние все менее и менее применяются на практике. Нельзя при этом не заметить, что в явлении этом имеет существенное значение тот или иной взгляд лиц, стоящих во главе уезда или даже земского участка. Так в один из уездов, где более шести лет не применяется телесное наказание, прибыл новый земский начальник, по-видимому, убежденный в неоспоримой пользе этого рода наказаний, и стал так или иначе высказывать свое сожаление о совершенном неприменении их в уезде и что, по его мнению, нелишне было бы оживить этот вымирающий способ наказания; но такой взгляд нового земского начальника встретил энергичный отпор как со стороны его товарищей, так и со стороны предводителя дворянства того уезда. Между тем бывший земский начальник этого участка, старожил уезда, много послуживший ему, человек с высшим образованием, гуманный и издавна ведущий в этом уезде свое хозяйство, – заслужил общее уважение не только жителей своего участка, но и всего уезда. Как нам достаточно известно, ничего худого в его участке не происходило, несмотря на то, что он всегда обходился без телесного наказания и искренно сочувствовал полнейшей его отмене. Хотя попытка нового начальника оживить телесное наказание в уезде и не увенчалась успехом, но возможно, что при других условиях, которых в данном случае налицо не было, мог быть результат совершенно иной: в участке, в котором население давно уже отвыкло от телесного наказания, последнее могло снова появиться».
«Повсеместная отмена телесного наказания несомненно поднимет уважение к человеческой личности и рядом с этим удержит очень многих лиц от нередкой еще у нас рукопашной расправы, которая доводит иногда до суда как побитого, так и побившего. Мне по обязанностям службы не раз приходилось участвовать в рассмотрении подобных, крайне нежелательных дел не только в уездных съездах, но даже и в палате. Совершенно непонятно пристрастие к телесному наказанию со стороны тех, кто, отстаивая их, кричит о какой-то нашей самобытной культуре. Казалось бы, каждый из таких господ должен испытывать крайне тяжелое чувство при мысли, что множество русских граждан могут быть на всю жизнь опозорены телесным наказанием и не только за какие-либо особо позорящие человека проступки, но даже за проступки, имеющие чисто гражданский характер. Не должны бы господа любители розги забывать и того, что было время, когда не только крестьян, но и лиц других сословий подвергали телесному наказанию. Однако пришло время, когда общество и правительство признали нетерпимым для этих сословий такое унизительное наказание, и оно было по отношению к ним навсегда отменено. Несомненно, что это наказание и для крестьянина не менее унизительно, чем для всякого другого человека».
«Я думаю, что очень многие сторонники телесного наказания остаются таковыми еще потому, что им никогда не представлялось случая присутствовать лично при этой гнусной процедуре, проделываемой над взрослым человеком. Совершенно случайно еще в детстве пришлось мне видеть наказание плетьми на эшафоте. Кроме чувства жалости и сострадания к наказуемому, ясно чувствуешь, что это наказание оскорбляет и человеческое достоинство. С какой радостью всякий истинно русский человек может теперь сказать, что одним позорнейшим наказанием стало меньше в нашем отечестве и что плети и эшафот стали теперь достоянием истории. Можно надеяться, что скоро дождемся также полной отмены и розги – этой родной внучки кнута, родной дочери плети. Наказание розгами взрослого человека, полноправного гражданина – это всегда возмущающая чувство сцена. Представьте себе, хотя на одну минуту, всю неприглядность картины, когда пожилого, семейного человека, домохозяина, хотя, быть может, и не вполне исправного, тащат на «экзекуцию». Не всегда человек может заставить себя добровольно подчиниться этому крайне тяжелому, нередко страшному, для него наказанию. В таком случае приходится силою заставлять подчиниться приговору волостного суда. Одному сторожу волостного правления, на которого почему-то возлагается экзекуторская обязанность, в таких случаях не справиться с обвиненным, участие же в этом деле полицейским чинам законом воспрещается. Сторожу приходится звать на помощь мирных сельских обывателей… Воображение каждого может дополнить все остальное» (Русск. Ведом., 1897. № 325).
[Закрыть], и что добросовестный земский начальник будет лишен всякого указания в законе, когда следует налагать или снимать позорное наказание. Земский начальник г. Чернов, подвергая тщательному анализу закон 12 июля 1889 г., приходит к тому печальному заключению, что ни в субъективной, ни в объективной стороне преступлений, наказываемых розгами, нельзя найти точки опоры для решения рокового вопроса – следует ли данного подсудимого подвергнуть унизительному телесному наказанию или освободить его от этого позора.
III
УниверситетскаЯ автономия
Всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло искореняется; следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтобы способом пристойным возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание..
Указ 1755 г. об учреждении Московского университета
Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено, умственное развитие остановлено. Воровство выросло до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине и слепой веры в одну материальную силу.
Никитенко (1855)
Глава четвертая
Университетский устав 1863 г
(справка к 30-летию)
Наука никогда не проникала в Россию, но оставалась в положении касательной линии.
М. Н. Муравьев (1861 г.)
Наука? Науки не было в России, – была бюрократия.
М. Н. Катков (1866 г.)
Ubi solitudinem faciunt расет appellant.
Taciti Agricola 30
I
Общий Университетский Устав 18 июня 1863 года, замененный Уставом 15 августа 1884 г., не дожил даже до минимального, 25-летнего срока, установленного обычаем для юбилеев.
В настоящее время он представляет собою не юридический, а исторический памятник. Материалы университетской реформы 1863 г. имеют не один отвлеченный теоретический интерес, но и жизненный, практический, как драгоценное свидетельство, пригодное для ретроспективного освещения эпохи, предшествовавшей и современной составлению Устава 1863 г. и следовавшего за ним времени и реакции 80-х гг.
«Уму нужен простор», – гласит девиз одного русского герба. А простора-то именно и не доставало русским университетам.
Едва ли в какой отрасли государственного управления система форменной или официальной лжи[503]503
Термин «официальная ложь», т. е. бюрократическая фальсификация действительного положения вещей, пущенный в ход в. к. Константином Николаевичем (см. ниже), был изобретен П. А. Валуевым в бытность его Курляндским губернатором, а впоследствии, в бытность мин. внутр. дел, им же «возведена в перл созданья» система официального лганья. В известной записке «Дума Русского» он между прочим поместил строки, имеющие отношение к университетам: «Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания (см. «Русск. Стар.», 1891 г., май, Дневник Валуева, 357).
[Закрыть] была доведена в николаевское время до такой степени законченности, как в области университетского преподавания и научного исследования, где свобода и независимость conditio sine quo non для плодотворного развития, и где всякая явная или замаскированная попытка к стеснению вносит фальшь в умственную жизнь и ведет неизбежно, хотя и медленно, к упадку науки, т. е. к одичанию общества.
Последний министр народного просвещения императора Николая I, бесхарактерный[504]504
В дневнике Никитенко приведено много примеров бесхарактерности Норова; так, например, отказ в утверждении проф. Ешевского, состоявшийся по навету Кисловского и отмененный вследствие настояния попечителя Исакова (Дневник. Т. II, 46). Норов уволил цензора Бекетова в отставку за то, что тот «по напечатании рескрипта 1857 г. об освобождении пропустил в «Сыне Отечества» извлечение о постановлениях для остзейских крестьян». В этой перепечатке законов усмотрен был злокозненный намек на возможность освобождения крестьян и в России (и за такой-то «проступок» еще в 1858 г., т. е. после официального объявления о приступе к освобождению… цензор рисковал потерять место! Как это характерно для господствовавшей в то время путаницы понятий в правительственных сферах). – Цензора спас попечитель кн. Щербатов. См. там же, 27.
[Закрыть], безыдейный, «старый младенец»[505]505
Так именно называл Норова Я. И. Ростовцев. См. н. Дневник. Т. II. С. 64.
[Закрыть] А. С. Норов, сделавшийся игрушкою в руках злого и ограниченного честолюбца, своего наперсника Кисловского[506]506
«Бюрократические козни и власть Кисловского над Норовым известны другим даже лучше, чем мне», – пишет Никитенко. См. с. 38, 48. Т. II, его Дневника.
[Закрыть], обозревал осенью 1855 г. по повелению Александра II Московский и Казанский университеты. Прощаясь с Казанским университетом, Норов сказал профессорам:
– «Наука, господа, всегда (?) была для нас одною из важнейших (?) потребностей жизни, но теперь она первая (sic). Если враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою своего образования» и т. д.[507]507
В то самое время, когда наивный министр народн. просвещения говорил, что наука «теперь первая потребность», рассылался циркуляр губернаторам с указанием, что строгость цензуры «один из главнейших предметов управления». Приведя это известие, Валуев добавляет: «Видно – мы неисправимы. Неужели конгрегация index’a и полиция Меттерниха не надзирали? Этот надзор не помешал, однако, курьерским поездам папы и всезнавшего дипломата в 1848 г.» («Русск. Старина», 1891 г., июнь, 603), по стопам которого пошел, впрочем, и сам Валуев в преследовании свободы слова, и без того ограниченной.
[Закрыть]
«Одною из важнейших потребностей» – сильно сказано!.. И это сказано о времени, когда число студентов ограничено было 300, когда кафедру философии, сначала загнанной до изнеможения, а потом и вовсе изгнанной в 1848 г., занимал полицейский Держиморда[508]508
См. с. 351. ч.1. Замечаний на проект Общего Устава И. Рос. универ. СПб., 1862 г. (офиц. издание). Записка Харьков, универ. приводит на справку, что в 1830–1833 гг. кафедру философии занимал в нем по назначению попечителя частный пристав (см. прим. к с. 351).
[Закрыть] не в переносном, а в буквальном смысле; и это говорил министр, доведший печать до последней степени унижения[509]509
См. Дневник Никитенко, II, 76, 3, 5.
[Закрыть], введший в университет на место «завиральных» наук вроде философии или политической экономии «шагистику» и фортификацию!?.
– А каково главное, – спрашивает цензор Никитенко Норова после ревизии, – как там учат и учатся? – Хорошо, отвечал тот, – уверьте государя, говорили студенты, мы[510]510
См. н. с. Никитенко, II. Чтобы дать некоторое понятие о том, что скрывалось под громким «мы», укажем, что в год посещения Норовым Казанского университета в нем на физико-математическом факультете было всего 35 студентов, из коих на естественном только 4 (см. «Воспитание», 1860. № 4. С. 23). Какое роковое значение имела для русского просвещения реакция 40-х гг., можно судить по тому, что под ее влиянием впервые правительство приняло меры к искусственному заграждению доступа к нему. Граф Уваров в 1845 г. издал циркуляр, в котором прямо указывал на прилив в средние учебные заведения лиц «рожденных в низших слоях общества». Николай I повелел вводить плату за учение и изыскать способы «затруднить доступ в гимназии разночинцам». С 1848 г. число студентов в университетах, кроме медицинского факультета, ограничено 300. Каково было влияние этой меры, можно судить по следующим данным. В Петербургском университете цифра студентов сразу упала с 731 до 387, в Московском – с 1168 до 821, а во всех 6 университетах – с 4016 до 3016… (См. Вестн. Европы, 1897, июль, 648).
[Закрыть] все наши силы посвятим науке.
Науке! Какой науке? вот вопрос. Той ли чистой, бескорыстной, возвышенной и возвышающей душу, «самоцельной» университетской науке, которая, отыскивая истину ради истины, служит не «избранникам», не сильным, а слабым мира сего, которая, говоря словами истинного учителя правды, покойного петербургского профессора Редкина, делаясь «неизменною подругою жизни, становится эгидою правды против неправды, щитом для беззащитных, орудием свободы для несвободных?»[511]511
См. Ст. 27. Т. I. Из лекции заслуж. проф. П. Г. Редкина. СПб., 1889 г.
[Закрыть]. Вот одна наука, наука неподкупная, мужественно-бескорыстная, свободно ищущая истину, наука как светоч человечества, как убежище, источник и критерий истины, хотя бы и не абсолютной, а той относительной, ограниченной истины, которой положен предел ограниченностью человеческих способностей – его же никто не преступает!
Но есть и другая наука. Это известная своею продажностью и угодливостью, «снаровитая»[512]512
Характеристике такой «науки» М. Щедрин-Салтыков посвятил в «За рубежом» замечательные строки: «Когда я был в школе, – пишет Салтыков, – то в нашем уголовном законодательстве (до 1845 г.) еще весьма часто упоминалось слово «кнут». Профессор уголовного права так или иначе должен был встретиться с ним на кафедре. И что же? выискался профессор (Я. И. Баршев), который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им ввиду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так: как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Мало того, он утверждал, что самая злая воля преступника требует себе воздаяния именно в виде кнута. Но прошли времена, и кнут был заменен трехвостною плетью. Нас, школяров, интересовало, прольет ли слезу буквоед на могиле кнута или воткнет осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию он сквернословил пред нами, говоря, как скорбела идея высшей правды, когда она осуществлялась в форме кнута, и как она ликует теперь, когда, с изволения вышнего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме трехвостной плети, с соответствующим угобжением. Он говорил—и его не тошнило, а мы слушали, и нас тоже не тошнило!.. Я не знаю, – продолжает Салтыков, – как потом справился этот профессор, когда телесные наказания были вовсе отменены; но думаю, что и тут вышел сух из воды. Кто же, однако, бросит в него камень за выказанную им научную снаровитость? Разве от него требовалось, чтобы он стоял на дороге с светочем в руках? Нет, от него требовалось одно: чтобы он подыскал обстановку для истины, уже утвержденной и официально признанной таковою» (сочинения М. Е. Салтыкова. Т. VI, 41). См. ниже прим. 47.
[Закрыть], гибкая, всегда услужливая пред сильными, наука-приспешница, наука-раба, ancilla, сначала продававшаяся теологии, а потом и всякой крупной общественной силе, влиятельному классу, государству, – и готовая освятить своим фальшивым духовным авторитетом всякий существующий факт и неправду; что ей Гекуба, что ей истина? Не мудрствуя лукаво она падает ниц пред всякою буквою действующего законодательства, готовит, формует, шлифует и обделывает, как техник и ремесленник, разных мастеров в области права, педагогики, медицины и пр. наук. Такая «практическая» наука, или, вернее, дельцовская дрессура, сноровка не источник для нравственного совершенствования и удовлетворения, а «дойная корова или пьедестал для самовозвышения»[513]513
См. н. с. Редкина, 26–27; прим. 47.
[Закрыть].
Какой же из этих двух, противоположных по духу и цели, наук хорошо «учили и учились» в дореформенные времена и в частности в норовское министерство? На этот вопрос мы находим ответ у вышеупомянутого собеседника Норова – Никитенко, достаточно компетентного по своему званию профессора С.-Петербургского университета и достаточно политически благонадежного по своей должности цензора. Вот что пишет Никитенко, как раз после приведенных слов министра: «Все это хорошие слова, дай Бог, чтоб они обратились в дело. Теперь все (?) видят, как поверхностно наше образование, как мало у нас существенных умственных средств. А мы собирались столкнуть с земного шара гниющий Запад[514]514
В Дневнике своем Никитенко отмечает под 19 сентября 1855 г.: «В публике много говорят о статье Погодина, написанной по случаю приезда государя в Москву. Там много самохвальства: «мы первый народ в мире, мы лучше всех» и т. д. (т. II, 19).
[Закрыть]! Немалому еще предстоит у него поучиться. Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 22 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено, умственное развитие остановлено; злоупотребление и воровство выросло до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине и слепой веры в одну материальную силу[515]515
См. н. Дневник, II, 20, 21.
[Закрыть]».
Упадок наших университетов, и раньше находившихся в незавидном положении, особенно стал усиливаться после революционного движения 1848 г.[516]516
См. Каченовского в ч. 1 назв. «Замечаний». С. 322–325. Бутурлин, по словам Валуева, предлагал закрыть все гимназии и университеты (Русск. Стар., 1891, IV, 173)*
[Закрыть], когда и без того стесненная свобода слова и мысли была окончательно задавлена. Совет университета лишился права выбирать ректора, увеличилась власть попечителя, число студентов уменьшено до 300, преподавание ограничено неподвижными программами[517]517
Идеалом программ было, пишет проф. Редкин, «устроить преподавание в наших университетах законов по своду так, чтобы во всех университетах в один известный день и час приходилось, т. е. просто прочитывалось из Свода каждым преподавателем по своей части именно столько-то статей без какого бы то ни было отступления от порядка Свода, без замечания или даже перифраза» (см. н. с. С. 6).
[Закрыть], отправление молодых ученых за границу для приготовления к профессорской должности прекращено[518]518
См. ст. 12, Университетский устав, 1863. СПб. (офиц. издание с комментариями). «Вестник Европы» (1897, № 6, 7) в статье, посвященной Московскому университету, бросает взгляд назад в сороковые годы. «Циркулярами 17 ноября 1844 г. и 9 января 1847 г. гимназия лишена была статистики и логики, последних представительниц общественных и философских наук, уцелевших в ее программе после реформы 1828 г. В 1849 году самый классицизм был заподозрен, как возможный источник революционных идей, и началось систематическое сокращение классической программы. Древние языки были удержаны лишь для желающих продолжать учение в университете; для остальных же, оканчивающих свое образование в гимназии, было усилено преподавание математики и введено преподавание законоведения. Изучение древних и языческих писателей найдено опасным для молодежи: преподавание греческого языка отменено или изменено в смысле чтения отцов церкви вместо классиков. В 1851 г., в противовес классицизму, в гимназическую программу введены естественные науки. Впоследствии, как известно, приобрел господствующее положение совершенно противоположный взгляд. Эти перемены в мнениях руководящих сфер не могли, конечно, иметь благоприятное влияние на развитие истинного просвещения. Сторонникам стеснений университетского преподавания следует напомнить, что было время, когда ограничительные течения не встречали на своем пути никаких препятствий. В 1849 г. университеты были лишены права избрания ректоров, а право избрания деканов было ограничено. Ученая деятельность профессоров и пополнение состава их новыми силами были крайне затруднены: в 1847 г. последовало распоряжение, чтобы лекции и речи профессоров печатались только с разрешения попечителей; чтение публичных лекций с 1848 г. разрешалось уже редко, а печатание ученых трудов встречало массу препятствий. В марте 1848 г. воспрещено было отпускать и командировать за границу лиц, служащих в Министерстве народного просвещения; в 1852 г. запрещено приглашать иностранных ученых; около этого же времени было ограничено, несмотря на заявление министра, право университетов выписывать из-за границы без цензуры книги и периодические издания. С начала 1850 г. введен был систематический надзор за преподаванием, с целью заключить его в строго определенные рамки; в начале курсов профессоры должны были предоставлять точные программы их, от которых не допускалось впоследствии ни малейших отступлений; за соблюдением этого условия на основании инструкции следили деканы, в свою очередь находившиеся под надзором ректоров; высший контроль над преподаванием и программами был возложен на главное правление училищ. Еще раньше (в конце 1849 г.) прекращено было преподавание в университетах государственного права европейских держав; та же участь постигла (1850 г.) науки, составляющие кафедру философии, за исключением логики и психологии, чтение которых было поручено профессорам богословия; последние обязаны были преподавать эти предметы по установленным духовным ведомством программам и (с 1852 г.) под присмотром тех же наблюдателей, которым поручен был надзор за преподаванием Закона Божия в средних и низших училищах. Бывший этико-политический факультет окончательно превратился в юридический, а название философского факультета вовсе пришлось уничтожить, разделив этот факультет на физико-математический и историко-филологический. Наконец, в 1854 г. в университетский курс введено преподавание артиллерии и фортификации»…
Ф. И. Буслаев, радостно приветствуя воцарение Александра II, время Николая I характеризовал в своих «Воспоминаниях» так: он говорил всегда, что в 40-х гг. идти к профессору в гости можно было только с опаскою. Нередко звонок вечером в передней профессора означал появление жандарма (см. Русск. Ведом. 1897 г– ^ сентября).
[Закрыть]; кафедра философии упразднена, некоторые университеты (Харьковский и Казанский) прямо подчинены военному ведомству в лице генерал-губернаторов.
Результатом такого «патриархального» режима было то, что, как гласит официальная записка, составленная в 1862 г. при мин. нар. проев. А. В. Головнине, «научная деятельность университетов видимо падала; многие кафедры оставались вакантными; другие замещались лицами, не имеющими ученых степеней»[519]519
См. н. Универ. устав, 1–9.
[Закрыть]. Словом, под видом замирения университетов достигалось их запустение: ubi solitudinem faciunt pacem appellant.
Если среди всеобщего запустения и оскудения университетской науки встречались такие исключительно светлые явления, как истинно просветительная академическая деятельность проф. Грановского, который своим животворящим словом и светлою личностью громко свидетельствовал с кафедры о непобедимой силе духовного начала, о живучести истины, вечно возрождающейся из собственного пепла, – то этот «чистый, как луч солнца, рыцарь без страха и упрека», спасший, подобно героям Севастополя, честь России, представлял собою столько же отрадное, сколько непонятное явление, почти сказочный, сверхъестественный оазис среди окружающего царства мрака и раболепства[520]520
Смерть Грановского цензор Никитенко оплакивал 7 октября 1855 г. в таких выражениях: «Боже мой, какое горе, потеря для науки, для мысли, для всего высокого и прекрасного: Грановский умер! Это был в нашем ученом сословии человек, которого можно было уважать за прямоту ума и сердца и которому можно было безусловно верить. Он был чист, как луч солнца, от всякой скверны нашей общественности. Это был Баярд мысли, рыцарь без страха и упрека» (т. II, 21). Замечательно, что ориенталист проф. Григорьев, впоследствии свирепый начальник главного управления по делам печати, в своем юбилейном историческом очерке о Грановском упоминает вскользь, Сеньковского же ориенталиста, а потом беспринципного фигляра-журналиста, возводит до небес, называя его «величайшею знаменитостью Петербургского университета» (251). Любопытно, что отзыв Герцена, расходясь, конечно, вполне с неприличным пристрастием ретрограда Григорьева, крайне близко подходит к трогательной характеристике Никитенко. Сопоставляя деятельность Сеньковского с влиянием Грановского и Белинского, Герцен говорит: «что взял Сеньковский со всем своим остроумием, семитическими языками, семью литераторами, богатою памятью, резким изложением? Сначала ракеты, искры, треск, бенгальский огонь, свистки, шум, веселый тон, развязный смех привлек всех к его журналу – посмотрели, посмотрели, похохотали и разошлись мало-помалу по домам. Сеньковский был забыт, как бывает забыт на Фоминой неделе какой-нибудь покрытый блестками акробат, занимавший на Святой весь народ, в балагане которого не было места, у дверей которого была давка. Чего ему недоставало? А вот того, что было в таком избытке у Белинского, у Грановского – того вечно тревожного демона любви и негодования, которого видно в слезах и смехе. – Ему недоставало такого убеждения, которое было бы делом его жизни, карта, на которой все поставлено – страстью, болью. В словах, идущих от такого убеждения, остается доля магнетического демонизма, под которым работал говорящий, оттого речи его беспокоят, тревожат, будят… становятся силою, мощью и двигают иногда целыми поколениями» (Колок., 1859. № 44). Избытком этого качества не страдал, по-видимому, и официальный панегирист Сеньковского Григорьев. Тот же Герцен указывает, что Московский университет благодаря Грановскому имел для нравственного достоинства России такое же значение, как Севастопольская оборона.
[Закрыть].
Но Грановские были исключением из исключений, и они создавались, по верному замечанию официального комментария 1863 г. «конечно, не уставом 1835 г.», а вопреки ему, будучи живым протестом и ярким диссонансом против существовавшего тогда университетского режима, для которого были нужны не люди самостоятельно мыслящие и будящие мысль, а только безличные исполнительные чиновники, как были не нужны такие люди и для жизни вообще, основанной на рабском преклонении пред статус-кво и китайском самодовольном обоготворении его. Юридический факультет, как обнимающий цикл наук, ведающих право, т. е. отношения гражданина к гражданину и обществу, всегда служит наилучшим пробным камнем для распознавания уровня свободы научного исследования в данное время и чутким барометром общественного самосознания.
Что же такое были наши юридические факультеты? «Науки политические были признаваемы тогда нашим правительством, – говорил в 1863 г. проф. Редкин, бросая взгляд назад, – весьма опасными для спокойствия государства (как известно, в 1835 г. этико-политический факультет был переименован по соображениям не научным, а полицейским, в юридический, а философский – в историко-филологический). Употребление политических знаний смешивали тогда с их злоупотреблением по той простой причине, что часто видели их злоупотребление там, где было wx употребление. Всякие политические рассуждения были нетерпимы не только в книгах и повременных изданиях, но и в частной, семейной жизни. Да и какое в самом деле можно было сделать тогда употребление из своих политических знаний, когда в благоустройстве нашего государства не было ни малейшего сомнения, когда все, казалось, было в совершенном порядке; когда извне смотрели на нас со страхом, смешанным с благоговейным уважением, чужеземные правительства, завидуя прочности, твердости, непоколебимости наших государственных учреждений, нашему могуществу, обилию наших материальных сил (см. §VI); когда всякое малейшее участие в государственной деятельности обусловливалось чиновничеством, состоящим на государственной службе; когда правительственная централизация и бюрократия проникли не в политическую только, но и в гражданскую, и даже в семейную жизнь; когда огромное большинство народа лишено было всех почти личных гражданских прав, а остальная часть, более или менее привилегированная, отличалась не столько правами, сколько обязанностями»[521]521
См. н. с. Редкина, 10.
[Закрыть]…
Во второй половине 50-х гг. этот пленительный порядок вещей, заклейменный П. А. Валуевым словами «сверху блеск-снизу гниль», стал понемногу исчезать, а вместе с тем начало улучшаться и положение университетов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.