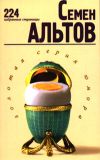Текст книги "Навье и новь. Книга 1. Звездный рой"

Автор книги: Игорь Горев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Крещение
Узнав о крещении сына, Семён, член партии, вначале как бы удивился, вопросительно поглядывая на жену, чуть наклонив голову вниз и вбок и несколько напряжённо сжимая ладонью кулак перед собой.
Он сидел в кресле, рядом на полированном журнальном столике валялась небрежно отброшенная газета «Правда» с датой от шестого октября тысяча девятьсот шестьдесят второго года.
После продолжительного напряжённого молчания он, наконец, решил озвучить вопрос. Несмотря на целый рой жужжащих и жалящих мыслей в голове, вопрос прозвучал кратко и просто:
– Зачем?
Любава пожала худощавыми плечами под ситцевым халатиком и виновато улыбнулась.
– Может так лучше. Защита, какая-никакая.
– В том-то и дело, что какая-никакая.
Семён крепче сжал ладонью кулак, так что по краям ногтей проявились бледные полоски. Лицо оставалось внешне спокойным.
– Никто ведь не узнает. Только Таня была. Она же и крёстная. Она смолчит, ты не думай, – Любава прошла и села напротив, чуть поддавшись вперёд и с мольбой продолжая смотреть на мужа, – мы с ней прежде уговорились обо всём.
– Ага, сорока-тихоня.
В отличие от жены, Семён родился и вырос тут на побережье, и город этот и его жителей знал куда лучше, отзываясь о последних: «Незаслуженно прописанные в раю. У нас всегда было: награждение непричастных и наказание невиновных».
– Эх, Любава, Любава, – ласково, но с горьким привкусом произнёс он, – у нас тут горы.
– И…
Любава устремила на мужа свои глаза, ещё не лишённые девичьей непосредственности.
– Горы, обращённые к солнцу. Климат у нас благоприятный для любой растительности, а про сорняки уж и говорить нечего. Я ничего против сорняков не имею, при определённых обстоятельствах и от них польза имеется.
Но они же у нас разрастаются так, что не только полезному растению или какому другому цветку отказано будет в существовании, но и любому трудовому человеку жития от них никакого. Так-то вот, Любава.
Этот краткий курс по растительности северо-восточного побережья Чёрного моря, прозвучало из уст Семёна как нечто глубоко осознанное и выстраданное.
После войны в городе на фоне субтропических экзотов, кипарисов и дубов, на склонах гор омываемых серо-бирюзовыми волнами вовсю зацвели цветы ядовито-васильковых и кричаще краповых расцветок.
Эти заезжие сеянцы имеющие свойства живучек, то есть способных выживать при любых обстоятельствах, будь то пустырь или благоустроенные кварталы, обязательно найдут себе расщелину и начнут оттуда такой буйный рост, что не успеешь глазом моргнуть как и асфальт растрескается под их могучим порывом к солнцу и фундамент начнёт осыпаться.
Поначалу местные жители сии «насаждения» восприняли как естественную миграцию и, вздыхая, пожимали плечами, указывая подбородком на переменчивый местный бриз: занесло видимо, так надо, пускай себе цветут на здоровье.
Такая толерантность объяснялась просто: люди устали от всякого рода экспансий, насилия, крови и страдания и жаждали одного – мира.
Время послевоенное. Так бы всё и прошло незамеченным, пока однажды кто-то из наблюдательных не заметил: что-то этих новосёлов стало заметно больше местных эндемиков. Прямо-таки засилье какое-то.
Лично я ничего не имею против цветовых предпочтений и вкусов – пускай размножаются себе на здоровье, но зачем навязывать свои ароматы остальным?!
Насаждать не надо!
Возмутиться, конечно, можно, но как быть с природой, привычками. Молчите, то-то и оно. А «васильковые» молчать не научены, им привили на уровне первичных инстинктов: чуешь угрозу, сообщи куда следует – и будешь жить спокойно.
Так среди приморских улочек расцвела вольготно и не возбраняемо новая культура – тихого доносительства.
Любава от родителей была наслышана в своё время и предупреждена, но в силу молодости была легковерна и по нраву склонна прощать.
Семён, помня историю отца, хотя тоже склонялся к прощению, но очутившись в «васильковом раю», возмутился и решил: не только сорнякам цвести. То отцовское правдоискательство в нём взыграло.
Однажды Семёна попрекнули на партсобрании, в ответ на его справедливые замечания «об участившихся случаев стяжательства и привилегий», крещеным сыном.
Стоически выдержав намёк-пощёчину от товарищей, а что скажешь – ведь, правда! – он не выдержал и заглянул по дороге в пивную. Где и задержался. Домой явился затемно. Шатаясь, прошёл на кухоньку. Бухнулся на стул, поелозив его по полу. Исподлобья посмотрел на жену снизу вверх.
– Крёстные, говоришь. Эх, Любава, Любава, – Семён вздохнул тяжело, и он с какой-то особенной нежностью взглянул на жену.
– Ты чего, Семён?
– Высказали мне сегодня на собрании, напомнили, дескать, прежде чем критиковать с себя начните. И то верно. То, что наш сын крещённый, разве только собаки на окраинах не знают – оно им надо.
Любава виновато улыбнулась, поправила чёлку, и после минутного молчания, опустив глаза, вздохнула:
– Сёмушка, так ты бы им и сказал, мол, жена дура. Я ей о светлом будущем, а она, тёмная, по старинке, да по старинке. Но ничего, проведём разъяснительную работу.
Семён покачал головой, то ли снисходительно, то ли досадуя, не сводя осоловевших глаз с жены.
– Подпольщица ты моя, темноглазая. Эх ты… Наш город после войны, всё равно, что особый отдел ВД и ГБ, – он помолчал и добавил, – пенсионный. Тут люди особого склада.
После женитьбы на Любаве он какое-то время сдерживался, не выпивал, если только по праздникам. Кто тут оказывал благотворное влияние трудно сказать, но, как говорится, – было.
Однако спустя некоторое время снова запил, частенько, по выходным посещая ресторан «Лазурный», благо тот был в десяти минутах ходьбы под горочку.
В горочку уже целый час с перекурами и в раскачку. Остановится, голова приятно кружится, мысли уже не толпятся, не галдят, перебивая друг друга. Нет в них рабочей напряжённости.
С недавних пор он стал охладевать к работе. Мельтешение цифр в отчётах набила оскомину.
Примиряло его с действительностью, отцовское наставление: «Ты партии и людям в любом качестве необходим, лишь бы исполнял добросовестно и честно. Тогда и уважение, и почёт тебе. Уловил…»
А так скукотища, «со стулом сросся», махнёт рукой:
– А давай по маленькой, – потом скривится, приставив кулак к носу, шумно вдыхая, – хороша, зараза. Вот батя мой молоток был, успел и шашкой помахать и в отчётах зарыться. Так-то вот… А я вот вроде и по его стопам и по совету, а всё ж…
– каким-то отчаянным движением отмахивается ладонью, – и войну не застал, так чтобы призваться.
– Не пойму тебя, Сеня, – массивный кубанец напротив, с обвислыми усами, вяло опрокинул стопку и столь же лениво наколол огурчик, продолжая жевать, черканул вилкой по воздуху, – работа, шо говорится, по всем статьям, замечательная. Не пыльная и денежная. А это, я тебе доложу, основа всему по нынешним временам. И ещё какая основа. И у начальства на виду и в заслугах. Можно и на пляже загораться. И чего судьбу гневить. А то, что сегодня на совещании пропесочили, так, – вилка тыльной стороной отстучала по скатерти частую дробь, – не без этого, – продолжал гундосить собутыльник и сотоварищ по работе, примиряя Семёна с правдой жизни, – жизнь она такая, с кем не бывает, тем более за женой не углядишь. Они юбками такую пылюгу метут за собой, такую вихру поднимают. А ты как всегда вспылил. Вспыльчив ты больно, Сеня.
Не надо, не к месту – собрание. Трохи и перетерпеть можно. Сказал бы, мол, так и так, товарищи, проведу в семье просветительскую работу. Мол, упущение имеется, а ты…
– Что я?! – вскинул голову Семён и уставился на нос кубанца, напоминающий залежалую на складе картошку, – скажи мне, чего моя Любава сделала не так?
– Вот те на! Вот так фортель, товарищ коммунист Семён! Вижу, тут одной стопкой не обойдётся.
Прозрачная жидкость с бульканьем перетекла в рюмки. Усы с удовлетворением отметили точность разлива:
– Видал, тютелька в тютельку! – Он сгрёб в кулак гранённое стекло, и заморгал на Семёна, да так смешно, что тот не выдержал и хмыкнул:
– Ты чего?
– А ничего, товарищ коммунист Семён. А ты, чаем, не из тех, кто сей опий употребляет? Сознавайся, давай.
– Че-его?.. – брови Семёна горой полезли вверх, потом смягчились до округлости холмов, на лице снова нарисовалась улыбка, – а, ты вон о чём. Не боись, перед иконами лбом не бьюсь.
– Вот те и слава богу! Успокоил. А то уж, было, грешным делом подумал. Вот дивлюсь я тебе, только без обиды, – кубанец испытующе взглянул на Семёна, памятуя задиристый характер товарища, – так с виду замо рух, а петухаешься порой так, что страшно. А чего жинку трохи не поучил? Дескать, ты, чья жинка, понимать, дура, должна. И всё! И делов-то! Ну, давай.
Они чокнулись и долго закусывали, кубанец деловито и с аппетитом, Семён вяло и задумчиво. Потом и вовсе отложил вилку.
– Да закипел-то я оттого, что пускай не лезут в мою личную жизнь. Что они меня плохо знают. Вот ты меня знаешь, Тимофей?
– Знаю.
– Тогда скажи мне и всем им, мог я и нашим и вашим, а? То-то же! – заметив отвергающий жест товарища, постучал пальцем по столу.
– А жена, – Семён откинулся на мягкую спинку стула, – Любава, – при упоминании имени супруги он весь как-то сразу обмяк, – ты её плохо знаешь, она… она настоящая.
– Что баба?! Да прекр…
И кубанец осёкся на полуслове, зная крутой Семёновский норов, заметив, как что-то дикое сверкнуло в глубине зрачков друга.
– Не баба, – произнёс Семён таким тоном, словно готовился ринуться вперёд, а сейчас рыл под собой землю, – слышишь, она не баба. Другие – да. Она – нет. Понимаешь, Тимоха, – он наклонился вперёд, сделал приглашающее движение ладонью и заговорил тише, – я сам не пойму её. Хоть и жена мне она. Ты знаешь, я уже был женат до неё. Да и баб перещупал хорошенько. Бывало…
– Ну знаю, – с опаской косясь в сторону Семёна, склонился Тимофей всем телом.
– Всё не то. Вроде и мягкотелые…
– Хм, – кубанец костяшкой указательного пальца пригладил кончики усов.
– Ага, вижу слушаешь меня внимательно, так вот – она нет.
– Это как?.. – вопросительно откинулся кубанец, встряхивая чёрным чубом.
– А как хочешь, так и понимай. Я же тебе что сказываю: все бабы на ощупь мягкотелые, а внутри чёрт сидит с твёрдыми рогами.
– Ха-ха-ха!
Все, кто был в зале ресторана, обратились в сторону покатывающегося со смеху Тимофея. Тот отмахивался руками, и вытирал выступившие слёзы. Потом виновато стал оглядываться.
– Ну, Семён, отчебучил, так отчебучил. И что за рога такие, – он похотливо обратился в сторону собутыльника, – рожища!
– Смеёшься? Соглашаешься?
– Как никогда в точку, рога, это же надо. Я бы ещё понял рёбра, но…
И он снова закатился смехом и долго не мог успокоиться. Семён оставался серьёзным, теребя вилкой остывший гуляш.
Дождавшись пока Тимофей успокоится он, не меняя интонации, продолжил:
– Так вот, Любава моя не такая. Она какая-то чересчур правильная жена. Женщина, – подумав, добавил Семён. – То, что готовит, убирает, верность хранит – такое о многих бабах скажешь. Чего уж там. Она, она… – Семён замялся, – даже не знаю, как сказать, – она вся отдаётся, понимаешь?
– Понимаю, чего уж тут не понимать?
– Не понимаешь, глупая твоя голова, – глубокий вздох, – не понимаешь. Будь я чёрт, и она бы стала чёртом. Будь ангелом – и она. В огонь, в воду – и она! Все бабы под себя стараются загребать, и тело своё берегут, а эта вся отдаётся. Порой мне страшно, Тимофей, страшно не за неё – за себя.
Тимофей икнул и весь выпрямился, уставившись сверху вниз.
– А тебе-то чего страшно, коли верная такая она?
– Развратник ты. И я тоже. Я тебе серьёзно, а ты… Мне с ней чего страшно-то. С другими я и чёртом могу быть, как говорится, зараза к заразе…
С ней – нет. Вот сейчас напьюсь с тобой, явлюсь перед её ясны очи… и мерзко. Будто плюнул в чистый колодец, из которого мне же потом завтра пить придётся…
Он отвернулся угрюмо. Весь его нахохлившийся вид говорил: не подходи. После продолжительного напряжённого молчания, не поворачиваясь, через плечо глянул из-под бровей на Тимофея.
– Слышишь?
– А чего слухать-то?
Пережёвывая бефстроганов вперемешку с винегретом, обратился к Семёну кубанец.
– Ничего, давай чокнемся, что ли.
И снова, не закусывая, отвернулся. У него горело в горле и обжигало сердце, откуда-то из репродуктора доносилось чеканное:
…Куба любовь моя,
Остров зари багровой.
Песня летит, звеня,
Куба любовь моя…
– Да, – вздохнул он, – дожёвывай и пойдём уже.
С Тимофеем они расстались у дома, под сенью глянцевой листвы вечнозеленого коричника камфорного. Тот побрёл, шатаясь дальше, в гору. Семён остался под кроной, глубоко затягиваясь папироской и с какой-то мукой поглядывая на свои окна.
* * *
Люди привыкают ко всему.
Привычка сгубит всё хорошее, превращает и самые возвышенные чувства в рутину.
Почему мы так легко попадаем под её разрушительное влияние? Так легче воспринимать жизнь со всеми её противоречиями, так нам легче примиряться с неправдами. Таким образом, вольно или невольно, но мы капитулируем перед явным, вопреки внутреннему ропоту не подчиняться.
Привычка – это штора, которой мы отгораживаемся от неустроенностей мира, от его несправедливости, грязи, а уж штору мы можем выбрать из настроений, вкусов и предпочтений.
За возвышенные чувства, за человеческое достоинство надо ещё побороться.
Отдёргивать шторы, впускать свет внутрь и выходить наружу и ответствовать «за предательство устоев», «за попрание традиций отцов».
Предстать перед толпой судей и прямо, без обиняков ответствовать: что есть человек, разве привычка? А если ваши привычки и кровожадны и ненасытны и заставляют презирать ближнего своего и смотреть высокомерно и надмеваться над всеми? Как быть тогда? Соглашаться? Вот и выбор: или быть осуждённым, или судить вместе со всеми.
Как отец отдаваться идее до конца, идти напролом, не отворачиваясь, ни от хлёстких ветвей, ни от завывающей колючей позёмки, идти на лишения и штыки Семён мог, за ним частенько подмечали неуступчивость: «Весь в батю – взрывной и строптивый. Только тот…»
Мог, и он знал в себе эту возможность, и вместе с тем за Семёном замечалась и недосказанность. Так конь мчится подгоняемый шенкелями и вдруг остановится как вкопанный у самого препятствия, аж копыта в землю врастают.
Так же и Семён, вскочит на собрании, отмашется кулаком налево и направо и вдруг покраснеет, извинится и вернётся на место.
«Так чего же вы замолчали, товарищ Нелюдимов, у вас имеется дельное предложение, а не эти ваши кавалерийские наскоки?»
Недосказанность он и сам подмечал в себе, и частенько бранил самого себя, клял. И ничего не мог поделать: «Что мне новую революцию устраивать что ли? Против кого? За что? Ведь и так сообща социализм строим. Бате легче было, у истоков-то. Там всё понятно: вот он враг классовый, враг непримиримый, либо он тебе шею свернёт, либо ты».
Случай сделал однажды отца Семёна счетоводом.
Тот принялся с присущим ему воинственным пылом и напором: «Я вам не дам народные деньги разбазаривать, сукины дети».
Не многие советские начальники уживались с ним. Если честно – один Апутин: «Вы мне подобные инсинуации оставьте, слышите! Я ему как себе верю. Он и за бумаги эти-то засел не по корыстному расчёту какому. Чихать ему на всякий интерес и карьеры. Его партия попросила. Уяснили!»
Семён уже был покладистее. И времена уже были не столь романтичные: не партия просила идти на передовую – жизнь, и не на передовую, а… просто так получилось.
Революционные пожары сами собой распались сначала на отдельные костры, потом и вовсе на тлеющие угольки, если они кого-то и могли согреть, то, сами понимать должны, кто и в такой малости тепло углядеть способен.
Бухгалтером Семён стал скорее случайно. Тут память об отце сработала. Добрая память. Сосед по району, подметив задатки юноши к быстрому арифметическому счёту, посоветовал и подсобил: «Тут батя твой работал, честно. Чужую монету в ладони не прятал. Вот и ты давай. А я слово замолвлю».
Да вот остыл в нём бойцовский пыл, как лава горячая, вырвалась наружу, а дальше потекла по клону вниз и застыла в корчах между жаром и промозглыми ветрами, слоями легла, растрескалась, уродливо искривилась. И батя, со всей его честностью и несгибаемостью, сгинул в ссылке, некому было ковать и закалять, добрый клинок. Не с кем стало отправляться в дальние плаванья к великим открытиям среди бумажных штормов.
Новые времена – новые вызовы: нельзя к цифре без уважения и внимания должного; к цифре инструкция прилагается, наставления, пособия.
И еще цифра чёткости требует во всём, ей всякие там двусмысленности ни к чему.
У неё каждый «икс» стремится логически выразиться.
Однозначно.
Не от того ли батя в ссылку отправился – он социализм по-ленински понимал: не усложнять надо, а упрощать управление, не взращивать бюрократию, наоборот, стремиться к искоренению всяческих её появлений, «так чтобы каждая кухарка…»?
Семён всё чаще мысленно обращался к отцу: «Тебя и товарищей твоих классовая ненависть двигала, направляла, а мне, мне как быть – все свои кругом, все товарищи, и вместе с тем, недосказанность какая-то, словно каждый ходит и что-то своё вынашивает внутри себя. Хорошее ли?.. А кто его знает».
И ещё.
Отцовское поколение идея вдохновляла, нынче всё не так. Имеются интересы. Допустим интерес государственный – это одно. Другой – интерес предприятия. Социализм предприятия не отменял и министерства, и постановления, и инструкции разные.
И уж в последнюю очередь у каждого человека интерес особенный, а как же, и уж он-то как указ – превыше всего. Президиумы с высоких трибун о своём докладывают, а на кухне свои разговоры, и не скажешь чтобы трёп какой – о насущном.
На первый взгляд пойди каждому умасти. Но то на первый взгляд, лицами все разные, говорами тоже – интересы схожи.
Выпиши одному премию, справедливо выпиши: «… каждому по труду…» – другой возмущается.
И работать никогда не будет, а если и наклонится так с ленцой, зато крику, крику будет: «Почему ему так, а мне, значит, этак?! Не для того мы государство наше социалистическое строили, что бы у нас снова привилегии заводились?!»
Завистлив наш народ, и то никакой революцией из головы не вычешешь. Хоть шашкой её, в смысле – голову, сноси. Блоха та вредная на другую голову обязательно юркнет.
Пренепременно перепрыгнет – природа у неё такая.
Семён наслушался в своём кабинете «ходоков за правдой», вначале чертыхался, что-то доказывал, к совести взывал, пока однажды не решил «блюсти интерес предприятия»: государство оно там где-то, в Москве, а предприятие вот оно родное, кормилица.
– Свинство, что тут скажешь!
– Что ты, Сёмушка? Чем печалишься?
Семён опустил газету на колени и каким-то отрешённым взглядом, морща лоб, обратился к жене.
– Да вот пишут о событиях в Заливе свиней. Не живётся капиталистам спокойно. Народ ясно дал им понять: хотим жить свободными. Нет же, закабалить человека надо.
– Да о ком ты?
– Да вот статья в «Правде» о событиях на Кубе.
– А-а?
– Что, «а?». Люди там новую жизнь строят. С нуля можно сказать. Хорошо, – Семён многозначительно вздохнул.
– Чего же хорошего? Неустроенность, разруха поди.
– А то хорошо, Любава, что кубинцы теперь живут честнее нас. Ни инструкций, ни пособий. Живут одним днём, но с заботой о завтрашнем. Правильно живут. Идеей.
– Так и мы так же.
– Так же да не так! – Семён раздражённо стрельнул на Любаву, – понимать надо. Мы вот с тобой за квартиру эту уцепились, аки клещи какие. А там жилища свои побросали, капиталы вытряхнули со всем их духом наживы и заново, светлое будущее решили строить. Не меркантильным живут. Факт.
– Семья, по-твоему, плохо? Покой? Сын не голодный спит под крышей споко…
Тут из соседней комнаты, словно подслушав родительский спор, спохватился детский плачь.
– Видишь, не хлебом единым, – усмехнулся в спину убегающей жене Семён, – малой, сосунок и тот понимает.
И он снова углубился в чтение статьи о бое в Заливе свиней.
Было видно, по его напряжённому лицу и подвижным бровям, он сопереживает тем далёким событиям.
Эх, не ко времени родил ты меня батя, мне б… Вот на этом многозначительном «мне б…» и застревали всегда мечты Семёна.
Тут и Любава появилась, вынырнула из темноты комнатной, где уснул сын, Устин, локоны разбросались по плечам, усталая, без макияжа и такая близкая и милая.
Она единственная кто воспринимал его таким, какой он есть. Весь его противоречивый внутренний мир, его свободолюбие, стремление к лучшему применению себя в жизни и вместе с тем соглашательство с происходящим вокруг, каким бы лицемерным двусмысленным оно не было.
– Понимаешь, Любава, не вижу я в этом социализма! Хоть убей – не вижу!
Подвыпивший сидел он на краю стула, шатко и неловко, обхватив лицо ладонями, словно закрываясь от чего. И весь дрожал, мелкой дрожью. Любава, как могла, успокаивала.
– Сёмушка, так строим же…
Он взглянул на неё сквозь пальцы, которые словно хотели содрать с лица маску, но щадили, теребя лоб мягкими фалангами.
– Ты не понимаешь. Не по-ни-ма-ешь. Слышишь! Живое нынче подменяется. Меня, тебя – никого нет в моих сегодняшних отчётах. Достижения, хорошо, согласен.
Свергли царя, свинтили шею собственникам-кровопийцам. Сами кровь сосали – ею и умылись, когда хлопнули посильнее, и поделом. А всё равно, всё равно, Любавушка, продолжает кто-то кровушку нашу пить. Человеческую кровушку. Вот получил сегодня ответ.
Он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист, исписанный печатными буквами и скреплённый гербовой бумагой. Любава пробежала глазами по тексту и нахмурилась.
– Чего же они так-то. Ты же рассказывал, мало таких коммунистов было, кто жизнь за идею готов был положить. И вот снова отказали. Почему?
– А потому, что человека там не видят. А как им меня увидеть, коли я им отчёты голые шлю. Цифрами отписываюсь. Достижениями глаза замазываю. От этого они не прозреют. Крепостными были такими и остались. И крепость та не в указах царских или ещё каких – в нас! Крепость проклятущая.
И он со всего маха начал колотить себя кулаком в грудь, прямо в сердце.
– Сёмушка! Родимый, да ты чего, прекрати! По сердцу-то!
Она всем телом налегла на руку, словно прикрывая Семёна от собственного кулака.
Чуть позже они сидели, крепко обнявшись, он беспрестанно гладил Любаву по спине и приговаривал:
– Это мы ещё посмотрим, это мы ещё посмотрим…
* * *
– Ты мне это прекрати, Семён Степанович, демагогию развёл тут. То, что выгодно предприятию – выгодно партии, стране. Уяснил!
– Нет, Велимир Иванович. Ваши фонды заработной платы одного не видят – человека.
– Как раз, наоборот, о нём и забота.
Хлопнул по кипе бумаг раздосадованный директор.
– Забота, говорите, – зло усмехнулся Семён.
– Да, утверждаю.
Заматерел Хлоп, в землю врос основательно. Округлые директорские формы растеклись в кресле, из-за щёк на Семёна острыми жалами щурились маленькие глазки, похожие на стальное остриё иголки.
Семён нагло навалился на стол руками и, не переставая криво ухмыляться, неожиданно мягко продолжил:
– И правильно утверждаете. Правильно, товарищ директор.
– Да? – жала в прищуре словно одновременно затупились и стали напоминать серую желейную массу, – соглашаешься?.. И с отчётом у нас будет, я так понимаю, порядочек?
– Будет!.. Семён отстранился от директорского стола. – Нате, выкусите!
Кукиш из тонких семёновских пальцев вырос прямо перед лицом Велимира Ивановича Хлопа. Тот поначалу опешил.
Затем желейная масса выпучилась гневно, и щёки мелко сотряслись, он весь побагровел, скинь в этот миг всю одежду вот вам и великолепный натурщик для картины «Красный конь» – революционный символ.
– Что… что вы себе позволяете, Семён… Степанович. Я вас попрошу…
– Что? – пряча кукиш, – рисовать цифры так, как вам угодно. Премии эти ваши фиговые по карманам рассовывать. Вот чего!
– Да… да так как угодно мне, – директор поперхнулся и тут же поправился, – если хотите, предприятию.
– Хотите честно. Как коммунист коммунисту, в лицо. Так вот, все эти ваши фонды и экономия заработной платы – лазейка. А в той лазейке лукавый сидит и кущами небесными заманивает. Вы, почему рабочего не уважаете?! Сэкономили, а канцелярским крысам, это я о нас с вами, премии выписали.
– Так и вам же, – директорские глаза взглянули испытующе.
– Идите вы знаете куда? Пока я тут бухгалтером, ни один, слышите, ни один работник «Парижских коммунаров» обижен зарплатой и премией – не будет! Точка!
– А как же: «от каждого по способностям, каждому по заслугам». А? Это, что сегодня уже не коммунистический лозунг?!
– Коммунистический. Да не про нас с вами, видимо. Вот!
– Ну так поднимите его над головой, а не волоките за собой, словно следы заметаете тряпкой кумачовой.
– Что! Да как вы смеете. Я так этого не оставлю. Я на партсобрание вынесу. На рассмотрение…
Но Семён уже хлопнул дверью, ей и досталось напоследок испить директорского гнева.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.