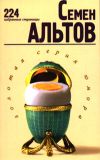Текст книги "Навье и новь. Книга 1. Звездный рой"

Автор книги: Игорь Горев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Видите, уезжали из одной страны, а приехали в другую, – пошутил на прощание «Луначарский», – и тут обязательно воздвигнется чья-нибудь многоэтажная правда.
Любаве не хотелось расставаться с таким интересным собеседником вот так запросто.
– Мы так и не познакомились. Любава, – она хотела прибавить отчество и передумала.
Старичок галантно приподнял лёгкую белую шляпу и представился:
– А меня зовите Иваном… Галактионовичем.
– Простите за нескромный вопрос, а по профессии или образованию?
– Реставратор, вот этих самых купольных чудес, – и он неожиданно пальцем ткнул в нарисованный храм.
– А из нашей беседы я было подумала…
– Люблю. Не подумайте чего. Мне непонятно одно во всём этом: кто разделил нас на клирос и мирян? И почему в дореволюционной России, где храмы крепко стояли чуть ли не на каждом перекрёстке, а не спасли?.. У меня, искусствоведа, порой возникает… Ладно, всего вам доброго.
Реставратор раскланялся.
Любава пошла домой, сзади гремела стройка, предвещая грядущие перемены в их районе…
Помяните мя убогого
Вся жизнь наша чем-то напоминает поездку от одной остановки до другой.
В начале пути, ты, так или иначе, выглядишь бодрячком, ещё тешишь своё воображение раскрывающимися видами, впечатляешься тем, что ожидает впереди, а в конце как придётся, измотанный, издёрганный, затёртый, но тут всё субъективно, зависит от настроя, силы характера и с кем и как повезло ехать.
Повезло, не значит, что тебя ублажали всю дорогу, поднимали дух бравыми маршами, заражали оптимистическим пустословием, бывает и так, что попутчики только и делали, что испытывали твоё терпение и ты, невзирая ни на что, обретал его.
Имеется ещё множество вариантов. Вот один из примеров. Можешь ехать по этому маршруту на собственной машине и вполне возможно, что она будет дорогой и лимузином с личным водителем – результат на конечной непредсказуем.
Распахиваются затёртые жизнью двери и оттуда вываливается толпа и среди них весельчак и балагур, и от него хоть сейчас заряжайся и заряжай все свои гаджеты.
А из обитого кожей салона, где нега и что говорится: «полный фарш» сладких штучек, призванных беречь и холить избалованное комфортом тело.
Что же тело? Нет, вы только посмотрите, да оно разбито, измочалено и вот-вот рассыплется, чтобы пророчески исполнить: «прах к праху», но намного раньше срока. Досрочно.
Промелькнуло за окном одним взмахом метлы, смахнуло пожухлую листву, и вроде был уже здесь, и хочется вдохновиться новизной и чистотой. Приглядись, а уж и дворник дряхл и еле-еле машет стёртой в лохмотья метлой, всё так, и всё не так.
И вроде ехал-то совсем ничего, а вот получается, что целый век, ну или почти. И век у каждого свой.
С нечаянным знакомцем, который когда-то представился Иваном Галактионовичем, Любава виделась случайно несколько раз. Тот всегда приветствовал её, на старосветский манер приподнимая шляпу, летом соломенную, зимой фетровую, она всегда, почему-то смущалась, не привыкла.
– А это вы, рад нашей встрече.
– Гуляете?
– Разминаюсь вот, иду к храму.
– Так он вроде…
– Хотите сказать, новый?
– Да, в общем.
– Болезни храмовые, с человеческими схожи. Дела, – загадочно прибавил реставратор, – такие вот дела.
Однажды она прошла мимо, не поднимая головы.
– Любава?! Вы ли это?
Она остановилась, подняла потухший взгляд, молча кивнула, отвечая на галантное приветствие. Иван Галактионович вдруг подошёл вплотную, мягко взял руку женщины в свои ладони:
– Крепитесь, дорогая, у вас ещё много радостей впереди.
– Крепиться? Это вы мне как реставратор советуете?! – Она попыталась улыбнуться, но руку освобождать не стала, не чувствуя в том ничего скабрёзного, скорее участие.
– Можно и так сказать, – бородка клинышком согласно закивала, – реставратор он ведь как целитель. Вам сейчас трудно, я же вижу. Вот так же входишь под своды – всё блестит начищено, благолепие видимое, и тут же выходишь вон. Нечего там делать кругом, куда не посмотришь – фальшь. А бывает часовенка и старенькая и невзрачная с виду, но под маковкой её – жизнь. И я как реставратор со всей серьёзностью своей профессии сделаю всё, чтобы вернуть в неё силу молитвы животрепещущей. Молитесь, Любава, и вас минует.
– Что?
– Сейчас безысходно? Я вижу, – мягко, неуловимым движением ладони, предупредил Иван Галактионович попытку Любавы что-то сказать в ответ, – вижу. Вижу и другое: вашу радость. Будет, – опять тот же предупредительный жест ладонью, – болезни храмов, в храмах и заключаются и тут их спасение. Поверьте мне: спа-се-ни-е. Вы поняли!
Любава проводила взглядом высокую и худую фигуру, удаляющуюся в сторону нового квартала, уже успевшего обжиться, обставиться машинами во дворах, обвешаться стираным бельём.
Над всеми высился новёхонький храм, сверкая куполом, будто гриб посреди собственных мицелий. И все её беды представились ей чем-то вроде позапрошлой листвой ещё вчера досаждавшей работникам управляющей компании, а сегодня едва заметной под деревьями. И впервые за последнее время она сделал попытку улыбнуться.
У неё получилось.
* * *
– Доброго вам дня, – весь, от пяток до макушки, озарился наиприятнейшей улыбкой Петрушкин-Южный, – рад вас видеть!
И он расплескался руками, словно ими за верёвочки дёргала сама радость.
Образ радости и успешности дополнял дорогой вельветовый костюм мышиного цвета с отливом, застёгнутый на одну пуговицу так, что нельзя было понять, это небрежность или умысел, хорошо продуманный перед зеркалом.
Цветастый шейный платок манерно подпирал вытянутый овал лица, где впалые щёки соседствовали с тонким выдающимся носом орлиного профиля. Большие карие глаза прямо-таки излучали томный романтизм.
Устин заулыбался в ответ. Кто же не знает Петра Самуиловича Петрушкина-Южного, талантливого артиста, городскую гордость и всеобщего любимца, которого женщины за глаза называли, непременно вздыхая, «абажулькой».
Он и сам, если бы не чрезмерная скромность, готов был целовать себе руки и любоваться отражением, примеряя роли и парики.
Его амплуа было чрезвычайно широко, с легкостью мешал он трагедийные и комедийные роли, горькие слёзы и гомерический гогот. Кто-то однажды сказал о нём: «Он играет неистово, хочешь, не хочешь, а поверишь». О последней роли уже заговорила вся страна.
Режиссёр Нахалков снял историческую эпопею, в которую пригласил нашего Петра Самуиловича на роль незначительную, можно сказать эпизодичную. У Нахалкова был нюх на успех, он принюхивался к людям и давал им то, что они от его фильмов ожидали. Художник – нет, но конъюнктурщик славный.
– О боже, как вы сыграли Христа! – восхищалась смазливая ведущая телепередачи «Наше всё и ещё чуть-чуть». – Просто гениально! Вы показали себя мастером эпизода. Если честно, я плакала.
И они дружно одновременно всплёскивали руками, так что вздрагивала камера. Не будь условностей телеэфира, так и бросились бы в объятия друг друга делать «чмоки-чмоки» и поливать сиропом.
Довольный широкой славой, Петрушкин-Южный деловито вспоминал, вольготно, по-хозяйски, развалившись в кресле:
– Представьте себе раскалённое крымское лето в районе Ялты, – он закатывает глаза, – скалы, зной, задувающий с моря, и эта сцена на кресте. Один дубль, второй… Нахалкова вы знаете, он может выжать из артиста невозможные эмоции. Великолепный режиссёр!
– О, да-да! Его фильмы не нуждаются в рекламе (сами как рекламные ролики – броские).
И снова всплески руками, прямо чайки, учуявшие добычу. И вот уже режиссёр вылизан заочно.
– Вы довольны – вся страна рукоплещет вам?
Потупленный взор, руки перебирают отработанные перед зеркалом жесты.
– Доволен ли я, конечно, прочь ложную стыдливость, такой ролью может гордиться каждый уважающий себя артист. Она не просто трагедийна, она апофеоз всех человеческих чувств. Там, на кресте, – рука эффектно вздёргивается и указывает куда-то за спину вверх, – моя душа стенала: как мы могли? Как мы могла такого человека…
Лысеющая голова поникла, изображая скорбь.
– Я рад видеть нашего черноморского Христа! Весьма и весьма рад!
Татьавосов Сергей Эразмович благодушно хлопал знаменитость по спине, другой рукой приглашая в столовую.
– Коньячок? Ну, конечно, и не отказывайтесь, сделайте милость, я же не предлагаю дружескую попойку, так для бодрости духа пять капель великолепного армянского коньяку. Как доктор заверяю вас это очень и очень полезно для сердца.
– Как доктору я вам доверяю, Сергей Эразмович, вы у нас видный санаторный дока.
Соглашается Пётр Самуилович, с высоты поглядывая на докторскую залысину. Сперва разговор не клеился, общие фразы, обязательно похвальные, помянули солнечный день, поспешно догорающий за окном, вспомнили бархатную осень.
Но коньяк, «да под икорочку», сблизил. Заговорили о наболевшем. Татьавосов посвятил гостя в свои заботы главврача и, между прочим, намекнул:
– Дом наш беспокоит меня, честно вам скажу.
– Что такое, Сергей Эразмович? – свёл густые брови Пётр Самуилович.
– Вернее не дом даже, буду с вами откровенным, жильцы. Вы замечали странное поведение Нелюдимова?
– Устина? Ничего необычного. Ну, стал чураться человек общества, ну хочет быть одиночкой, так то его право. И, кроме того, надо учитывать всё то, что ему пришлось пережить. Жизнь, жизнь, – деланно вскинул руки актёр, – кто знает, что нас ожидает.
– Всё правильно, – соглашается Татьавосов, – всё правильно, и я того же мнения, уважаемый Пётр Самуилович, если бы не одно «но». Он не просто отчуждается от общества, он, мне кажется, ненавидит это общество. Более того, такое впечатление, а мне доктору виднее, что у нашего Устина с психикой не всё в порядке. Мизантропия налицо. Последствия болезни? – он вопросительно поджал губы, – трудно не согласиться. Вот и надо вдвойне внимательнее нам к человеку!
– Да ладно вам!
Петрушкин-Южный осторожно прикладывает салфетку к уголкам губ, и с чувством откидывается на спинку дивана.
– Я долго сомневался, продолжал наблюдать, привычка врачебная, сами понимаете. Он аутотентик…
– ?
– Так называется человек живущий своим внутренним миром, и только. Так сказать, варится в собственных мыслях.
– А-а, – многозначительно кивает актёр.
– Ну аутотентик и что такого, уговаривал я себя, что у нас мало бук всяких. И вот же опять, пережитая им болезнь…
– И верно, – приободрился Петрушкин-Южный, разглаживая морщины на лбу.
Татьавосов пригубил из бокала на короткой ножке благородный напиток, посмаковал, делая приглашающий жест визави. Они чокнулись, раздался приглушённый звон тонкого стекла.
– Однажды подхожу к подъезду нашего дома, чувствую запах газа. Сильный запах, прямо-таки невозможно сильный. И тут натыкаюсь на Нелюдимова, весь взъерошенный, чем-то сильно озабоченный, идёт никого не замечает и вслух сам себе наговаривает какую-то ересь. Не то: «Мертвецы, мертвецы одни вокруг. Как от них избавиться», не то ещё какую-то белиберду, кто его там разберёт – идёт, бурчит себе под нос. Я останавливаю его и спрашиваю: «Устин Семёнович, а вам не кажется, возле нашего дома газом сильно пахнет?»
Он на меня взглянул так, будто и впрямь мертвеца увидал. Глаза таращит свои чёрные, и даже попятился, а вслух: «чур, чур».
– Что вы говорите? Не замечал, не замечал.
– Вы не врач, ваше дело за музами ухаживать. Это мы по земле грешной ходим и все наши болезни подмечаем.
– Да, профессия обязывает.
– И не говорите. Так вот, я снова с тем же вопросом к нему, он спохватился и бросился обратно в подъезд.
Мне осталось только пожать плечами, стою, слышу, гремит он на кухне у себя (окна Нелюдимовых как раз над входом). А ту историю с сараями помните? – Дождавшись утвердительного жеста, Сергей Эразмович продолжил, – приставы тут, рабочие, а он сцену закатил. Помните! Ну чем не полоумный?! Кидается, кричит. А ведь всё по закону, по суду…
– Да пренепреятнейшая история, скажу вам.
– Так вот сижу я вчера, новости смотрю, а там про взрыв бытового газа в квартире. В той квартире бабулька жила, в новостях объявили, что за ней присматривали родные и соседи, но не будешь же, в самом деле, по пятам ходить? Согласитесь. Устин наш хоть и не старик вовсе… М-да. Но поведение его меня, как врача настораживает. А вас?
– Да уж, – поёрзал артист, – с сараями тогда нехорошо, спасибо, кстати, вам ещё раз. Тогда всё разумно решили с межеванием и правильно развели интересы. Не все сараи в тот злополучный день успели разрушить.
– Хорошо бы подстраховаться.
– Что же вы предлагаете, дорогой вы наш Сергей Эразмович? Не определять же нам его в психушку? Да и времена нынче не те.
– Что вы, что вы: человека в психушку, – испугано замахал руками Татьавосов, – но проверить ради нашей всеобщей безопасности надо. У меня семья и у вас семья. Дети…
Далее Татьавосов выложил свой план. Петрушкин-Южный выслушал, и только спросил:
– А кого вторым намечаете?
– Так Законочкина. Он и в органах служил, ему и доверия больше.
– Законочкина, говорите, – озабоченно нахмурился Пётр Самуилович, теребя лоб тонкими пальцами. Именно из-за высокого лба и этих пальцев его избрали при кинопробах на роль Христа, – а вы уверены, – и сам засомневался, – репутация, знаете ли… Я человек известный.
Татьавосов нервно пригубил и косо посмотрел на губы артиста, изображающие внутреннее переживание и нерешительность, про себя он проклинал этого «исусика»: «ишь, заботится об имени». Пришлось вынимать главный козырь.
– Да, кстати, недавно был в Москве, так вот вам ещё новость, новость сногсшибательная и волнующая, но пока между нами, прошу вас. Пренеприятная!
Лицо главврача санатория стало таинственным и значительным.
– Что такое?
– Санаторий наш будут приватизировать. Я прямо-таки расстроен, честное слово. Места себе не нахожу. И санаторий, и парк, и наш дом под вопросом.
– Да что вы такое говорите?! Наш красавец? Не отдадим! Я сам писать буду!
– Кому? – дурашливо осведомился Татьавосов.
– Кому полагается, всё-таки памятник федерального значения, – тыкнул пальцем в потолок Петрушкин-Южный, изображая величественную позу защитника.
– Так там и принимали решение, – в свою очередь туда же потыкал указательным пальцем Сергей Эразмович, – так сказать на федеральном уровне.
– Неужто всё так серьёзно? – сник артист, – а мы как же, наш дом?
– А вы как думаете?
Артист слушал, и его сердце сжималось в тревоге: жить в парковой зоне санатория, под сенью гималайских кедров, дыша целебным воздухом «камфорников» – мечта. И вдруг такая катастрофа.
Его живая натура была тронута настолько, что врач забеспокоился, заметив бледность на лице:
– Что с вами?
– Неужели расселят? А ведь дом практически одногодка санаторию. Куда же мы?
Когда хозяин богатой квартиры с видом на морские просторы, снова пожал плечами, слава города запаниковала.
– Я… я… до министра дойду… ах, да, – он высоким жестом греческих мыслителей указал на хрустальную люстру, и той же ладонью махнул с видом: о чём это я, вслух же упавшим голосом пролепетал, – расселят, уважаемый Сергей Эразмович, и куда, в загазованную толчею центра?
– Ну что вы так переживаете, нельзя так, поберегите сердце, оно – наша гордость. И я обещаю вам, что сделаю всё возможное, и от меня зависящее. В любом случае вас, дорогой вы мой сосед, я без внимания не оставлю. Вот почему нам всем важно теперь жить, не давая повода для, – и снова палец тычет в потолок, – вопроса о выселении. А тут поведение Устина, ведь он самый непредсказуемый из нас всех. Как выкинет коленца. Что там подумают? Какие оргвыводы сделают, а?
Артист решительно встал на защиту мироустройства, он больше ни секунды не сомневался:
– Я на вашей стороне, Сергей Эразмович, можете на меня положиться.
Не успела закрыться дверь за «фанфароном», как тут же Сергей Эразмович энергично потёр руки.
– А шейный платок, что ни говори, смотрится стильно, надо взять на вооружение. Итак, вроде выгорает.
Дело в том, что в своё время он сам совершил крупную ошибку, сделав Устина чуть ли не главным акционером санатория, после московских владельцев акций и себя, естественно.
Тогда он здраво полагал, что человек одной ногой стоящий в могиле вряд ли будет задумываться особо, что ему все акции мира, когда скоро…
Подсовываемые ему бумаги Устин подписывал не вчитываясь. Сергей Эразмович посмеивался мысленно: «Сдулся, сдулся наш грозный Устин. Глянь, подписывает не глядя. Весь осунулся и только одно твердит: «Прошу вас о сыне и матери позаботиться. Думаю, дивиденды предвидятся?» Остаётся только поддакивать, дескать, подписывай, а там посмотрим, санаторий, сам видишь, едва дышит. Раньше этот авантюрист по-другому к этому вопросу подошёл бы. В нас – врачах, – оказывается, великая сила кроется, вот таких вот князей прегордых причёсывать.
Только заяви о болезни неизлечимой и всё и потом хоть верёвки из него крути – паиньками становятся и ещё благодарить станут. В случае успеха, а нет, так и спрос невелик, с мёртвого-то».
– Уж я постараюсь Устин Семёнович, всё, что смогу – сделаю.
«Подписывай, подписывай, по внешним признакам твоим осталось тебе немного, так что я тебе и царство могу пообещать, но не буду».
– Что ж, мы и малому будем рады. Бедным себя никогда не считал.
Устин, мучимый тогда болезнью, так посмотрел на Татьавосова, что того покоробило и он невольно вытянулся в струнку и пролепетал:
– Но обещаю к концу года, так сказать… Да, и вот ещё, я помогу привести документы на придомовой участочек твоего отца в порядок. Ты их мне занеси.
– За участочек спасибо, занесу. Обязательно занесу. Мне сейчас, сам понимаешь, не до этого, матери, всё ей, потом…
Теперь пришло время исправлять ошибки прошлого.
Сколько ни обдумывал свои планы Татьавосов, сколько ни делал расчётов, всячески подстраховываясь, обязательно наступал момент полного краха.
Выручала нечеловеческая изворотливость и нахрапистость. Живучесть и умение оставаться на плаву. Когда на кону был личный успех или обыкновенная человечность с её надуманными ценностями, он, не раздумывая, всегда выбирал первое.
Щекотливый вопрос, лишавший Татьавосова сна, решился на удивление легко.
Заявления от двух уважаемых граждан, проявляющих таким образом чуткость в вопросах общественного спокойствия, легли на стол участкового.
Тот после «вразумительного» разговора с главврачом санатория и звонка от начальства, незамедлительно дал ему ход и взял под личный контроль:
– Соблюдение законности на вверенной мне территории, считаю своим долгом – отбарабанил бравый лейтенант Добродеев, взяв под козырёк.
– Молодец, лейтенант, далеко пойдёте с таким-то рвением!
Татьавосов пренебрежительно похлопал полицейского по плечу. Тот важно зарделся.
– Завсегда рады прийти на выручку нашим людям, по долгу службы, так сказать.
«Нашим людям» прозвучало в мягких устах Добродеева Маратовским: «Сограждане…»
* * *
Административное здание на Дагомыской 48 замышлял, по-видимому, архитектор с больной психикой или предрасположенный к тому.
Впрочем, не будем сгущать краски, скорее всего дело обстояло так, прослышав о том, что будущее здание предназначено для людей, у которых в душевном плане не всё в порядке он отнёсся к проекту халатно: «А психам и так сойдёт».
А что, вполне здравый подход, можно и совсем радикально мыслить, например: «Зачем строить, затрачивать кирпич и прочий драгоценный строительный материал, достаточно верёвки, мыла, какого-нибудь крюка и условий после которых, невольно, из вышеперечисленных предметов получается петля. И будьте здоровы!»
В плане здание психоневрологического диспансера № 3 имело чётко выраженную букву 77, одним боком повёрнутую в сторону рассвета.
И солнце, сколько не старалось, никогда не заглядывало внутрь узкого дворика, тут всегда было влажно и сумрачно.
Этому настроению способствовала окраска, словно маляр, находясь в чрезвычайно подавленном состоянии, мешал краски наобум, выбирая серые, розовые тона и, кажется, нашёл даже банку «Краска скуки».
Потом все окна заколотили решётками, сваренными мастером в состоянии аффекта, который, чуть позже, и сам угодил сюда по причине беспробудного алкоголизма.
Ни пальмы, ни кипарисы, ни прочая богатая растительность не способны были развеять упадочное настроение от этого трёхэтажного дома. Более того, во внутреннем дворике, всё живое чахло, трава превращалась в жалкие лохмотья, плющ терял силу лазать по стенам, постоянно падал и жаловался на немощь, тут до поры царили одни слизняки, пока и они не стали жаловаться на хроническое недоедание.
О коридорах и палатах внутри речь особенная.
Кто-то здраво решил, что солнечная сторона более подходит для хозяйственных нужд, там грелись в лучах половые тряпки, швабры, веники, блестели всем своим изяществом форм унитазы, красовались алюминиевые кастрюли гигантских размеров с надписями «Для первых блюд» и «Для вторых блюд».
В запылённой кладовой на полках до самого верха покоилось застиранное белье, внизу, источая прелые ароматы, навалены крепко перевязанные тюки, дожидающиеся часа попасть в прачечную.
Зато на тёмной стороне психоневрологического диспансера № 3 (а это был он) прозябали прочие обитатели сумрачных коридоров и затхлых палат.
Можно сказать, что жили? Можно. Если считать жизнью всякую слизь и тараканов.
Кстати, справедливости ради, надо отдать должное мужественному персоналу, отдающему все силы на борьбу с гадкими насекомыми. В ход шли всевозможные химические запасы, поступающие по линии хозяйственного снабжения диспансера. После очередного дня «Д» тараканы, видимо заранее проинформированные, уползали глубоко под плинтуса и в прочие «схроны», где успешно пережидали «трудные дни», иногда высылая разведчиков.
Зато пациенты чахли на глазах, жалуясь на недомогание и головные боли, тем снова радуя героический персонал, утверждая его в мысли: «Мы на своём месте! Мы нужны людям».
И за то крепко пили в кабинетах, отмечая праздники по лунному календарю, и поздравляя друг друга с «днюхами» и «тяпницей» (пятница – «днём налитого стакана»).
Надо отметить, что к составлению лунного календаря, по всей видимости, приложил руку какой-то бодрый иеромонах, любитель наук и книгочей.
Дни «когда нечистая сила особенно шалит» смешивались с наставлениями «святых отцов», персонал диспансера, надо сказать, так запутался в умозаключениях учёного в рясе, что путал вакханалии и дни приношения святых даров. В общем, пил охотно, весело и беспричинно. Нет, причины, конечно, были, были и бесы.
Их повсеместно искали в палатах для больных.
Когда в этих самых палатах находился кто-нибудь здравомыслящий и пытался направить поиски в противоположном направлении, вначале возникало недоумение на добрых встревоженных хмелем лицах, чей здоровый румянец выгодно оттеняли белые накрахмаленные халаты, потом в них, в лицах, уже читалось безотчётное раздражение на «умника», затем следовали обязательные оргвыводы, и назначалось медикаментозное лечение, дабы утихомирить падшую душу, способную к бунту.
Хвала снабжению, поток всяческих ампул, таблеток и порошков не прекращался ни днём, ни ночью.
Психоневрологический диспансер напоминал линию фронта Первой мировой, всё так же безнадёжно, на одном месте, гадко, равнодушно и непримиримо.
На этой «войне» самыми здоровыми и процветающими казались производители тех самых ампул, таблеток и порошков. Вот уж точно образец здравомыслия, порядочности и гуманизма, аристократы, питающиеся райскими плодами и запивающие их амброзией.
Очутившись в недрах беспросветного ада, Устин старался не изменять прежнему укладу жизни: сеять красоту, выращивать радость, помогать слабым, и «давать понять сорнякам и алчным гадам, что земля вовсе не принадлежит им одним».
Опрометчиво, надо сказать. Такое вольнодумство в учреждении, где забота о человеке на первом месте, естественно пресекается: «будет тут всякий псих указывать нам, как жить!»
– Но я не псих!
– Посмотрим, изучим, и это нам решать – не вам. Обследуем, пропишем курс лечения, а там посмотрим.
– Меня лечат?! Но я…
– Пока лечат. И ваше здоровье в руках нашего благоразумия.
– Благо чьего разума, простите.
– Прощаю. Мы же тут не звери. Успокоитесь, полежите у нас.
Главврач диспансера, кандидат медицинских наук Завер-хозин был мягок и предусмотрителен, порой удивляясь самому себе.
Он следовал инструкциям и буквально исполнял закон, ни на йоту не отступая, от его прописных истин.
Но, как известно, в реальной жизни человек не только пишет и читает, он ещё и говорит. И по этому свойству членораздельно и внятно выражать свои мысли люди отделяют себя от всего остального мира способного лишь на жалкие звуки.
Говорят люди отменно, некоторые обладают ораторскими талантами и энциклопедическими знаниями, если присмотреться ко всей цивилизации этих прямоходящих пятипалых разумных существ, то выяснится – они обожают говорить.
И ставят говорение в один ряд с такими удовольствиями как: поглощение пищи и секс (оправление естественных надобностей тут умышленно не поставлено, дабы не сравнивать высокое и низменное, телесное и производное от телесного).
Разумно сравнивают безотчётную тягу к ораторству с тягой к творчеству. Трудно не согласится, когда видишь, сколько всего и всякого натворили люди на земле.
И всё оправдывается витиеватыми речами о гуманизме, о смысле цивилизации. Если под смыслом подразумевается высокоорганизованное сообщество психдиспансера № 3, дошедшее до осознания гештальттерапии, биохевиризма, ссылающееся на таких светил, как Фрейд, Выготский и кандидат медицинских наук Заверхозин (монументальный труд последнего в виде аккуратно списанной диссертации (в смысле цитат, конечно же) смутил не один выдающийся ум).
Заверхозин был польщён.
Его заметили среди прочих.
И он стал нужен, жизненно необходим.
Когда выряженный гоголем, тщательно причёсанный Татьавосов замолчал, препроводив вступление, заказом всяческих изысков из меню престижного заведения, Заверхозин сразу ему поверил.
Осталось совместить просьбу с буквой закона и получить за это причитающееся вознаграждение.
Заверхозин приосанился, поправил галстук, невольно сравнив свой с шёлковым изяществом итальянского произведения искусства напротив, немного оскорбился, и решил тут же исправить несправедливость. Когда-то в институте он писал доклад о проявлениях справедливости в животном мире, так увлёкся, что накропал на десять листов и получил «отлично».
Милая беседа двух уважаемых людей в обстановке красивой сервировки и изысканных ароматов, ничто не намекало на варварский дух и низменные интересы.
Словопрения были достойны поварского таланта, какой слог, сколько неуловимых нюансов, ах, высшая школа, высшая школа! Надо заметить, что Татьавосов был тонким эстетом, а Заверхозин выступал разгорячённым жеребцом, случайно попавшим среди придворной кавалькады, чей аллюр был непревзойдённым.
Вскоре ему дали понять, что каждый конь тут знает своё место или должен знать, иначе его поставят в общую лаву и замучают шенкелями.
От природы неглупый, и рассудив, что обещаемая награда за обыкновенную подлость, многократно превосходит оклад, тот присмирел и перестал брыкаться.
Уж такой галстук я себе точно приобрету, – грея тщеславие, подбоченился Заверхозин. – И не только галстук, – подсказывала ему потребительская натура. На том и расстались.
* * *
Устин покинул кабинет главврача безо всякой ясной перспективы. Когда его спросили, где он был, то невпопад ответил:
– У главрвача.
Оговорка по Фрейду. Вот уж точно: куда попадёшь, тем духом и пропитаешься.
Устин давно взял за правило, однажды поразмыслив над популярным шлягером: «Ни я, ни мир – никто не должен ни перед кем прогибаться. Тогда что-то или кто-то неизбежно сломается и гибели не избежать никому».
Присмотревшись к обитателям психушки по обе стороны кабинетных дверей, стараясь найти солнце на обломке небосвода, между ржавыми карнизами и, не найдя оное в том узком пространстве, он зажёг его в себе, таким каким видел всегда на кругозорах санаторного парка и высоко в горах, куда он периодически поднимался глотнуть живительного свободного воздуха.
Теперь Устин жил сказками, придуманными и рассказанными самому себе.
Сказки Устина, все имели одно и то же начало, похожее на рассвет в горах, на пуповине высокого отрога, среди альпийского разнотравия и драгоценного сверкания росы.
Внизу ущелья, внизу пропасти и тени, там дремлют тучи, уцепившись за скалы, укрывая долины нескончаемой пеленой.
Вот показывается первый луч и подхватывает, и уносит прочь, выше и выше. Да, ты телесный и природа твоя, тут на Земле, неизменна, но связи в твоём теле претерпели странную метаморфозу, они бесстрашно ослабили хватку, пропуская внутрь свет.
Тот, радостным половодьем, разливается повсюду, подхватывает пылинки, смывает грязь и всяческие отложения, накопленные прежде, и чистым потоком несётся мимо берегов, приглашая в неизведанные дали.
Дух необыкновенной свободы увлекает.
Выше и выше… Тебя окутывают необычные облака, отдалённо напоминающие взбитые цветные сливки, цвета мягкие едва угадывающихся оттенков.
И реальность внутри них сразу пропадает, остаётся ощущение движения и невесомого парения. Куда, зачем? И вопросы отпадают сами собой, так же как от взлетающей ракеты отлетают ставшими ненужными приспособления и отсеки. И ты остаёшься наедине с тем, кого всегда ощущал, чьё присутствие давало тебе силы и надежду, кто внушал несокрушимую веру и дарил любовь.
Ты и Он. И молчание – всё сказано жизнью.
Этот сказочный полёт легкокрылого странника, подгоняемый светоносным ветром, сквозь беззаботную дымку небытия – миг. Краткий, но такой вдохновляющий, что последующие перипетии сказания представляются чем-то мимолётным, приходящим, и чему обязательно последует конец.
Чудовище не бессмертно, оно мнится таковым, и хочет уверить в том робкую ранимую душу. Уверуешь ты и тоже станешь смертным. Этим напутствием завершался полёт, едва начавшись, а сказка продолжалась.
* * *
Мёртвые города и веси, где обитают мёртвые люди – что за несносная фантазия!
Ужастик одержимой мрачной личности!
Ему место и впрямь в психушке, а не среди нормальных жизнерадостных людей! Возможно. Трудно не согласиться. Всё наше естество восстаёт и протестует: ах, как это гадко и смердит.
Уберите с глаз долой, закопайте, наконец! И тут же подхватываются непонятно откуда взявшиеся мрачные вечно пьяные исполнители с лопатами и начинают усердно и насуплено ковыряться в глинистой почве.
Звенит металл о камень.
Их подгоняют: нельзя ли побыстрее, оно начинает разлагаться?! В ответ протягивается молчаливая костлявая рука, земля под ногтями: «За всё в этой жизни надо платить». – «Но он мёртв?» – «И что с того, тут все давно мертвы». – «Шутить изволите?» – «Изволю, – обладатель неприятной руки обвинительно вздёргивает бровь, – платите и живите спокойно дальше, таков закон мёртвых».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.