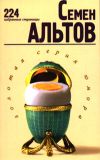Текст книги "Навье и новь. Книга 1. Звездный рой"

Автор книги: Игорь Горев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Зато следом, буквально на следующий день, рано поутру ворвалась его худосочная супруга маленького роста, женщина решительная и, к тому же, припёртая к стене. И хотя детей у неё не было начала она парадоксально:
– Я мать, а вы мне в квартире отказываете! И что же получается, товарищ начальник, всем дали, а моему мужу нет! Тому, кто пашет тут у вас как проклятый!
– Насколько мне известно, – директор на всякий случай покосился на живот женщины, – вы ещё не мать. И…
Ему не дали договорить его доводы.
– Нет, вы посмотрите, мало того, что он квартиру нам не дал, так он ещё и в мою личную жизнь лезет нагло! В душу! За больное пытается ущипнуть!
Женщина разрыдалась, приговаривая сквозь слёзы:
– Да, не мать, пока! Но буду, обязательно буду! Лучше скажите: даёте квартиру или нет! Если нет – я прямо от вас иду в райком!
Хлоп сначала пятился от маленькой пылающей праведным гневом женщины, пытаясь отгородиться должностной словесностью, оправдывался и начинал кипятиться, затем окончательно замолк, растерянно хлопая глазами, то на, вбежавшую на крик, секретаршу, то на маленькую худосочную бестию.
Затем плюхнулся в кресло, прикрыл руками голову и резюмировал происходящее:
– Дурдом какой-то. Хорошо, будет вам квартира.
Жена Нелюдимова сразу превратилась в маленькую не лишённую миловидности молодую женщину, картину портили раскрасневшиеся глаза, которые она тут же в кабинете директора, начала ретушировать с помощью, невесть откуда взявшейся, щеточки и крохотного зеркальца.
При этом успевая строчить тысячу слов банальных благодарностей. Хлоп уже совсем изнемог и подавал выразительные знаки глазами секретарше, умоляя избавить его от этого утреннего кошмара. Секретарша старалась, как могла, добавляя хаоса в общую картину. Наконец, извиняясь и зачем-то кланяясь, жена Нелюдимова скрылась за дверью.
Когда кабинет покинули все, Велимир украдкой подошёл к сейфу, открыл, вытащил заветную поллитровку, налил в рюмку и опрокинул в рот, крякнул и брыкнулся.
– Ну и баба – стерва. И как он с ней уживается?
Затем снял трубку телефона и кому-то сообщил, что все квартиры распределены, и резерв весь исчерпан.
Досадуя на себя, он бросил трубку на рычаги, последнюю квартиру он придерживал, так сказать, для благоприятного случая. И таким случаем был для него шанс перейти в Совет курорта, место тихое и ни к чему не обязывающее. Шанс был вырван у него самым бессовестным образом. И какой-то… Хлоп грязно выругался и, обидчиво сжав губы, подумал: и где тут справедливость?
* * *
Дом менял всю физическую картину мира. Оставаясь внешне прежним, не расширившись ни на сантиметр, внутренне он разросся и значительно.
Начальство, затевающее эту стройку, прежде всего, заботилось о себе. Эх, если бы в прежние времена…, исподволь мелькало в лысеющей голове, привыкшей к ответственным решениям, но приходилось соглашаться, что времена нынче не те и каждый рабочий в замасленной тужурке может, вот так запросто, постучаться в твой тихий кабинет и потребовать.
Так и хочется воскликнуть старозаветным: «О времена, о нравы!»
Кстати, Хлоп, где-то внутри себя, прекрасно понимал эту «маленькую чертовку».
Как ни крути, а молодец, не то, что этот слюнтяй, её муженёк, совестно ему, видите ли.
Тьфу ты! Взяла и вырвала, я бы так же поступил на её месте, такой скандал устроил бы, чертям тошно стало бы. Со своей дражайшей половиной он находил полное взаимопонимание, ну или вполне полное, их векторы интересов совпадали, и по вопросу метража общей жилплощади и проистекающих отсюда уютных удовольствий.
Тут товарищ директор попал под полное обаяние супруги, исполняя любую её прихоть, будь то какая-нибудь фарфоровая безделица или никому не нужная банкетка. «Милый, ну это так мило!» – «Да? – он недоумённо разглядывал резные завитки «барокко», и соглашался, – и впрямь удобная вещь».
Впрочем, женское обаяние имело на товарища директора прямо-таки гибельное влияние, он уступал супруге, он был без ума от секретарши, и млел при виде всякой «юбки», каждый раз мысленно задирая её.
Тут-то и кроется настоящая причина, почему этот с виду воинственный и решительный мужчина практически без боя уступил злосчастные квадратные метры: надо понимать – женщина.
Женская сила проистекает из мужской слабости. Природа, и никуда тут не денешься, и никакая революция тут не поможет, не исправит. И никогда не пыталась ни одна революция.
Вот почему завитки барокко зачастую становились важнее человеческой жизни.
Женщин можно понять, для них день завтрашний не существует, вы носить, выкормить, вынянчить – задачи ежедневные и насущные. Тут без «вы» никак. Они кровными узами, пуповиной сращены с днём настоящим.
О мужчинах разговор особый. (О мужчинах, но не об особях мужского пола.)
Как ни пыжился Хлоп, как ни старался, к каким бы увёрткам ни прибегал – Хлоп оставался Хлопом. Образ в зеркале, перед которым он каждое утро со всем старанием завязывал галстук и тщательно зачёсывал волосы на пробор – образ ему однозначно нравился. Вот с подобием…
И слова-то он заумные научился вставлять в речь, и творцов революции цитировал, и доклады о текущем моменте докладывал, и даже делегатом на съезд выдвигался, – и на съезде, и на высокой трибуне был всё тот же Хлоп: добытчик справедливости с дубиной в руках.
Если где что не по нему, не по справедливости – тюк по голове, глядишь, и вновь она торжествует, справедливость-то. А его справедливость могла быть и вспыльчивой, и властолюбивой, чрезмерно влюбчивой, где надо грубой, а при случае услужливой и подобострастной, когда чуял, что лучше отсидеться в расщелине, переждать. Неотъемлемое дитя природы, он ею руководствовался, жил скорее инстинктами, к разуму прибегая когда готовил доклады или когда читал газету, тогда он сильно морщил лоб, губы то вытягивал дудочкой, то водил ими из стороны в сторону, разум в нём шевелился неохотно, всё-таки больше доверял он сиюминутным чувствам.
Отсюда и успех, и умение получать желаемое. Вот так коротко и незамысловато. Кстати, докладывая товарищам задачи пятилетки, он внутренне недоумевал: а что это такое: пятилетка? И всегда с содроганием: это же как представить себе…
Жена успокаивала, подливая в чашку борща: «Кушай и не заморачивайся».
Ел Велимир так, что сразу становилось понятно, чем дорожит человек, чем насыщается, ел, не пережёвывая, так и проглатывая целыми кусками.
Успех всегда подразумевает некую спешку, там ухватить, тут успеть. Вот почему в семье у него было полное взаимопонимание, и, как говорится, полная чаша.
* * *
Дом, изначально призванный не только обеспечить заветным жильём пару десятков семей, но и украсить парк, так задумывался, но не так строился.
До пояса его украшал дикий благородно-белый известняковый камень, угловые лоджии и длинная центральная – арочная – должны были, по замыслу архитектора, придать ему воздушность, предсказывали лёгкую летучую судьбу будущим жильцам.
Широкий карниз, ажурно вырезанные доски поддерживающие скаты крыши призваны были защищать от всех невзгод, которые сулили черноморские субтропики, грозовые и дождливые.
В его широких глазах отражалось небо и морские кругозоры, пылающие на солнце радостными искрами, вечерами искры не тускнели, но расплывались тёплым покрывалом, обещая безмятежные сны.
Круглая клумба у подъездов, и массивные удобно изогнутые скамейки на литых чугунных ножках, располагали к долгим неторопливым беседам или к дрёме и дополняли общую душещипательную картинку дома.
Но, в отличие от санатория, дом уже не впитал в себя искреннюю заботу строителей о будущих жильцах и гостях. Тут уже витал в межэтажных перегородках иной дух, замшелый, с признаками загнивания. Когда встал вопрос о правильной циркуляции горячей воды, бригадир хитровато осклабился и махнул рукой:
– Чего извращаться – не цари чай. Ну подождут маненько, пока стечёт из крана холодная вода…
И так, в мелочах, в упущениях, упрощениях, в желании облегчить себе жизнь, сваливая её тяготы на плечи ближнему, и проявлялся будущий характер дома, неуживчивый и сложный.
Внешне дом не потерял своей привлекательности, и внутренне он ещё продолжал жить Апутинским девизом: «Если мы все товарищи, то кто из нас первый? То-то же, чувствуйте плечо и сами подставляйте своё, не давая упасть соседу.
И если тебе доверили руководить, не забывай: то не заслуга, а именно, что доверие равных».
И вместе с тем дом разделился на квартиры, да не в том беда, в квартирах начало попахивать, запашком знакомым жильцам ещё по прежним временам.
Тогда, с тем запашком уживались и соглашались как с неизбежным, отмахивались рукой: житьё нынче такое, чего тут поделаешь? Революция попыталась урезонить: ну товарищи, так жить нельзя – человек это звучит гордо, и он не скотина! Прислушались, пожимая плечами: а чего и впрямь; и как же мы раньше-то не замечали: дохлятиной так и смердит.
Однако попытка генеральной уборки в домах была недолгой: эй, никто не предупреждал, что это труд, да ещё какой, ладно там веником паутину стряс и плюхнулся на лавку.
Кому-то вообще эта мысль с уборкой показалась абсурдной и противоестественной человеческой природе: одному и угла хватает, а по мне так хоромы подавай, чтобы не хуже чем у вчерашних господ, а чего: мне кабинет надо – надо, дитя'м по комнате надо – надо, чуланы, кладовые там…
И когда все пальцы на руках загнуты, то возмущённый индивидуум гневно трясёт кулаками – надо! Подавай мне жизню правильную и вольготную, я – это звучит гордо!
И дом захлопал дверьми. И началось великое расселение народов. И никто не заметил, что, как и в древние времена, варвары вдохновились не собственной победой и свободой, но начали служить идолам падших, тому, что, в конечном счёте, и послужило краху тысячелетнего величия, его закономерному унижению.
Для абсолютного большинства людей не существует ни прошлого, ни будущего – они верят тому, что можно надкусить сейчас, и тому, что в закромах под верным замком.
Быстро, на уровне подсознания, оценив ситуацию, новосёлы ринулись осваивать квартирные метры, с обязательной оглядкой на соседей: чтобы не хуже было, и чтобы по справедливости! Вопрос стоял ребром, сообразуясь с революционном моментом.
То есть: лови момент разиня – упустишь. И ринулись «орды» к «последнему морю» осваивать «завоеванные территории».
Шум, гам, переполох, одни, выпячивая нижнюю губу и гордо вскидывая палево-рыжую шевелюру, поднимались по ступенькам вверх, подходили к узорчатым массивным дверям, долго и важно звенели ключами и, наконец, пропадали в абрикосовом уюте новомодных обоев, другие юркали сквозь стандартные окрашенные двери в квартирки напоминающими норки каких-нибудь грызунов. Там и полумрак соответствующий.
Жизнь налаживалась, обретая знакомые звуки и запахи, дом оседал, обрастал виноградником, шорохами и перешёптыванием старушек на скамейках и ничто уже не напоминало о грозном предупреждении начала века.
Никто не вспоминал Апутина, лишь один Семён упорно добивался реабилитации своего отца, отписывая многочисленные письма в десятки инстанций. Постепенно сердце его оскорблялось и, не имея перед собой живого примера другой, достойной жизни, он стал находить успокоение на дне рюмки. В партии он не разуверился, однако стал подходить к ней куда практичней:
– Религию не тронь, вот попов пороть желательно, сдирая рясы, дабы всем видны были голые телеса. Тогда сразу ясно станет, кому служат: мамоне или идее.
При такой постановке вопроса недалеко и до разочарования. Глубина рюмки хоть и оставалась прозрачной, вот чтобы осушить её требовалось всё больше усилий, и всё чаще изящный хрусталь заменяли «гранённые омуты».
Благоверная не долго терпела вида спотыкающегося на ровном месте мужа, да ещё с заплетающимся языком, однажды узрев иную, трёхкомнатную перспективу, дополненную статусом директора овощной базы, она тут же умчалась, на прощание не преминув изощрённо умалить мужское достоинство:
– На твои жалкие двадцать квадратов никто и не покусится, если баба умная и красивая, так… – она сделал пренебрежительный жест, – какая-нибудь дурочка залётная. И помни мою щедрость – ты даже и на эту квартиру прав имеешь не больше чем уличный пёс.
– Да и пёс с ней.
Облокотившись на стол локтями, отпарировал в сердцах Семён, когда дверь захлопнулась. Потом обозрел мутным взглядом квартирку и горько резюмировал:
– А ведь она права. Обмельчали мы, Семён Степанович, обмельчали, факт.
Потом достал из серванта бутылку, поискал рюмку, о чём-то вспомнил, глянул себе под ноги, где под тапочками мерзко хрустело битое стекло. Чему-то криво ухмыльнулся и начал пить прямо из горла.
Так бы и утонул бесславно Семён в людском море, вместе с его никому не нужными принципами и совестью. Балласт нужен для остойчивости, когда корабль в открытом море и держит курс под всеми парусами, а когда тонет – этот груз в трюме способствует исчезновению в пучине. Утонул если бы не другая женщина.
О любви
Неугомонной была в детстве и юности Любава. Совсем не похожая на своих сестёр. Она была средняя. Старшая – Инесса – строгая, не по годам ответственная, и к себе, и к людям. Видимо, такова доля всех старших в семье детей – они за всё в ответе.
Черта хорошая, если бы не одно но: вырастая, они своё старшинство переносят на всех, с кем сводит их судьба.
Они не обязательно чрезмерно властны и склонны к авторитарности, но самомнение у них ого-го – ничем не переломишь. Младшенькую звали Марина, Мариночка девочка с младенчества болезненная и оттого чрезмерно избалованная.
С ней все запутались, где прихоть обыкновенная, а где нужно проявить внимание столь необходимое больному и ослабленному, все суетились вокруг неё, ахали да охали, в результате она и сама запуталась, когда она капризничает, когда у неё плохое настроение или ей на самом деле это надо сейчас. А запутавшись, так и не выросла из пут, честно полагая, что мир создан исполнять её прихоти.
Между ними егозила и выдумывала различные забавы Любава. Мать нет-нет да прикрикнет:
– Да успокойся ты наконец, вот ведь шило в заднице!
Отец от воспитания девочек, не то чтобы отстранился, Любаве он напоминал льва на скале, под ним львица и вокруг неё барахтающиеся в траве львята.
Она где-то подсмотрела цветную картинку в детской книжке, и в нарисованном льве сразу признала папу. В самые ответственные моменты он мог и рыкнуть и лапой поддать для острастки. Последняя мера воспитания применялась весьма редко и навсегда давала понять – так делать не позволительно девочкам. Если честно, как и все отцы, он желал иметь продолжателя рода, он чаял сына, а тут рождались одни девчонки.
И совсем он оставил надежду, когда родился долгожданный сын – родился мёртвым. Махнул рукой на своё женское царство и впрягся в мужское тягло, денно и нощно зарабатывать на хлеб насущный.
Никто не претендовал на отцовские права – ему уважение и почёт. Дома уже верховодила мама, верховодила умело и рачительно. Была в меру строга, была и отходчива.
Своим «девчонкам» сильно воли не давала, и всегда для каждой (кроме, наверное, младшенькой, кою жалели все, включая и сестёр) находилась какая-нибудь работёнка по силам.
Спрос всегда с Инессы, Любава скосит лукавыми глазками в сторону старшей сестры: а я чего, я ничего… Марина заканючит. Сёстры росли дружные, ссоры случались и тут же сами собой забывались, в том, видимо, заслуга предков и по отцовской линии, и по материнской.
Трудовые родословные, и упёртые натуры впряглись и молча, пласт за пластом пашут. Но то взрослые, дети – всегда останутся детьми. Покрутятся по хозяйству, исполнят ретиво и к мамке, глазками исподлобья моргают доверчиво, как тут не уступить, какое материнское сердце выдержит.
– Идите уж, гулёны, – и тут же пальцем предупреждала, – и чтобы не допоздна. Инесса, смотри мне – ты в ответе!
В минуты крайнего раздражения в ней проявлялась, свойственная многим женщинам, истеричность, переходя на крик, она заставляла поверить в собственную вину и невиновного, однако быстро остывала, садилась на стул в какой-то беспомощной позе и положив ладони на передник. Затем улыбнётся устало и промолвит:
– Доведёте мать до крика, грех, да и только.
Она была верующей, без религиозного экстаза. Иконка стояла в красном углу, там же лампадка, зажигаемая по праздникам, тогда же могла посетить и храм. Чуть левее от иконы висел портрет Ленина. Как-то раз в дом зашёл поп, увидел такое богохульное соседство и побагровел:
– Вы чего этого чёрта рядом со святой иконой-то, а!? Снимите немедленно!
Мать, недолго думая, тому ответствовала, сама маленькая щуплая, но с видом уверенным:
– Я тебе сниму! Он грамоте всех обучил. И Христа в обиду не дам, и Ленин пускай висит, где я его определила. Мой дом, и таков мой сказ!
Попу только и оставалось, что неопределённо пожать плечами и ретироваться восвояси – не его нынче время, не его, вздыхал он под рясой, и обещал вернуться.
Вообще к вере в семье было двоякое отношение. Отец никогда не был замечен в прилежании: не крестился истово, храмы избегал, но Христа почитал. Если кто начинал богохульничать или матерится, взглянет строго из-под мохнатых бровей и выскажется:
– Ты это прекращай, не твоего ума дело, святость чрева блюди.
– А что верующий?
– Верующий, не верующий, но всё равно не твоего ума дело.
Скажет тихо и не гневно, но так, что доходило и умолкали, дёргая плечами. Уважали за прямоту. И если Инесса пошла в отца, то Любава сумела отхватить от обоих родителей понемногу, Мариночку баловали, а при таком отношении и самое благородное растение скоро превращается в сорняк.
Мать однажды вообще отказалась посещать храм даже в очень большие праздники. Соседки к ней с расспросами, она им:
– Пока этот поп в том храме, ноги моей там не будет!
И дальше не сильно вдавалась в подробности. А были они таковы. Местный поп построил себе дом и почему-то окнами во двор, к тому же и забор глухой поставил. Увидела она, сплюнула с досады и прочь пошла своим мелким шагом и даже платочек на глаза надвинула:
– Это какой же он поп, когда от людей прячется. Нет ему моей веры, нет!
Мариночка в храм бегала поглазеть:
– Уж больно диковинно там, позолота кругом и шитьём нарядным платы вышиты.
Мать увещевает:
– Ты не на шитье глаза таращи, туда тебя не обновки примерять зовут, там молитву твори и душу к ней прилагай. Так-то.
Непростая семья у Любавы и прошлое не одной нитью шито.
Все её предки казаками были. Одни шашкой махать умельцы, другие пахари. На том и сошлись на брачном пиру, а как там кровь перемешалась лихая наездническая да мирная к земле прилежная – то одному богу известно. Перемешалась, и весь сказ о таинстве брачном. Крепкий род получился, чужого не тронет, но и своего не отдаст, на том и стоял. Постепенно из бедноты в хозяева выбились, табуны свои и стада паслись на тучных забайкальских выпасах.
Всё забывается людьми – настоящее надёжно заслоняет. Когда сами терпели – зубами скрежетали, теперь мироедами стали, людей нанимают с гонором, с выговором о прилежании. И не сметь им слово супротив сказать:
– Я туточки хозяин – не ты! Вот станешь, тогда и неси свои думки куцы следует.
Может оно так и вернее для хозяйства-то, кто его знает, да промеж людей рознь великая и соблазн судьбы вершить по собственному разумению.
А в разумении том всё тоже радение о хозяйстве. Как ни крути – круг замкнутый и порочный, человека там не встретишь, в какую сторону не глянь: прибыль, доходы, выгоды, цифры барханами высятся, конца краю им нет – пустыня мёртвая. Вот и получается: одним видятся покосы, травы сочные, да земля-матушка кормилица, любуются они бегом табунов своих, другие, ну словно слепцы глупые, щенки, да и только, тычутся в мамку глупые, их ещё подтолкнуть надо, а они всё ж своё – к человеку тянутся.
Так и жили бы рода эти, богатством умиляясь, но то их сказка, а сказок этих по земле столько сказывается, и столько наслушаешься, невольно мысль горькая закрадётся, сердце, если ещё не совсем чёрствое, оскорбится: ах, ты – жизнь: одному верста с ветерком, другому, та же верста, да под ярмом. И мысль дальше бежит, в дали безвестные: а есть ли сказка одна на всех?
И если она имеется, то почему не сказывается?
Вот и настали времена для неудобных вопросов, и люди уже не просто ждут смиренно ответов, а не найдя расходятся, почёсывая в затылках: нет, видимо, нам сказки сегодня; люди жаждут, им правду подавай: вы жили красиво, сказочно, почему бы и нам?
Сказки мирные на первый взгляд, а в сердцах озлобление вековое и измождение веры.
Была страна единая самодержавная, и в песнях, и в былинах воспетая, ткань узорчатая крепкая, мастерами вышитая, хлеб да соль… одни подносили подобострастно, другие жевали важно.
Время сказок истекло.
На улицах часто затрещали немецкие маузеры, деловито откликнулись русские трёхлинейки, и вовсю зазвенели шашки да сабли, колокола то скромно отмалчивались, выжидали, то начинали бить в набат, когда уже поздно было, и пожар полыхал вовсю.
О чём вы раньше звонили? И полезло крепкое полотно по швам и кровью, вдобавок, окрасилось, вместо прежних-то узоров.
Не о полотне, оказывается, нужна была забота – о человеке. На здоровом человеке раны и сами, без швов затягиваются, такое не раз подмечали светила медицинской науки, а на больном, сколько не сшивай, сколько не мажь бальзамами – гниёт.
Полезли все нитки и они-то, на поверку, оказались давно истлевшими. Только и красоты-то было, что одна нить белая, другая красная, третья и вообще не разберёшь какого она цвета, небесного или лазоревого, или синька обыкновенная.
Такой нитью – бесцветной – оказались деды Любавы. Люди вокруг до смерти вцепились друг в друга, брат не брат – зубами готовы порвать. И мироедов этих зовут на помощь и все к совести взывают. Только у них своя правда, не менее солёная и кипучая. А совесть?.. Была страна православная, одним кадилом обкуренная, и тысячи храмов хранили святость её, да к совести так и не прилежная, попы в ризах запутались, на псалмах зубы стёрли, а всё ж в мире погрязли, животы отрастили.
Смекали предки Любавы смекали, как им и жизнь сберечь и нажитое не потерять, да и рванули опрометью с табунами за кордон, на чужбину. Вот и вся Родина. Слово гремящее, красоты не лишённое, гляди любуйся, а у всякого свои глаза имеются. И мерка своя. Вот почему каждая новая сказка о земле обетованной – кровью пишется. И каждый в ней ответственно расписывается: да, был…
Едко как-то о родине, кислотой жгучей по листам… А может то слёзы? И душа в каждом слове, в каждой букве плачет и радуется – живёт. Та желчь на злобу дня, им рождена, с ним и рассеется с последними лучами уходящего солнца. Не родина то вовсе – обман, кто-то хочет нам подсунуть фальшивку, выдать за истину. Мол, пишите с большой буквы – тогда поверят. Населите патриотами крикливыми и воинственными, под знамёнами обитающими – тогда увидят. То Родина гербовой бумаги и монеты штампованной, её и в кошелёк удобно спрятать, и разменять при случае.
Имя той Родине – век, отечество всегда в кителе красуется, сердцу умильно, душа отмалчивается, отчество кому служит, кому услуживает, над кем-то возносится, кого-то презирает.
От прозвищ пестрит, а фамилий всего две: Род и Безродный. Каин и Авель. Взывает землица, в ответ молчание – память у той Родины историей называется, ластик и карандаш, и пишется легко и стирается без труда.
Память у той Родины – монументы барельефами украшенные, безмолвные и бездушные. Беспамятство.
Имеется и другая родина, хоть и со строчной пишется, да как-то по-особенному там каждая буква звучит и дыханием обладает.
В том слове для людей отцовские заветы о вечном нетленном, материнская нежность и забота, жертвенная и чистая, там ближние, глаза сострадающие. На родине и шмель иначе жужжит, и комар кусается… понятней, что ли…
* * *
Деды отошли на погосты, отцы взяли бразды в свои руки. Посмотрят на север, где сторонка родимая, ни прежней обиды, ни злости – ничего этого нет в думах их, одна теребит: эх, возвратится бы!..
Непростая судьба.
Любава хоть и родилась на чужбине, о том ничего не ведает, одно в памяти: калачи цветные заморские, да дома диковинные под венцами изогнутыми с драконами непонятными и страшными.
Помнит, как однажды вышел отец на улицу, оглядел чужой шумный быт, говор непонятный, послушал и на глазах слёзы навернулись. Обернулся. Тяжко и гулко хлопнула дверь, семья притихла, из углов поглядывая на главу: с чем вернулся? Тот оглядел домочадцев непонятным новым взглядом и глухо промолвил:
– Всё – возвращаемся. Силов больше никаких нет, тарабарщину эту терпеть. А там, как-никак, родина. С ней и стерпимся.
За кордон бежали шумно и быстро, в колясках и с табунами, обратно в одной телеге скрипучей, дожидаясь длинной очереди на границе. В телеге той и дети, и весь скарб уместился, остальное прогуляли, последнюю корову пограничники-басурмане отобрали.
На чужбине переродиться нужно заново, сумел – живи, наживайся, не сумел – погибай.
И советская власть и не забыла и не простила отступников. Обратно, на родину, в Забайкальские степи не пустила.
Вот вам, говорит, новые земли осваивайте, для советской страны целину поднимайте.
Отец смирился и охотно пошёл в механизаторы, мать, по обычаю сидела дома на хозяйстве. У отца обиды не было:
– Всё правильно: не вспахав поле, на урожай не рассчитывай.
Другие хоть вслух и не высказывались – побаивались, однако свои виды на этот счёт имели. Притаились до поры. Тела тех «тихушников» давно уже схоронили, а сыновья так и продолжают жить: с прищуром, с расчётом. Мол, придёт время, расквитаемся.
* * *
Как-то раз заявилась в дом делегация уполномоченная, натоптала в чистой мазанке, завистливо разглядывая ухоженный домашний быт, где уютом, женским трудом ароматно пахнет, и заявила: почему не трудимся, гражданка? У нас так не принято.
Мать так и села на лавку, и, ещё не понимая, с чем имеет дело, ответствовала, указывая на ухоженных детей да на печь, где вкусно булькало в кастрюлях, скворчало и шипело:
– Так вот же мой труд.
Старший делегации – Уманьшин – ехидно скривил рот:
– Гражданочка, вы у нас человек, что говорится, новый. Освобождённые женщины у нас трудятся на благо страны.
– А дети не её благо? – осторожно пытается понять логику новой страны малограмотная женщина.
Уманьшин замялся, где-то догадываясь узким лбом своим, что дети и будущее каким-то образом, видимо, всё-таки, связаны.
Его глубоко запрятавшиеся глазки потерянно скользят по лицам делегаток.
Одна, та, что побойчее других, Лия – делопроизводитель, мышь конторская, упёрла руки в бока и, раздвигая других, выступила вперёд, завистливо косясь удмуртскими глазами на вышитые покрывала:
– У нас у всех, гражданочка, и дети и постирушки дома ждут.
– И подождут, – очнулся Уманьшин, благодарно обласкав взглядом пышные формы бойкой делегатки, – страну поднимать надо, Целину! Это понимать надо классовым чутьём.
Лия ответила ему движением бёдер на особый манер, от чего Уманьшина так и передёрнуло всего сладко. Он зажмурился на кошачий манер и деланно повторил:
– Целину поднимать надо, – и зачем-то мечтательно закончил, – э-эх.
Вздохнула мать, засобиралась и пошла на колхозную ферму дояркой. Одно хорошо: успела-таки привить «девчонкам» прилежание к домашнему труду.
– Инесса, приглядывай тут без меня.
Вспоминал ли табуны свои отец, да жизнь разгульную с цыганами, думаю, что вспоминал. Сожалел – вряд ли. При многих своих несогласиях, он воспринял советскую власть, как единственно правильную на сегодняшний день.
– Может в людях понимание когда-то проявится. Да дурь вся из голов-то повыветрится. – И непременно добавит, – общество сменили, а про головы наши грешные забыли.
Задумчиво смотрит он куда-то вдаль.
Любава взглянула на отца недоумённо, вопрос она ставила конкретно: о несправедливости учительской, о двойке в дневнике, а отец в дебри непонятные, да к тому же ещё и тёмные, полез.
– Иди, Любава, иди, и эту жизнь прилежанием осваивай, терпению, прежде всего, учись.
Отец из всех своих дочерей одну Любаву привечал особо. Что тут скажешь, сына у него не получилось заиметь, Инесса хоть и тянется к правде, хоть и не без гордости и характера строгого, а как ни крути, женское начало в ней – за мелкое хватается.
С Мариной отец был ласков, и обращался с ней как с вещью хрупкой, которую можно легко разбить. Мариночкой называл, нежно погладит по головке, чмокнет в затылок и осторожно на пол спустит с колена. Мариночка – это одни вздохи. Любава разговор особый. Бог, лишив его сына, подарил Любаву.
Пускай и бабьей породы, а что-то в ней мужское имеется. Видом мелкая, две косички торчат из-за ушей, и ласковая и по хозяйству шустрая – девчонка девчонкой, к матери прижмётся, и давай нежиться. Потом соскочит шустро и умчится куда-то, только её и видели.
– Ох, шальная, как есть шальная, – вздохнёт мать и покачает головой.
– Шальная, – поддакнет отец, – и к простору тянется и о доме не забывает.
И лицо его просияет. В Любаве он души не чаял, но никто из домочадцев, и сама Любава, об этом не подозревали – со всеми был ровен. Более того, спрашивал с неё строго: нашалила – отвечай. На сестёр посмотрит из-под бровей, да так, что они стремглав бежали прочь исполнить волю родительскую, опять же Мариночке снисхождение какое-никакое. А с Любавой обязательно перемолвится, хоть слово да скажет, ободрит или тихим голосом, но твёрдо наставит:
– Споткнуться легко, тут головы не надо – ноги сами ко греху ведут. Вставать самой, дочка, вот это труд. Так что в жизни не зевай: живи сегодняшним – он кормит, но всегда помни, что день грядущий не минует тебя – он сечёт нас. Ох как сечёт, порой лучше плеть казацкую стерпеть чем этого судью.
Любава шмыгнет носом, спрячет шаловливые глаза и взглянет уже иначе. Вроде и девчушка несмышленая, стоит ножкой пол ковыряет, а в кареглазом омуте глубина великая открывается. Старшая – Инесса – будет долго размышлять о произошедшем, и, если посчитает, что наказана не по справедливости, нахмурится и станет бороться за свою правду, всячески отстаивая её, ни шагу не уступит.
Мариночка тут же расплачется, будет взывать к прощению и жалости, и заранее зная, что ей всё отпускается, и так-таки растопит родительские сердца, мать и сама уже будет готова за чадушку свою болезненную претерпеть все муки наказания.
Наполнив дом причитаниями, сама Мариночка постарается быстро покинуть место наказания, надолго затаив обиду, никак не соглашаясь с произошедшим, и не пытаясь осознать его, а зачем, когда уверенность в собственной правоте, всё равно, что небо над головой – понятие незыблемое.
– Козачья порода, – неодобрительно крякнет отец, вспоминая, что предки его забайкальские казаки, – бодаться научилась, травку из рук принимать, а по человече ну никак не моги.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.