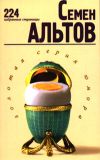Текст книги "Навье и новь. Книга 1. Звездный рой"

Автор книги: Игорь Горев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Ими они и вдохновлялись, и труд, в пределах дня, воспевали. Люди-букашки слышали эти пугающие громоподобные протяжные звуки и втягивали головы в шеи и шептали друг другу: жди беду, кому-то сегодня быть раздавленным судьбой. А люди-великаны отплясывали прямо на пашне.
По причине того, что день для великанов и букашек длился по-разному, они по-разному воспринимали одни и те же события. Для первых – солнце вставало за дальними холмами, высоко поднималось в зените и величаво уплывало за море, оставляя после себя волнительный золотистый след.
Для вторых – жаркий диск появлялся из-за нависающего кома слева, быстро переползал через синюю узкую полоску неба и, жадно вцепившись в противоположный ком, тот, что справа исчезал насовсем, погружая бытие в тени и сумрак.
Отсюда и ночь для великанов – краткий сон и отдых между буднями, для букашек – длинные сновидения полные загадочных смыслов и напоминающие бесконечные мыльные оперы. Почитая долгожительство благом, букашки боготворили длинную ночь, разжигая многочисленные фонари и празднуя величие бессмертной Тьмы.
Телега с раненным Семёном тащилась сквозь ночь в поисках ночлега. Но долгожданный отдых встретил их заревом пожара.
Ближайшая станица полыхала по неизвестной причине. За дымом спешил скрыться на юге отряд белогвардейцев. Впалые потемневшие глаза Апутина отрешённо уставились в нависшие лиловые тучи, перечёркнутые дымным шлейфом, но перед ними открывалась иная реальность. Мозг уже отказывался её анализировать хоть как-то, он смотрел и соглашался.
Из праздных фонарей букашек разлетающиеся искры запалили небо, огненные сполохи объяли весь небосвод, вызвав всеобщее ликование, все обнимались, смеялись и вставали в хороводы.
Из переливающихся огненными красками туч иногда вырывались пылающие ошмётки и болидами устремлялись к земле. Тогда людишки замирали в ужасе, но когда болид проносился мимо и пропадал за ближайшей грядой, праздник огня возобновлялся с прежней силой если не сказать с большим исступлением.
Букашек весьма радовал тот факт, что им на сей раз чрезвычайно повезло, а спалило кого-то другого, соседей. Великаны, озарённые пожаром, смотрели на языки пламени, объятые двойным чувством: тревоги и понимания неизбежного.
Прерванный сон удлинил ночь и заставил задуматься о бессмертии, не умея быть праздными, они приступили тушить огонь.
Великие тени проносились по озарённому небосводу. Крики чередовались воплями, воля одних смешивалась с отчаянием других. Выплеснутая вода вспыхивала брызгами и тут же начинала шипеть, испаряясь и клубясь вместе с дымом. Дым поглощал всё вокруг, он представлялся началом преддверием ада, и концом света, из него выныривали обожжённые измазанные сажей искажённые лица, можно было подумать, что ад, дав несчастным возможность узреть своё обжигающее нутро, позволил вернуться в мир живых для краткого вдоха, и теперь призывает обратно, и уже безвозвратно.
Пламя торжествовало, сжигая всё, до чего дотягивались её подвижные руки-языки, оно слизывало и живых, и постройки, плавило землю, заставляя зиму разувериться в её своевременности, так кое-где зазеленели куртины травы.
Не пламя, но дым убивает великих и щадит ничтожных. Задыхаясь, великан рухнул прямо на вспаханную межу. Семёна ужаснула догадка: там же люди! Он наклонился, изъеденные дымом глаза щипало, и они слезились. Сквозь мутную пелену он разглядел многочисленное конвульсивное копошение, чужое страдание живо отозвалось в сердце Апутина, он, соблюдая осторожность, опустился на колени: бедные, – прикрывая ладонью глаза, мотал он головой.
– Бредит, – кивнула в сторону, вздрагивающего под тулупом, командира Даша, и медсестра, и повар, и прачка в одном лице для всего отряда, – и там продолжает страдать.
Семён никак не мог забыть видения той ночи. Да и виденья ли то были, кто знает, и, может, попы не врут, что душа наша возносится и видит наше – земное – чуть иначе, по-душевному что ли? Тут его тело передёрнулось, губы сильно сжались, взгляд потупился и зажмурился, голова замоталась из стороны в сторону. Ему снова привиделся последний миг видений той ночи. Когда резь в глазах прошла, а слёзы высохли, он сумел разглядеть причину копошения – черви. Он-то жалел людей-букашек.
– Товарищ, вам плохо?
Семён поднял взгляд, перед ним стояла проводница и участливо смотрела на него. Прям, как Даша, – ласково подумал он и улыбнулся:
– Всё нормально, милая вы моя.
Девушка в форменной одежде, притягательно стройная удалялась по узкому проходу. Семён тряхнул головой, словно стряхивая что-то, – я построю чудный санаторий для всех! – давал он себе слово, – как совершал революцию – для всех.
* * *
Нелюдимов упорно и тяжело толкал тачку вверх по мосткам. Странно, но он не чувствовал обиды. Да заключённый, да осужден и вынужден против своей воли строить санаторий. И какое же это заключение, живут в бараках, спят на нарах – всё правда, какая ни есть. Так и директор в соседнем бараке живёт, и из общего котла кормится. А то, что тут не по своей воле… – Степан задумывается, – а по своей если было бы, то как? Своеволие сплошное – вот как.
А посему, товарищ Нелюдимов, – обращается он сам в себе, – сиди тут и не вякай. С тобой ещё мягко обошлись, за те дела у чертей церковных на сковородке вон поджаривают. А тут курорта полная, и жена рядом, в выходные дни встречаемся.
Он прекрасно помнит царские застенки, тогда вся его суть гневно восставала против несправедливости. Что он сделал? Всего лишь указал на то, что этот мир устроен лицемерно – все люди похожи, но одни (их меньшинство) заставляют верить остальных в их благородство, избранность.
Они же сами себя преподносят, чуть ли не обручёнными с Богом. Кумовьями что ли! – Нелюдимов сжимал шапку в кулаке. – Кто давал им право судить и вершить судьбы, и почему другие должны услужливо терпеть и гнуть спины! Покажите мне, чем они лучше меня? Да может быть моё благородство почестнее и поблагороднее этих господ, благородий, будет. И он восстал и был осуждён и выслан в Сибирь, под Иркутск и дальше «за неуживчивый характер». Тогда была обида и острое желание мстить. И он мстил, мстил в гражданскую! Преследовал, закусив губу, и мстил жестоко! «Что заслужили!»
– Не задерживай!
Это ему. Нелюдимов упёрся и покатил гружённую тачку по мосткам выше. Он так увлёкся в своём мщении, что и после войны продолжал пристально вглядываться в лица, выискивая врагов народа. Такое рвение приветствовалось и вдохновляло: значит, правильно живу и поступаю, классовый враг не искоренён, он притаился!
Степан Нелюдимов вступил в партию в ссылке, но по натуре стихийный, а по характеру взрывной в пропагандисты не годился. Кроме того, не был лишён и некоторых слабостей, присущих, впрочем, всему человеческому роду. Любил шумные шальные компании, где не прочь был выпить и частенько задавал тон.
Если садился играть в карты, то быстро заражался азартом, покидал игру обычно шумно, хлёстко раскидывая масти на столе, или лез драться, подозревая шулерство.
Хотя с виду был худощав и не боевитым, узкое лицо с впалыми щеками не выдавали в нём на первый взгляд что-то разбойничье и лихое, разве что глаза: непроницаемо чёрные, быстрые и цепкие в которых вдруг вспыхивал нетерпимый огонь.
– Ты не гляди, что мелкий, – предупреждали о нём, те, кто знал его давно, – всполошится – мало не покажется. Он, знаешь, какой жилистый. Одним словом, чертеняка.
И вот, как ни странно, он катил тачку осужденного и ничто в нём не вызывало протеста и не взывало к немедленному бунту. Весь потный, высеченный из жил и мышц, похожий на сухощавую палку, высушенную и скрученную солнцем, поднимал он метр за метром стены санатория.
Когда рядом кто-то начинал роптать, Степан останавливался, чёрные глаза, вначале прищурено цеплялись за «нытика»: кто ты? – и, в зависимости от вывода, сделанного наблюдением, миролюбиво или, наоборот, резко произносил:
– Не томи, браток. Я на Хохотуе, что под Читой, с киркой столько намахался, тебе и не снилось. И всё ради кого? То-то же. На царя и на холуёв его, на их здоровье собственное портил. И скажи, чего ради! Им дворцы подавай, да всякие благодати, а тебя они и за зверя даже не считают!
Зверя хоть в заповедниках, опять же для удовольствия, берегли, для охоты. А теперь, товарищ ты мой дорогой, – голос его добрел, – мы хоть с тобой и зэка, но строим-то для своего же, такого же трудового братка. Кумекаешь! Он будет в этом дворце отдыхать, а не всякий там эксплуататор, кровосос. Мы свой срок отсидим, и тоже тут отдыхать будем. И будем! А тогда срока не было. – Степан хлопает по плечу, – трудись, веселись и не гундось!
Ты лучше вон на директора нашего взгляни, не то, что прежние благородия, те всё зенками по сторонам зырь да зырь – чего бы себе в карман бездонный урвать. А сами, бывало, поучают: воровать не моги – грех то! Гады! – Нелюдимов вскидывал кулак над головой. – Наш не таковский, разумей, он не то, что себе в карман – он душу собственную в каждую кладку вместо раствора укладывает. Вот мы зэка с тобой, вроде как материал бросовый, а я, вот этими самыми ушами слышал, – Степан энергично хлопает себя по ушам, – как он, горемычный, нашу пайку с тобой кому-то из Москвы отстаивал, и добавку требовал. За таким я, Степан Нелюдимов, – горячо хлопает себя в грудь, – скажет, и в огонь полезу. Уяснил, мил человек!
Что-то новое и грандиозное, прежде невиданное рождалось на высоком берегу. И стихии, словно, в очередной раз, поверив в человека, принимали участие в том труде. Морской прибой разворачивал фронтоны навстречу зыбким позолоченным солнцем просторам. Свежий ветер, пропитавшийся солью брызг, колыхал дубравы и окрылял аркады, наполняя длинные узорчатые своды лёгкими сквозняками, вместе с освобождённым человеком он творил мечтающий о полёте камень, серебрил его кварцевым инеем.
Дальние горы приветствовали своего собрата, чудной скалой застывшего у самой кромки волн, а когда понимали, что обманулись, почтенно снимали белые шляпы и озаряли тихими рассветами, не отказываясь от братства. Природа и люди тогда дышали одним вдохновенным воздухом, трудом.
Нелюдимов остановился вытереть пот, заодно прислушиваясь к тому, о чём беседуют посетившая стройку московская комиссия и Апутин с главным инженером.
Последние-то тут каждый день проводят, а вот мысли приезжих о стройке какие?
Многое волнует Апутина. Много вопросов нужно порешать, согласовать. Вот взять хотя бы с фундаментом, на «пятаках» прочно ли будет стоять массивное здание? Комиссия авторитетная, специалисты видные с опытом немалым: тут горы, почвы подвижные, ленточный фундамент повести может, треснет и что тогда? А «пятаки» и подправить можно всегда. Главный архитектор Кузнецов, нервно протирая круглые очки, тихим голосом твердил:
– Тут каждая деталь важна, поймите вы это. Гармония и для рабочего человека нужна, он считывает её не хуже академиков от искусства. Поверьте мне. Если мы требуем кварца в раствор, то это совсем не причуда – художественный замысел.
– Так и я в Кремль телеграфирую, – возбуждённо взмахивает правой рукой Апутин, словно держит в ней шашку, – а они…
– Что они?
– Что, что – торопят. Сроки. Я им: не сроки важны, но люди, которые тут будут отдыхать. Для трудового человека ведь строим, для шахтёра. Он, бедный, в своих забоях света дневного не видит, только успевай уголь загружать на вагонетки, так пускай отдыхает по-царски.
Кузнецов смеётся и снова вытирает очки клетчатым платком.
– А так вот у кого подслушал Серго замечательную фразу о царях. Он всем её теперь повторяет.
– Да не в слове дело, – раздражённо отмахивается Апутин, – у меня стройка великая, люди, понимать надо!
Кузнецов нежно хлопает директора стройки по плечу, словно боясь разбить.
– Дорогой вы наш товарищ, всё мы понимаем. О сроках я договорюсь. Вы уж тут не подведите, – тут же поднимает ладони вверх, заметив взъерошенный вид Семёна, – всё, всё умолкаю.
А директор тут же горячо отстаивает инженерное решение какого-то местного самоучки:
– Их нужно двойными делать воздуховоды эти. Так эффективнее будет работать вся система.
– А увеличение накладных расходов? И нужно ещё посчитать эту самую вашу эффективность.
– Так считайте, уважаемый, считайте. И я за то всеми руками, но чую, понимаете, чую – верно то.
Кузнецов снова улыбается своей тихой, едва заметной улыбкой на круглом лице.
– Хорошо, хорошо, постараемся быстро. Вы тут и за директора, и за архитектора – за всё болеете.
– А иначе как? Если не всей душой, как, я вас спрашиваю? Дело небывалое свершаем мы с вами, и важное, – добавил он задумчиво, – дворцы для народа.
– Я бы порекомендовал сразу после окончания стройки в этом санатории и вам самому отдохнуть хорошенько. Вид у вас неважнецкий, так выкладываетесь.
– Там будет видно.
Нелюдимов хватается за тачку и с упорством непонятным самому себе толкает её наверх. За директором он готов идти в любую самую невероятную и смертельную атаку. Такой сам первый под пулю твою встанет грудью, – думал он.
Вечером, уставший, но довольный собой валился на деревянные нары: никогда бы не подумал, что подневольная пахота может быть такой же приятной, как видеть зелёные колоски на собственном поле. Вот скажи мне, Степан, – обращался он сам к себе, – чего ты имеешь? Да, по сути, ничего, похлёбку да мозоли, а вишь ты, любому морду начищу кто вянькать начнёт. И-за этого благословленного труда я там, в Забайкалье, и терпел, так, вроде, получается? А то, что наказан и срок тяну, – Нелюдимов обидчиво сжимает губы, – что я один такой грешный, – пытается он оправдать себя, – вона, многие революцию и дело её за вольницу приняли.
Дескать, за что кровь проливали, коли теперь как господа жить не моги? И тащили, и своевольничали, и кулаком по столу, ну точно, как их благородие, стучали. Новые хозявы! – Нелюдимов горько усмехнулся, – и теперь получайте раззявы! Таким, как они…, – тут он словно поперхнулся и поправился, – как нам, урок ещё один нужен.
В школу-то кто хотел по малолетству ходить, всё на улицу манило, а надо. Вот и сейчас надо. Чтобы прежние господские замашки из себя через пот выгнать.
Нелюдимов повернулся на бок и сразу заснул. Снился ему сон, где он выстроил палаты неописуемой красы. Стоит, ждёт похвалы. А тут он сам же себе является и себе же кулаком по морде тычет: иди вон, холоп, сделал и проваливай куда далече. Тот, что первый он – ну который строитель – не вытерпел и второму ему – тот, что хамит – да как влепит леща. Тот и с ног свалился. Утром проснулся и соседям по нарам свой сон рассказывает, те ржать:
– Надо же, сам себя отлупцевал, такого ещё не видали, ха!
– Степан, глянь, и сон-то тебя предупреждает: рукам воли не давай, горяч ты больно.
– Что есть, то есть, буду, товарищи, даю слово, сдержанней.
Степан виновато разводит руки в стороны. Ему не верят, но ободряюще хлопают по плечу.
– Ну, ну…
Когда стройка подходила к концу, Степан отошёл в сторону, залюбовался, и аж до слёз его проняло. Стоит и глаз оторвать не может: вот ведь красота какая сложилась из обыкновенного серого бетона и кирпича! Тут и мой труд имеется!
– Почему плачете?
– Да
Степан быстро вытер нечаянно выступившие слёзы, потом резко повернулся и хотел зло отшить, мол, иди ты, дядя, своей дорогой. И тут же осёкся – возле него стоял директор стройки. И не то, чтобы он заробел, не таковский он – из уважения.
«Настоящих» он чуял за версту, жизнь в ссылках научила.
– Настоящие они ведь какие, – рассуждал Степан, – о себе меньше всего думают – всё о пользе всеобщей. Я таких коммунистов встречал. Мало, правда, но такие революцию-то и свершили. На горбу на своём вытянули.
– Да… вот стою – загляденье мы с вами сотворили, товарищ Апутин, загляденье такое… Расставаться не хочется.
– А зачем расставаться. Ваш срок, кажется, истекает?
– Верно, товарищ Апутин, в ноябре. И откуда?.. – повёл бровью.
– Я буду ходатайствовать, согласны?
Так Нелюдимов прописался на берегу Чёрного моря.
* * *
Семён Апутин ещё до революции понял: никакую идею не поднять без человека болящего за эту самую идею, человека неравнодушного. И когда встречал таких людей в своей судьбе – ценил превыше всего. Когда же брёл среди серых будней, занятых мещанской суетой о пустяшном, всматривался. Всматривался в лица, особливо в глаза, когда в глазах замечал живой огонёк, то и сам оживлялся и становился внимательным к каждому слову: я должен не просто слушать – расслышать человека. Один мало скажет – много сделает, и снова промолчит. Другой стрекочет, ну словно сорока, строит из себя чего-то, а коснёшься – рука проваливается, пустой он. Вот первых-то привечать и надо особливо.
Так он поступал в революцию и в гражданскую, так продолжал поступать, когда началась великая стройка новой страны.
И даже пристальней: дорогие мои товарищи, сколько вас полегло в честном бою, скольких мы не досчитались верных. О том и кручина его – о будущем: у отца сын преемник, у революции – свои дети, одна беда: отцов всё больше разгульных, случайных, о приятном радеющих.
Дети без призора, что поле только засеянное под тучей воронья – все зёрна склюют, проклятые. Эх, мало вас осталось, дорогие мои товарищи!
Он воспринял поручение о строительстве санатория для трудящихся, со всей ответственностью.
– Дорогой мой Семён, – с кавказским акцентом тихо шипел голос в телефонной трубке, – ты почему людей обижаешь? Жалуются.
– Это кто же? – Трубка резко дёрнулась в руке.
– А вот у меня товарищ Губошвили сидит…
– Вон! Вон! И ещё раз вон, – рубил ладонью Апутин, словно отсекал каждое слово. – Мне тут честные строители нужны, а не ворьё.
– Разве можно вот так с плеча, ты же сам призывал беречь кадры? Он коммунист, не забывай.
– Кадры – да. Но этого счетовода и за версту не подпущу к стройке – о шкуре своей радеет прежде всего. Мы, понимаешь, строим общее для всего трудового класса, а находятся такие, как этот ваш Губошвили…
Голос на том конце провода обижается:
– Ну, во-первых, не ваш, товарищ Апутин, во-вторых, если начнём специалистами раскидываться, то понимаете, с кем работать будем?
– Понимаю. Но иной специалист с умным видом дом построит, а жить в нём будет неловко.
– Это ещё почему?
– Раствор жидкий, вот почему. Скажи, Серго, откровенно: у коммуниста может быть жидким раствор?
– А вот дерзить не надо, мы с вами давно знакомы, – голос в трубке недовольно откашливается, – хорошо, какие ваши будут предложения, товарищ Апутин, – после паузы, подытожил он.
Семён вздохнул и вытер шею:
– Я не тебя хотел обидеться, Серго, чего ты всякую дрянь отстаиваешь. Он счетовод замечательный, не спорю, но расчёт у него такой, что под каждой циферкой он свой расчётик прячет. Вот мой сказ: на стройке, за которую я головой отвечаю – я свою голову и положу, но всякому не дам её стены дерьмом вымазать, чтобы люди потом тем смрадом дышали.
– И что ты за человек? Так я и не услышал дельного предложения.
– Будет вам новый счетовод.
Степан остановился у двери.
– Чего мнёшься, проходи, садись…, – Апутин весело улыбнулся, – присаживайся, – ох уж эти суеверия. А всё от поповского произвола то – сами не исполняют и людям не дают.
Когда Нелюдимов сел, Апутин отложил кипу бумаг.
– Как с грамотой у тебя?
– Церковно-приходская школа, а потом жизнь.
– Считаешь хорошо?
– Не жаловались.
– Прекрасно вот и принимай дела счетовода, – Апутин резко подвинул стопку бумаг к Степану.
– Э-э, по мне лучше тачку, да кирку.
Апутин совсем развеселился.
– Узнаю, слышу верные слова. Но как партиец к партийцу обращаюсь: надо. Во как надо, – он характерным жестом провёл ладонью по шее.
– Так я вроде как… не партиец…
– Бывших не бывает. Оступился – не предал, завсегда подняться не поздно. Я тебя давно примечаю, уж больно горластый ты Степан, – Апутин продолжал улыбаться.
– Слюнтяев не люблю. Да, грешен я перед партией – не понял настоящего момента. Вольницу свою за свободу выдавать стал.
– Не грешись, не у попа на исповеди. Хотя если честно, – осунувшееся лицо Семёна стало серьёзным, складка глубже разрезала лоб посередине, – исповедь уважаю – тут человек гореть, а не дымить, начинает и от него уже меньше воняет всяким смрадом. Только и тут привычки опасаться надо.
Степан удивлённо взглянул на старого большевика, вытягивая дугой бровь над глазом. Семён закивал головой в подтверждение сказанного.
– Исповедь она ведь как на партсобрании перед товарищами: не тебя секут – ты сам. Глядишь, да и поубавилось самолюбования. Такие дела, товарищ Нелюдимов, фамилия вроде как случайная тебе, ты уж извини за откровенность, так погляжу – душа твоя нараспашку, а фамилия… впрочем всё это второстепенное. Так что, – он хлопнул по бумагам, – принимаешь?
– А коли напутаю чего?..
– Напутаешь – не своруешь, так ведь!
– Э, да как можно у своего же трудового брата да своровать, как потом в глаза смотреть-то станешь?
– Вижу, что кандидатуру я верную нашёл.
Поначалу Степан заходил в контору, как бы стесняясь перед товарищами, отшучивался, но потом с цифрами совладал и уверенно докладывал по каждой копейке. Если надо было – отстаивал и Апутину не уступал. Выскочит весь красный из кабинета:
– Да, какого я тут рожна делаю, сами и обсчитывайте!
Директор следом:
– Остыл?.. Вот и я… Давай заново считать, народное ведь считаем и бережём.
Степан был горяч и вспыльчив, и вместе с тем… Однажды вызывает его Апутин. Смотрит строго, молчит. Первым не выдержал Степан:
– Чего ещё не так, товарищ директор?
– Да вот смотрю я на тебя и дивлюсь, товарищ Нелюдимов, копейку он, видите ли, народную бережёт, а ты сам-то кто? Из народа чай?
– Как есть.
– Так чего же ты молчишь, – Апутин вышел из-за стола, подошёл вплотную и начал пристально разглядывать, – а?
– А чего, а? – развёл руками счетовод. – Обсчитался – отвечу.
– Обсчитался, ещё как обсчитался, товарищ ты мой дорогой.
Нелюдимов недоверчиво поднял голову, что-то не соответствовало в тоне и словах начальства, взъерошил короткий седеющий ёжик на голове.
– И где?
– В личной жизни. Мы для чего новую счастливую жизнь затевали для всех? А, я вас спрашиваю, для чего? Вы женились?
– А что нельзя? Я… я по любви. Я по-настоящему, – попятился Степан. – Я Дуню… Мы распишемся. Как есть распишемся.
Крепкие объятия прервали несвойственное ему лепетание.
– Почему не сказал, почему скрыл! Почему в комнатке у жены ютишься.
– Так того… С жильём сами понимаете.
– Понимаю. И ещё понимаю, что дети наши должны расти достойно. Не в богатстве – нет, но достойно. Если бы ты начал требовать – не дал бы. Вот мой сказ. Не уважаю приспособленцев. Чую я в них, товарищ Нелюдимов, подковырку всему нашему делу. То им дай это, дай то, хочу, всё хочу, тьфу-ты, слизняки, ей богу слизняки – всё готовы пожрать, а плодятся так, что мама не горюй. Погибель они всему. И сами сгинут. Так… – Апутин вышел в приёмную, оттуда послышался его голос, приглушённый стеной, – Катя все у нас готово по Нелюдимову? – Получив утвердительный ответ, тут же вернулся обратно. – На вот, получай. Для начала, извини, барак для семейных, а как дом пробью, настоящий, каменный, туда переселишься.
Степан сглотнул, чувствуя, как слезы подступают к глазам.
– Иди, иди, – сочувственно похлопал Степана по плечу Апутин, и отвернулся.
Нелюдимов сына назвал в честь директора – Семёном.
Семён родился в тот же год, когда торжественно открыли санаторий и встретили первых гостей. В том же году, в декабре, Апутина увезли в чёрной «эмке».
– Не верю!!!
Взревел Степан, врываясь в райком партии и прямо, минуя «цепного пса» у входа, вбежал в кабинет.
– Товарищ, вы чего себе позволяете?..
На него уставились короткие усики, по моде того времени, и жёстко блеснули пенсне. Мягкие пальцы нервно одёрнули чистенький френч.
– Вы, собственно, по какому вопросу, товарищ?
– Товарищ? Да товарищ, уже много лет товарищ, ещё при царе стал товарищем, и не побоялся! Вот вы мне и ответьте, как товарищ, товарищу: за что Апутина?
– Ах, вон о чём речь. Читайте.
Секретарь райкома мягко подкрался в хромовых сапогах к столу, открыл ящик и вынул бумагу, проштампованную синими печатями.
– Кстати, – он задержал бумагу в руках, – а вы знали, что ваш директор принимает на работу людей не совсем, мягко сказать, лояльных к Советской власти?
_?
– Да, да, осужденных за кражу государственного имущества. Помните постановление от тридцать второго года.
– Это о трёх колосках-то?
– Вы это бросьте! Что за пренебрежительный тон, по решению ЦИКа Совета Народных Комиссаров, по решению советской власти.
– И что, ведь многих оправдали, – насупился Степан, – перегиб был.
– Вы, считает, партия может ошибаться?
– Да. Вот я старый партиец и то признаюсь – грешил. За что и отсидел. И осознал!
– Так-так, и вы тоже…
– Что значит тоже!
– И слова эти старорежимные: грешил. Вы, товарищ, прежде чем горлопанить, присядьте, остыньте и примите верное решение. Для партии верное. А то, как были шатающийся, так и остались.
– Ну ты, товарищ…
Секретарь испуганно попятился от подступающего Нелюдимова.
– Что вы себе позволяете! – взвизгнул он.
– Ты когда в партию-то вступил, хлюст?
– Не ты, а вы!
– Я спрашиваю, я – старый и верный партиец, всегда им был и останусь: вас спрашиваю. Потому что чует моё сердце: залётный ты, как есть залётный. Чужой и говорить мы будем на вы.
В тридцать седьмом Степан снова увидел тайгу, сопки напомнили ему застывшее на морозе море. И южные моря люди превращают в студёные воды, – подумал он, вспоминая уже нереальный для него дворец, красующийся в зеркале полного штиля, когда исчезают горизонты и небеса сливаются с водными просторами. В груди заныло, он резко оторвался от крохотного оконца, и решительно шагнул в сторону блатного зэка:
– Ты партию не тронь, гнида, вот этими самыми руками удавлю, понял.
Блатной притих, он прочитал в глазах этого хиляка решимость смертную, неземную и сразу оценил её.
– Браток, так кто ж против честных партийцев базар гонит. Только я посмотрю, когда и таких, как ты, в теплушках замерзать везут, то не всё хорошо в той партии. Без обиды.
Степан не обижался, он снова грезил любимым санаторием, с царским достоинством поднимался по широким ступеням к величественной чаше фонтана, слушал успокаивающий шорох золотящихся в лучах солнца струй, гладил рукой молодые листики самшитов, фигурно подстриженных.
И снова поднимался под высокие своды, подпираемые изящными колоннами, входил через широко распахнутые двери в лепные покои и слышал дивные звуки квартета. Он никогда ранее не слышал скрипки и рояля, басовитого звучания контрабаса, звуки вплетались в узорчатые сплетения под потолком.
Слёзы текли по его щекам, он прижимал к себе сына, указывал на всю эту красоту: теперь мы все, сынок, словно бы цари. Нет, мы выше этих благородных прохвостов – мы творцы царей.
Холодный воздух врывался сквозь окошко и слёзы замерзали на щеках. Эх, товарищ Апутин, Семён, ты как-то раз рассказал о твоём видении, когда, после ранения в грудь, находился между жизнью и смертью и бредил. Ты не бредил, нельзя всё прошлое рубить булатной шашкой, есть что-то, должно быть что-то, что выше нас и мелких людей и великанов. Всё наше величие пожирается червями, они и санаторий наш пожрут однажды, – костлявые ладони сильно сжались в кулаки, жилы на руках напряглись и задрожали.
– Не дам!!! Сволочи, не дам!..
Теплушка притихла, все обратились в сторону худощавой спины, нервно вздрагивающей под старой телогрейкой. Блатной руками в наколках всем дал понять: не трогайте человека, пускай выкричится, пусть всю боль свою звуком выплюнет в морозное окошко – так и ему и всем нам легче станет. Страдает человек от обиды смертной. Вот зэка, а душу получше Секретаря понимает и ценит.
Мерно стучали колёса на стыках.
* * *
Апутин сидел на шатком с переломанной ножкой стуле. Сквозь подбитые опухшие веки он равнодушно рассматривал высокого стройного НКВДэшника, прикуривающего папиросу характерным жестом, прикрывая огонёк. Язык Семёна постоянно натыкался на острые обломки зубов, выбитые только что, противная слизь, смесь крови и слюней заполняла рот, приходилось сплёвывать, получалось неловко, забрызгивая старую выцветшую гимнастёрку. Ту самую, в которой он проходил две последние стройки. Соломенный вид рубчатой ткани вызвали приятные воспоминания: медные звуки оркестра, шум фонтанов, счастливые лица, белые скатерти под торжественными сводами и одна на всех радостная мысль: построили!
– Чего щеришься, гад, – равнодушно осведомился следователь по особо важным делам.
– Вам всё равно не понять, – тяжело прошамкал Семён, и закашлялся, захлебнувшись собственной кровью.
– Нам такую мразь точно не понять. Ну, что, начнёшь признаваться или снова упираться станешь.
– А я всегда упирался. Вот гляжу на вас и таких же подобных вам, и вспоминаю царские застенки. Жандарма, всё отличие – тот был в белых перчатках. Как-никак – их благородие. И тогда мордовали и сегодня лупцуют. Революция по верхам прошлась… Одних сменила другими, а кровь, – Семён подбородком указал на забрызганную гимнастёрку, – как была тогда… так и осталась. Чуешь, гнида…
Очнулся Семён, задыхаясь в потоках вонючей воды.
– Очухался? Посади его на стул… Ну другой поставь, видишь ножку у этого доломали. Ты мне, гражданин, по делу докладывай, а не обзывайся.
– А что по делу?
– Я тебе бумагу давал читать. Ты ознакомился, осталось подписать.
– Я тебе устно, – харкает кровью Семён, – скажу. Слушай и наматывай на ус свой короткий.
– Так, – следователь быстро схватил ручку.
– Так вот… и тогда мордовали и сейчас…
– Ты издеваешься, – повысил голос Заверхозин.
Да, да – тот самый, бывший купец третьей гильдии, имеющий прекрасное чутьё и никогда не прогадывающий в «наварах». Тогда, в легендарном двадцатом, заслышав топот тысячи копыт Первой конной, атаман Заверхозин сразу сообразил: против такой силищи не стой – затопчет. И он начал остервенело рубить спасающиеся бегством останки белогвардейцев. Банда смотрела на своего атамана, не узнавая: был батькой, а теперь таким идейным стал, и чего? Тот проводил агитационную работу:
– Чего лупаете – я завсегда за дом свой, за землю радел, разве не так?! Гляжу и красные тако же. А белякам нету моей веры – те задницы свои спасают. Им завсегда на заграничных водах сподручнее было, бегут и барахло своё тащат, расстаться не могут. Вот мы им и помогали, эспро… тьфу-ты не выговоришь, экспроприацию проводили. По всей строгости революционного момента!
– Ну, батька, тебе хоть гцась в комиссары идти, эвон как выводишь правильно.
– А что, и пойду. Дай время!
Его отряд встал под красное знамя, так же как ходил под собственным, и поскакал, озорно поблёскивая шашками над головами. Заверхозин рубил, по-звериному щерясь, вызывая удивление у старых рубак. Эк, сколько злости у него к господам – наш человек.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.