Текст книги "Армагеддон № 3"
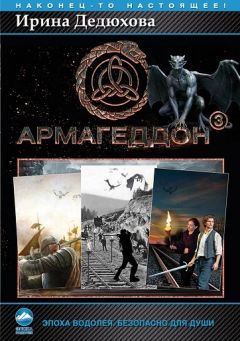
Автор книги: Ирина Дедюхова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Из истории Отечества
Солнце садилось за дальнюю сопку, предвещая будущий ветреный, холодный день. Впрочем, все пригожие дни остались далеко на западе, на воле. Возле костра копошились несколько дистрофиков-доходяг безразлично глядевших на горизонт выцветшими глазами. Бригадир только сплюнул в их сторону. Он привычно шугнул двух юрких блатных, филонивших на тачках. Вместе грунта эти суки больше снег перевозили туда-сюда, радостно изображая на ряхах победу социалистического труда. Бригадир явно высматривал кого-то в куче жавшихся друг к другу фраеров из первого барака.
– Макаров! Вали сюда, гнида! – сквозь зубы крикнул он жилистому, с ввалившимися скулами зэку.
– Я по фене не ботаю, – глядя в сторону, сказал ему Макаров.
– Я к тебе, как человеку, – пояснил бригадир.
– Говори, – коротко отрезал Макаров.
– Отойдем. Помнишь, к нам два проверяющих приезжали в августе? И сразу нас с молибденовых рудников на эту ветку кинули? Ты не кивай, зараза, кумполом, как мерин! Стой и слушай! Гляди в сторону, как глядел! Меня это дело тоже беспокоит, понял? Ты думаешь, одни ваши фраера сны про эту гору видят? У меня тоже когда-то мать была!
– Верится с трудом, извините, – попытался дерзить Макаров как фраер.
– Слушай, я же понимаю, что эта ветка сейчас для победы нужна гораздо меньше, чем молибден… У меня два пальца там оторвало, вот, видишь? Но я знал, что это для победы… Думал, может амнистию нам дадут.
– Вам, может, и дадут, а мне… – с отчаянием выговорил Макаров, глядя на запад.
– На вот, чибас, после охраны наши урки подбирают… Не криви рыло, не мусоленных нет, вашим мужикам давно посылок не было.
– Наши почти все с запада… Не знаю даже, что там и как…
– Понятно. И хохлы из военнопленных ни чо хорошего не рассказывали. Не дергайся, все на соплях держимся. Виду не подавай! Ветка эта, Макаров, здорово меня беспокоит. Не по-хорошему ее ведут. Ничего тут хорошего нет. Узкоглазые на нарах вчера оленину дохлую в лагерь подвозили, плюются на нас…
– Видел.
– Сны тоже видишь?
– Вижу.
– Сообрази до вечера, как сделать такое… Ну… Понимаешь?
– Договаривай. Я не сука, но договаривай до конца, Рваный!
– Э-эх! Одна надежда, что не сука. Мы умрем? Скоро умрем, Макаров?
– Скоро. И судя по жирным чибасам, наша охрана в себе тоже не уверена. Когда ты видел такие чибасы в старой зоне? А тут глянь, две затяжки – и в снег! Нас сторожат проштрафившиеся. Я давно их приметил. Собак почти фаскают. Они почти зэки, их послали сюда с нами вместо зоны. Кого-то упустили на прежнем месте, наверно. Знаешь же нынешний закон: охрана упустила, всю смену вместо не пойманных зэков садят – чужой срок досиживать…
– То-то они за каждым беглым, как за зверьем, по тайге охотятся. Значит, положат всех, – с тоской протянул бригадир, глядя на багровую полоску горизонта, где далеко на Западе садилось неласковое зимнее солнце.
– Всех положат, – эхом повторил Макаров. – Здесь случайных – никого нет. Наших фраеров из барака всех после майской бузы набирали.
– А у нас в 326-м лагере несколько блатных тоже весной сдернуть хотели, кабанчика решили из мужиков себе подготовить. Козлы. После допросов – самосуд им устроил. Терпеть не могу, когда кто-то решает людей жрать. За моей спиной. Теперь сами мы все кабанчики. Макаров, ты можешь сделать так, чтобы часть звеньев с виду были как новенькие, а при подходе состава утопли, а? Ведь мать-то у тебя крещеная была? – с надеждой спросил Рваный.
– Нет, не крещеная. Я еврей, – безразличным тоном сказал Макаров. – Два года назад во сне проведывать приходила, сказала, что всех во рву… Всех… Так что посылок моих тебе больше не шмонать, Рваный!
– Ты отвернись, Макаров, сопи в сторону! Утрись, давай! На еще чибас! Да не давись соплей! Моих всех при мне в двадцать восьмом шлепнули. У нашего же амбара! Нечего мне с тобою делить! И если пропадать, то не за этих горбатых проверяющих, которые на крови ряхи отъели!
– Наши мужики вторую неделю шляпки у костылей стачивают, – тихо, но с нажимом сказал Макаров.
– Хорошее дело! Гляди-ка, и мы вторую неделю, заметь, к вашим не цепляемся и сами костыли сшибаем. Сознательные, бля, – радостно подхватил бригадир. – Как-то надо объединять усилия, морда жидовская?
– Надо, Рваный! А за морду жидовскую ответишь! – беззлобно ответил Макаров, впервые улыбнувшись за весь разговор шутке бригадира.
– По понятиям, Макаров! Ты же инженером на воле был! Не какой-нибудь мужик! Звенья нужные, когда укажешь? – неприметно толкнул его в бок Рваный.
– Грунты проверить надо. Скажи шестеркам, чтобы на откосах по жмене безо льда в котелки прятали после обеда. Из свежей выработки пускай берут, сразу после кайла. На откосы только ваших блатных поссать выпускают.
– Ладно, сейчас пригнись, бить буду! – шепнул бригадир и, неожиданно вдарив промеж глаз так и не успевшего пригнуться Макарова, тут же заорал, косясь на направлявшегося к ним охранника: – Я тебя в последний раз предупреждаю, сука! Филонить у меня никто здесь не будет! Урою, гнида! Кровью блевать – будешь! А филонить – хер тебе с ушами! Шевелись, враги народа, сучьи дети! Шпалы брать с синими номерами! Пелагра недоношенная!
* * *
Что-то неуловимо менялось вокруг. Стрелок ВОХРа старшина Поройков, прошедший не одну зону, несколько пересылок, распределителей и крупных лагерей, чувствовал это кожей лица. Ему казалось, что он никак не может поймать, уловить странный ритм, целиком наполнивший теперь каждый вдох и выдох вокруг. Непорядок. Во-первых, ритм должен был задаваться им, Поройковым, а во-вторых, все непонятное на его службе обычно заканчивалось пером в бок. Поэтому он напряженно присматривался к жизненным изменениям вверенного охранению контингента.
Охрана теперь весь день растерянно топталась у шалаша на косогоре, глядя сверху, как голодные зэки, просмоленные всеми ветрами неволи, дружно вгрызались в мерзлую землю. На тачки теперь почему-то вставали пожилые дистрофики, едва переставлявшие ноги в середине колонны. Они же таскали теперь сучья к общему костру, грелись, сколько хотели. И никто из блатных, сноровисто махавших кайлом на откосе, почему-то не смел раскрывать на них хаяльник.
Драки на ночевках тоже прекратились. И за движением неровной колонны людей в ватных бушлатах, с виду подчинявшейся сонным охранникам, чувствовалась своя жесткая организация. Пусть. Так было всегда. Но не было чего-то важного, непреложного атрибута зоны – вражды статей. Впервые после перехода на новое место отряды не разбивались на вояк, психов, баптистов и прочих, будто кто-то перетасовал их как карты, выложив в рядок лишь по весу. В отряды теперь становились молча, плечо к плечу, синие от наколок блатные и цинготные, терпеливые мужики.
По лагерю перестали шататься потерявшие рассудок от голода опущенные, потому что вместо двух наглых урок в пищеблоке неожиданно оказались два оставшихся в живых священника из Белоруссии. Но больше всего Поройкова потрясло, когда он увидел, как несколько мужиков-дистрофиков, сидя у стенда социалистического соревнования, с упоением слизывали с пальцев коричневый клейстер. В лагерь доставили всего шесть посылок с ржаным хлебом, который после размораживания в кипятке приобретал вид коричневого студня. Все посылки предназначались уважаемым на зоне блатным с самыми кровавыми сроками, но почему-то никто из них хлеба из собственных посылок по морде не размазывал.
Во всем чувствовался жесткий порядок, как и положено в режимном учреждении. Проблема заключалась для Поройкова не в порядке, а в том, что этот порядок исходил вовсе не от руководства их подразделением, а, значит, представлял опасность как для всего лагеря, так и для него, Поройкова, лично.
Опытный старшина чувствовал, что зэки сплотились возле матерого вожатого по старому лагерю. Причем все. Блатные, фраера, мужики. У них явно появилась цель. А весь опыт подсказывал старшине, что цель зэка может быть направлена лишь исключительно во вред охране. Прикидывал он так и этак. Концы не сходились. Сдернуть собрались? Куда? И как? Отсюда не сдернуть. Подойти, разве, да спросить самого Рваного? Вот смеху-то будет!
Хуже всего, что Поройкову снились эти изнуряющие, бесконечные сны. Нет, раньше тоже всякое снилось. Особенно про Ленку. Ну, как он приезжает домой в Подтелково, а она, падла, с безруким Михасем живет. И он еще, главное, думает до утра, что же с этим Михасем делать, бить-то его как? Инвалида гребаного. И мать, главное, до утра воет, и Ленка… Прямо в голове.
Но сейчас ни Ленка, ни Михась вообще не снились. Почему-то снились только два странных проверяющих, за которыми он до утра ходил конвоем. Причем, когда он в конце августа действительно сопровождал их по всей длине будущей ветки, ничего странного ему тогда в них не виделось. А теперь в каждом сне он вдруг примечал в них то какие-то шевелящиеся горбы на спине, то стремительную походку боком, то вдруг даже начинал понимать это пощелкивание, которым они между собою переговаривались. Один все беспокоился, чтобы ветка пересекала весь циферблат. Так и щелкал клестом второму: «Циферблат! Циферблат!» А второму почему-то от всего циферблата только восемь частей надо было, но подзузукивал он второму как-то не на русский манер: «Восем част! Восем част!» Точно! Так немцы поволжские в 257-м лагере на Вишере цемент для раствора отмеряли: «Одна част, два част».
Каждую ночь Поройков теперь мучился мыслью, почему кроме него никто не видит, что проверяющие – немецкие шпионы. Во сне он каждый раз пытался писать донос самому главному начальнику, генералу НКВД, запоздало сожалея, что бросил школу после пятого класса. Хотя кто бы тогда мать кормил с пятью оглоедами на руках? А утром Поройков понимал, что вся эта хрень, что теперь настойчиво ему снится – следствие того порядка, который кто-то наводит в лагере без его участия. И ведь даже овчарки – умные, проверенные суки, только смотрели на Поройкова какими-то тоскливыми глазами и даже не рычали на подконвойных.
У него хватало опыта и жизненного ума выявить рано поседевшего фраера с пятью пунктами по 58 статье, которого на удивление часто лупцевал бригадир Рваный. Зря он это делал, зря. Слишком спешил, с-сука. С наблюдательного пункта Поройков собачьим нюхом чувствовал, что сам бригадир, после каждой зуботычины, бежал выполнять какие-то тайные распоряжения этого стриженого фраерка.
Почва уходила у Поройкова из-под ног. То же чутье ему подсказывало совершенно недопустимую для его душевного равновесия мысль, что вовсе не сдернуть с кичмана собирается эта серо-черная рвань, что все их усилия направлены на рост производительности труда и досрочную сдачу объекта социалистического строительства. И от этих мыслей хотелось задрать голову к рано темнеющему небу и по-волчьи завыть на прозрачный рожок луны.
В объятиях тьмы
От противоречивых мыслей, которые посещали его теперь, Ямщикову хотелось по-волчьи завыть на прозрачный рожок луны, болтавшийся за окном над его верхней полкой. Он знал что, в отличие от Седого, Маринка бы давно стала с ним разговаривать. Шкурой чувствовал, что это Седой тихонько ей указания дает. Подумаешь, он, видите ли, не поверил, что у того нюхалка заработала! Сами вначале одно говорят, потом сразу – другое. А он ему, как лох, каждый раз верить должен! Ямщиков подумал, что надо бы сказать Седому веско: «Я, Седой, в Бога верить обязан! А тебе я ни хера не должен!» Но почти сразу вспомнил, сколько он задолжал хитрому Седому за халявную жратву в ресторане, и вполголоса матюкнулся.
Из ближнего тамбура явственно потянуло паленым. Продолжая материться, Ямщиков соскочил с верхней полки. Дверь в купе была вообще раскрыта. Маришка спала, скинув куда-то свое одеяло и поджав под себя красивые женские ноги. Ямщиков даже заскрипел зубами, понимая, что всю оставшуюся дорогу этот Седой будет старательно гундеть Марине, какой он, Ямщиков, кобель. Хоть бы сам как мужик подумал, что не мог он иначе с Наташкой. Не мог и все! Он стянул свое одеяло с полки и накинул его на полуголую Марину, с особой заботой укутывая голые ноги. С полки Седого тут же раздалось покашливание. Еще раз матюкнувшись, Григорий взял сигареты и вышел в тамбур.
В тамбуре Ямщиков застал Петровича, который, воровато поглядывая на дверь, ведущую в вагоны основного состава, засовывал в топку вместо угля какие-то шмотки. Он даже не расслышал, как в тамбур вошел Ямщиков, поэтому вздрогнул от неожиданности, когда тот спросил за его спиной: «Ты что же это делаешь, вожатый?»
– Гриша, – со слезами вскинулся к нему Петрович, – только не продавай! Не знаю я, что с Кирюшей делать! Понимаешь, бригадиры сказали, чтобы я больше по буфетам с ним не бродил. МПС не позорил. А крыс никто для него не ловит. Да у меня и бабки на хомяков кончились! К пиву он тут пристрастился в последнее время… Все время себе пива требует.
– Стоп-стоп, дорогой! Погоди! – сорвал все накопившееся раздражение на беззащитном Петровиче Ямщиков. – Это какой такой Кирюша здесь пиво трескает с хомяками? Слушай, Петрович, ты не съехал с остатнего умишка? В глаза глядеть!
– Так это… я думал, что ты знал, – заюлил Петрович. – Сколько раз пили вместе. Кирюша ведь тоже присутствовал… Ты ведь ничего не спросил… Я тоже лишний раз людям в душу не лезу.
– Так ты… Мне это, значит, не привиделось? Это та самая тварь, которая у меня в башке роется? – возмутился Ямщиков.
– Ну, чего уж он там у тебя мог нарыть, – решительно встал на защиту Кирилла Петрович. – Про твой залет в тамбуре и так все знают. Про Чечню, про два или три суда, и как тебя Наташка бросила – все давно в курсах. Про то, что я удавчика везу – тоже все знают. Он мне как родной, понимаешь? А то, что по головам роется, так ведь сам посуди! С кем ему здесь общаться?
– Петрович… Тебе хорошо, ты давно сдвинулся, – грустно ответил Ямщиков. – А мне вот сейчас так с вами всеми хреново…
– Я, видите ли, сдвинулся, а он еще нет! А кто тебя предупреждал, чтобы ты не гадил туда, откуда сейчас напиться тянет? Я хоть и сдвинутый, но всех насквозь вижу! А ты мне заявил, что я – цуцик, а ты, дескать, – собственник. Вот сейчас сиди вместе со всеми цуциками и не квакай! – сказал Петрович, с натугой пытаясь оторвать рукав от мужского пиджака из рыхлого кашемира. – Не стой идиотом, Григорий, помоги лучше! У меня, может, тоже вчера тяжелая сцена была… Не рвется, главное, ни хрена, сволочь! С Аннушкой мы всю ночь прощались. Пообещала дождаться меня… Хотя с вами она меня, скорее всего, хрен дождется, если честно. Вот Кирюша без присмотра и уполз опять… Ведь просил я его не ползать, просил! А он матерится только. Материться выучился, зараза… И до чего отчаянный! Я так боюсь за него! На прошлой неделе немтыря сожрал… Ну, помнишь, немтырь в вагон заходил? Карточки всем разнес неприличные, а обратно за деньгами не пришел, помнишь? Ваш очкарик еще заставил тебя все карточки выкинуть, а ты их за огнетушитель спрятал, помнишь? Нечего на меня так смотреть, не брал я твои карточки! Господи! Не о карточках речь… Понимаешь, я потом в тамбуре ботинок нашел. Точно от немтыря! Он в туалете загадил все, и отпечаток протектора – точь в точь! Зараза! Мыть-то мне, блин. Я и подумал тогда еще, что хорошо бы его Кирюша сожрал! Все-таки три дня потом не кормить… Только на пиво тратиться… Господи!
Ямщиков глядел, как Петрович сквозь свой непрерывный скулеж пытается засунуть в топку фасонистую дубленую куртку. Куртка не лезла в узкое жерло, выплевывавшее сизый дым, от которого нестерпимо щипало глаза. Ямщиков машинально наступил на рукав куртки и с силой потянул за цигейковый воротник.
– А кого он сейчас-то у тебя съел? – растеряно спросил он.
– Пассажира из шестого купе! Нигде нету! Чуешь? Ой, мать-перемать! В туалет, видать, среди ночи поперся в одних трусах! А Кирюше по фигу! Лежит сейчас довольный, от всего отпирается… А я так понимаю, что как он увидел его, уже очищенного, в одних трусах, даже без майки, так и не сдержал себя… Гриш! Не выдавай, Христа ради! Тут понимаешь дело-то какое… Этот пассажир не простой был. Я их по глазам вижу! Он – чекист был! Точно! Искать станут еще… Ой, бля! Я бы тихонько шмотки выкинул или старухам за полцены спустил, а теперь, один хрен, жечь надо! Ботинок подай!
– Только ты, Петрович, дверь наружу открой, а то ведь все в вагон тянет.
– Спасибо, Гриша! Не выдавай! Ладно?
– Да мне-то до лампады. Твои проблемы. Смотри, чтобы эта гадина самого тебя не слопала, – зевая, сказал Ямщиков.
– А кто ему, заразе, пиво таскать будет? – резонно заметил Петрович, засовывая в топку стильный мужской джемпер.
* * *
Проводив Анну, Петрович погрузился в хандру и меланхолию, потом начал выпивать. От лица всех пассажиров его ходила увещевать Серафима Ивановна, но Петрович ей заявил, что все последующее, что его ждет в этом вагоне, он желает пережить под хорошей анестезией.
Новые пассажиры в вагон не садились. Хотя студенты неоднократно пробовали прорваться на халяву… Вышедшие на волю зэки тоже несколько раз возле вагона крутились. Вроде после амнистии. Но как только потенциальные попутчики видели в проеме двери пьяного Петровича с Кирюшей на шее и желтым флажком в руках, так сразу передумывали садиться в вагон. Обычно все почему-то руками отмашку давали. «Идите вы в жопу!» – так это надо было понимать. И вагон весело катился по поющим рельсам дальше. Прямиком, непосредственно туда. Без точного расписания. Будто намеренно передвигаясь исключительно по ночам.
Днем вагон стоял где-нибудь на неизвестных станциях третьего сорта, на самых дальних путях. Никто к нему хомячков не нес. Да в таких дырах безымянных и хомячков-то, наверно, отродясь не было.
До станционного буфета Петровичу приходилось нести Кирюшу на себе. За ним подтягивались и пассажиры. В вагон-ресторан теперь можно было попасть только поздно вечером или рано утром. Обычный ассортимент выносной торговли всем осточертел под завязку. А с Петровичем им было спокойнее, они полагали, что уж без него-то вагон точно не уйдет. По крайней мере, не должен уйти, пока он желтый флажок не покажет.
Никто уже проводнику за Кирюшу не пенял, хотя покопаться в головах этот змееныш успел у каждого. Все понимали, что Петрович переживает тяжелую душевную травму, поэтому старались лишний раз его вообще претензиями не тревожить.
Даже приятно было внимание со стороны населения. Во всех проходящих составах сразу народ к окнам прилипал, когда они гуськом тянулись по путям за Петровичем, и вездесущие привокзальные ребятишки кричали им вслед: «Циркачи едут, циркачи!»
Петровича прилипчивые пассажиры раздражали. Впрочем, в состоянии обострения нервов его раздражали буквально все. Он ругался вполголоса, пассажиры отставали немного, а потом намертво прилипали к нему опять. Так и тащились следом.
И почему-то никто билет перекомпостировать не стремился. Почему-то смирились все со своею судьбой. Серафима Ивановна, вновь оставшаяся одна, уверяла небольшое общество, собиравшееся в тамбуре у туалета, что, хотя она, конечно, совсем не такая, но чувствует, что в этом вагоне ответит за все грехи свои тяжкие. И после столь знаменательного железнодорожного путешествия она может совершенно бестрепетно предстать к престолу Господнему. А там она непременно встретится с покойными родителями, мужем, свояком, кумом, совхозным зоотехником, трактористом МТС, с которым она познакомилась на курсах в 56-м году, Васькой Шутовым, который у них два лета подряд коров гонял на выпас, и со многими другими.
И такая же решимость была написана и на лицах других пассажиров, шагавших с пустыми пакетами за Петровичем. Только буфетчицам они сразу откровенно не нравились, когда Петрович выпускал к ним Кирюшу в склад попастись. Поначалу. Визжали почему-то сразу. А когда Кирюша был голодный, он ни о чем думать не мог, кроме еды. Но, закусив в подсобках крысятиной, он всегда что-то хорошее телепатировал в головы буфетчиц. Те сразу трубку телефонную бросали и кончали орать про милицию. Мог Кирилл к себе женщин чем-то расположить. В Хайрузовке на Красноярской железке буфетчица даже поинтересовалась у Петровича, сколько он хочет за змейку? Но после какой-то Кирюшиной мысли покраснела, захихикала и отказалась от делового предложения.
* * *
Пятое купе молчало, будто там уже и не было никого. Но, втягивая в себя воздух, Седой чувствовал сладковатый, пряный запах, сочившийся сквозь запертую дверь купе из коридора. Он понимал, что без Бойца, как бы все осознавшего и почти проникшегося, им долго не продержаться. Прикидывая разные варианты и рокировки, Седой понимал и то, что сары начнут с Факельщика. Поэтому решил махнуть рукой на явные кобелиные демарши Ямщикова в отношении Марины, понимая, что только так она окажется под постоянным присмотром.
Правда, странности в поведении Факельщика начинали донимать уже и Седого. Ставить ее на дежурство было бессмысленно, она беспробудно дрыхла до утра. Уже и без глаз было видно, что в этой нынешней Марине все меньше оставалось от Флика. Целыми днями она моталась по соседним купе с какими бесконечными бабскими разговорами. Посмотрев что за пентаграммы она начала рисовать как-то вечером, Ямщиков, матерясь, отнял у нее гвозди и мелки. Ночью она могла спокойно отправиться в туалет, протопав прямо по всем знакам, раскрыв дверь на всю ивановскую. На днях огорошила Седого дикими расспросами, почему люди бывают такими маленькими? Их ведь так легко убить, когда они ходить не могут и разговаривать! Будто их трудно убить, когда у них языки развяжутся. Спросила бы у Ямщикова, он бы ей много чего рассказал на этот счет.
Пребывая в постоянной тревоге за шизевшего на глазах Факельщика, Седой уже сам посылал Ямщикова за нею, если ему казалось, что она слишком долго отсутствует.
Один раз даже Ямщиков ее не узнал, когда она тихо сидела на мусорном ящике в тамбуре у туалета с маленьким пацаненком на руках. Рядом с нею вертелся мальчуган постарше с обветренным простудой ртом.
– Мне мамка десять рублей еще с собою дала, все бутылки сдала из подъезда, чтобы я был не хуже других, – рассказывал он Марине, слушавшей его серьезно и сосредоточенно. – А училка нас в антракте к ларьку не выпустила, и я так и не смог купить себе клоунский нос на резинке. Мне этот нос во как был нужен! Я бы фиолетовый себе купил. А она сказала: «Сиди, Манохин, смирно, а то нервы у меня на тебя сейчас кончатся!» И когда циркачи ходили по рядам с обезьянками в юбочках – тоже погладить не дала. А я совсем близко был! Вы, тетенька, знаете, что у обезьянок жопка красненькая? Сам видел! Я в цирке целых два раза был. Один раз – совсем маленьким, когда еще папка в тюрьму не уехал…
Из туалета вышла женщина с мокрыми штанишками в руках и подхватила ребенка. Марина нехотя рассталась с чужим диатезным сокровищем и понуро отправилась следом за Ямщиковым. А у Григория в период этой сцены вновь разыгрались противоречивые чувства. Короче, ему ни с того, ни с сего стукнуло в башку, что хорошо бы сейчас ехать так же с Маришкой, с детьми… К матери, к примеру. Думать только о том, чтобы штанишки состирнуть, горшок вытрясти. Вот бы мамка обрадовалась!
Тут Ямщиков мысленно приказал себе остановиться. Поняв, что тоже сходит с ума, он отправил Марину к Седому, а сам выскочил в ближний тамбур воздухом подышать. Действительно, как тут не шизнуться? Ведь нет у него никакой мамки и не было! И как можно такое думать о боевом товарище? При этом в полном спокойствии и отрешенности положить с прибором на цели и задачи грядущего Армагеддона… Трясущимися руками он пытался поджечь сигарету, а эта сволочь назло ему не хотела поджигаться…
– Гриш, ты с фильтра поджигаешь! – заметил покачивающийся Петрович, вышедший в тамбур следом.
– Петрович, сейчас почувствовал, как люди с ума сходят! – еще в потрясенном состоянии нервов сказал Ямщиков, выбрасывая сигарету. – Мне как-то надо сохраниться, ведь все шизеют на глазах!
– Меня, что ли, имеешь в виду? – с нескрываемым безразличием спросил проводник. – Да я решил в завязку уйти. Хотя… Сейчас только вспоминал мечты разные, иллюзии, с которыми на железку пришел. Тоже подумал, я тогда был чокнутым, или наоборот – потом?..
– А что такое? – заинтересовался Григорий.
– Ну, знаешь ведь, раньше правило такое было, что если баба в поезде родит, то ребенка потом вся железка бесплатно катает. Наши нынешние крохоборы такое урезали, конечно, иначе хитрое бабье нарочно рожать сюда бы полезло. Но раньше такое правило было, не вру. И представляешь, вспомнил мечты молодости, чтобы именно у меня в вагоне кто-нибудь родил! Представляешь, каким идиотом был? В тонкостях представлял, как я героически роды принимаю, как мамаша благодарно рыдает при расставании… Даже самого слеза прошибала… Ну, ты понимаешь, что это строго между нами…
– Да чего уж непонятного? – с грустным смехом ответил Ямщиков. – Ты перед собою видишь такого же урода. Сейчас мечтал, что как бы те два пацаненка из последнего купе – мои собственные, а я, дескать, с женой к матери еду…
– Гриша, это так бабы на нас влияние оказывают! Не поддавайся, Григорий! – не на шутку испугался Петрович. – Иначе всем писец будет! Я пил только потому, что мне вдруг захотелось жить обычной такой жизнью, в которую нас бабы затягивают… Может, они по-своему правы, конечно. Но по скудости умишка эти дуры не в состоянии понять, что у мужчин, вообще-то, свои задачи имеются. И на этих задачах, может, мир держится!
Петрович хотел прибавить еще что-то важное, но только грустно махнул рукой. В целом его Ямщиков понял. Они стояли в объединяющем мужском молчании. Обоим стало значительно легче, хотя они понимали, что болтаются где-то на самой грани. Действительно, весело будет, если они спятят одновременно…
Тускло светили лампочки тамбура. А за окнами вагонных дверей стояла непроглядная темень, хоть глаз выколи. И кто его знает, что скрывала она от них в своих цепких объятиях?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































