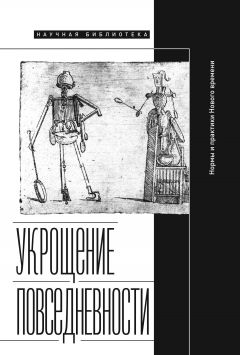
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
О том, что эти необычные советы по написанию писем имели успех, свидетельствует не только количество переизданий, но и появление подражателей. В 1646 году, через шесть лет после первой публикации «Модного секретаря», вышел «Совершенный секретарь», составленный адвокатом парижского парламента Полем Жакобом323323
Jacob P. Le parfait secrétaire, ou La manière d’ escrire et de respondre à toute sorte de lettres, par préceptes et par exemples. Paris: chez Antoine de Sommaville, 1646.
[Закрыть]. В этом тексте нет ни слова о моде, но он тем не менее также наделяет придворную и салонную культуру этим статусом, ориентируя читателей на сформировавшуюся в этих кругах манеру письма и – шире – на отношение к повседневному общению, которому подражает сам автор и пытается научить подражать своих читателей. То, о чем писал де Ла Серр, на сей раз было выражено словами ученого-юриста, а потому оказалось лишено даже внешней простоты. Его наставления получились гораздо более консервативными, пространными и учеными, со ссылками на Сенеку, Цицерона и Аристотеля и более очевидной назидательностью. Однако, описывая переписку как общение с отсутствующими друзьями324324
Jacob P. Le parfait secrétaire… P. 2.
[Закрыть], он выделяет похожие типы писем и дает к каждому из них советы, отталкиваясь от представлений де Ла Серра о том, что письмо является в первую очередь актом общения. Основной идеей, при помощи которой Жакоб пытается представить читателям новые представления о том, каким должно быть письмо, становится необходимость убедить собеседника, невзирая на невозможность личного контакта, в искренности своих чувств и намерений, соблюдая при этом достоинство и выказывая уважение. Несмотря на другой язык и логику объяснений, за его рассуждениями видна та же картина многозначности и сложности отношений, которую необходимо передать в письме:
Они (письма-обвинения. – А. C.) пишутся к друзьям, которые не приложили много усилий, чтобы помочь нам в делах. Их можно также назвать письмами-жалобами, поскольку мы жалуемся на то, что один из наших друзей не оправдал наших ожиданий или позабыл нас и т. п. Этот жанр следует смягчать шуткой, похвалами или разными уловками, чтобы не нарушить дружбу, по крайней мере в том случае, когда тот, кому мы пишем, намного ниже нас по положению. Тут необходимо соблюдать правила чести и скромности. Мы можем осуждать суть дела, но следует найти извинения намерениям человека, сказать, что мы весьма удивлены, что его может радовать нынешнее положение вещей, и хотели бы знать причину, по какой он нас забыл, но что сомнения мы в любом случае предпочли бы уверенности в том, что он пренебрегает перепиской с нами. Мы умоляем его пообещать впредь не допускать того, чтобы его можно было обвинить в лени или небрежении, ибо в противном случае огорчения, которые он нам доставит, будут служить ему еще большим укором325325
Ibid. P. 365–367.
[Закрыть].
Письмовник Жакоба явно не имел успеха и вышел лишь однажды. В его изложении искусство изящного письма оказалось даже слишком сложным. Однако именно это обстоятельство позволяет оценить, насколько сильное влияние оказали новые представления о беседе и переписке, сложившиеся в модном салонном пространстве. Даже рассуждения о том, что надо всегда учитывать, с кем именно ты ведешь переписку, которые отнюдь не выглядят странными в устах адвоката парламента, посвящены совсем не тем формальностям, связанным со статусом и титулами, которые читатели привыкли видеть в подобных текстах. Жакоб предписывает учитывать в письме все возможные характеристики адресата:
Ибо следует различным образом писать другу, человеку, который тебе безразличен, гранду и тому, кто занимает низкое положение, ученому и тому, кто не является таковым, придворному и философу. В отношении человека, которому пишешь, следует принимать во внимание состояние его тела и ума, а также его карьеру, его ученость, увлечения, нравы, силу, красоту, обязательства, богатство, его склонности, занятия, статус и имя. Нужно отмечать все то, что касается пола, возраста, нации, заслуг и отечества. В отношении его положения – происхождение, благородство, статус, характер, уважение, которое ему оказывают, его властность, величие, успехи в жизни и в профессии. Что касается его чувств, посмотрите, испытывает ли он расположение или ненависть, знаком ли с нами, есть ли с ним связи, посмотрите, к чему он наиболее чувствителен, как говорит, насколько непринужден в общении, наконец, кто его родные и какие услуги ему оказывают326326
Ibid. P. 6–8.
[Закрыть].
Эти характеристики, многие из которых являются довольно непостоянными, лишний раз подчеркивают повседневность общения.
***
Видимо, не случайно в XVII веке в придворной и салонной культуре, которая обретает статус модной, такое внимание уделялось средствам выразительности и различным тонким аспектам взаимоотношений между людьми. Модным оказывается не письмо, не слово, костюм или образ действий, даже не образ жизни в целом, а та сложная система значений, которая за ним стоит и о которой не подозревает несведущий и не обладающий вкусом человек. В случае с письмами элитарную модель повседневности, которую можно описать как модную, отличает не столько изящный стиль, сколько специфический образ мысли, особое отношение к самой коммуникации, которая предстает как сложный акт, в котором нужно учитывать массу обстоятельств и нюансов. Письмо оказывается лишь способом выразить это отношение и тем самым обозначить себя как модного человека.
При этом любые рассуждения о моде и модном фиксируют и как бы пришпиливают конкретные значения, которые и начинают восприниматься как модные и достойные подражания, навешивая ярлычки на разные элементы повседневной жизни. Связав модность письма с повседневностью, в которой оно возникает и характеристиками которой определяется, действительно делая письмо частью повседневности, де Ла Серр одновременно формулирует эту повседневность – создает ее и наделяет определенным значением, говоря читателю, в чем эта модная повседневность заключается. Рассуждая о модном письме, он предписывает своему читателю набор мыслей и эмоций, которые тот должен испытывать, обращаясь за советом или предлагая помощь, соболезнуя или шутя. Он довольно точно уловил интересы, которые сформировались в придворной и салонной культуре. Об этом может говорить тот факт, что предложенный им способ представления модной манеры общения очень хорошо перекликается с тем, который через 14 лет после первого издания «Модного секретаря» (II) появился в романе «Клелия, или Римская история» мадемуазель де Скюдери. Роман известен беседами на разные темы, связанными с заслуживающими одобрения манерами поведения и общения, а в еще большей степени – картой Страны Нежности, в которой завоевание расположения дамы представлено как сложный, требующий наблюдательности и деликатности процесс, а каждое действие и переживание, которое должно его сопровождать, выделяется, описывается, именуется и помещается на карту под видом отдельного населенного пункта327327
О карте Страны Нежности см.: Неклюдова М. С. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008. С. 251–255; Неклюдова М. С. «Я двор зову страной»: родословная одной метафоры. М.: РГГУ, 2014. С. 30–43; Стогова А. В. Метаморфозы «нежной дружбы»: к вопросу о создании и восприятии романов в XVII веке // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 14. М.: УРСС, 2005. С. 223–262.
[Закрыть]. Но читатель, который увидит за этим, как и за примерами модных писем, только набор правильных слов и поступков, никак не приблизится к цели и не станет модным. Так поступают господин де Журден и смешные жеманницы, начитавшиеся «Клелии», в пьесах Мольера, и это делает их не модными, а смешными.
Приложение 1
Секретарь секретарей, или Сокровищница французского пера, содержащая манеру составлять и диктовать все виды посланий, включая некоторые шутливые письма
Он сравнивает своего друга с солнцем, а себя самого со статуей Мемнона328328
Le secretaire des secretaires ou le thresor de la plume Francoise. Rouen, chez Matieu Gorgeu, 1619. Р. 153–154.
[Закрыть]
История учит нас, что статуя Мемнона в Эфиопии329329
Речь идет о так называемых «Колоссах Мемнона» в некрополе г. Фивы. Статуи в действительности изображают фараона Аменхотепа III. В результате землетрясения 27 года до н. э., описанного Страбоном, одна из статуй раскололась и получила славу «поющей». При повышении температуры и испарении влаги на рассвете статуя издавала звуки, считавшиеся в античном мире эталоном для настройки музыкальных инструментов.
[Закрыть] сама по себе была молчалива, но как только лучи восходящего солнца ложились на ее губы, она начинала говорить. Я прошу вас стать этим солнцем востока, которое придаст движение моей душе и слова моему языку, если вы благосклонно отнесетесь к этой работе, которая требует времени и находчивости, а также свойственного мне усердия, чтобы я мог и впредь выполнять ее как можно лучше и тем самым оказать вам приятную услугу, чего я желаю столь же сильно, как и оставаться навеки
вашим подлинным другом.
Приложение 2
Секретарь секретарей, или Сокровищница французского пера, содержащая манеру составлять и диктовать все виды посланий, включая некоторые шутливые письма
Он утешает (друга) в смерти отца330330
Le secretaire des secretaires. Р. 157.
[Закрыть]
Натуралисты утверждают, что каракатицам свойственно выпускать чернила с тем, чтобы не быть пойманным рыбаками, вы же, как я убеждаюсь, прибегли к молчанию, чтобы лишить меня удовольствия, которое могли бы доставить ваши письма, или потому, что не получили моих, ибо in dubiis munimum est se quendum (sic!)331331
In dubiis minimum est sequendum (лат.) – при наличии сомнений следует предполагать наименьшее зло (юр.)
[Закрыть]. Если так, я весьма этим огорчен, в особенности потому, что вы, вероятно, усматриваете в этом мою вину. Но это не так, поскольку [дружба] подобна рекам, которые становятся все более глубокими, по мере того как удаляются от своих истоков. В подтверждение этого примите этот подарок. Это вещь небольшой ценности, но в этом я сейчас являюсь противоположностью Мандробулу, который, по свидетельству Лукиана, каждый год уменьшал ценность даров, приносимых Юноне332332
Мандробул – житель острова Самос который нашел клад и в благодарность в первый год принес в дар богам золотого барана, во второй – серебряного, а в третий – медного. Лукиан действительно упоминает его в одном из своих сочинений: «Происходит, однако, нечто обратное твоим ожиданиям: по пословице – „как у Мандробула“ – подвигается твое дело, с каждым днем, так сказать, мельчая и вспять обращаясь». Лукиан из Самосаты. О философах, состоящих на жаловании // Лукиан из Самосаты. Сочинения в 2 т. СПб.: Алетейя, 2001. Т. II. С. 378.
[Закрыть]. Я слышал про смерть вашего отца, и меня несказанно огорчила понесенная вами потеря. Но у меня есть основание и для радости: видеть, что он обрел счастье, к которому мы стремимся в своей жизни, хотя она есть не что иное, как страдание среди отблесков истинного света, что было хорошо известно среди язычников. Наслаждаясь этой жизнью, я корю себя за обман и говорю, что он жив, ибо наша душа подобна Солнцу, которое, завершая свое движение в нашем полушарии, начинает светить в другом. Я написал бы вам о перемене, которая с ним свершилась, когда он оставил тленное ради бессмертного, если бы не опасался, что потревожу память, которая еще свежа, и вы станете бранить меня за назойливость. Я же стремлюсь этого избежать и неизменно оставаться
тем, кем я всегда хотел бы быть.
Приложение 3
Модный секретарь сьёра де Ла Серра. Дополнен до сих пор не публиковавшейся инструкцией по написанию писем. А также – собранием писем о морали самых выдающихся умов нашего времени и комплиментами французского языка
Заверения в дружбе333333
Puget de La Serre J. Secretaire de la mode par le Sieur de la Serre. Augmenté d’ une instruction d’ escrire des Lettres; cy devant non imprimé. Plus d’ un Recueil de Lettres morales des plus beaux de ce temps. Et des Compliments de la Langue françoise. Amsterdam: chez Louys Elzevier, 1646. P. 57–57.
[Закрыть]
Сударь,
Мое стремление почитать вас более, чем кого бы то ни было в свете, не дает мне упустить ни одной возможности вновь и вновь заверить вас в этом. Хоть я и пребываю в неизменном нетерпении, ожидая случая представить вам и другие доказательства этого, но они не зависят от моей воли, а потому мне приходится удовлетвориться тем, что дать вам знать, что она никогда не будет направлена ни на что другое. Примите заверения в этом,
Сударь,
от вашего преданнейшего слуги.
Приложение 4
Модный секретарь сьёра де Ла Серра. Дополнен до сих пор не публиковавшейся инструкцией по написанию писем. А также – собранием писем о морали самых выдающихся умов нашего времени и комплиментами французского языка
Письмо-утешение сыну в связи со смертью его отца334334
Puget de La Serre J. Secretaire de la mode par le Sieur de la Serre. P. 90–91
[Закрыть]
Сударь,
Зная силу вашего духа и слабость моего собственного, я взялся за перо не за тем, чтобы утешить вас в смерти вашего отца, но скорее с целью выразить вам переполняющее меня сочувствие. Мне нужно лишь показать вам, что в этой неизбежности смерти, которую природа навязывает нам от рождения, каждый идет предначертанным ему путем. Кому-то посчастливилось идти более длинной и менее ухабистой дорогой, нежели у остальных, но все они заканчиваются у могилы. И как только мы прибудем туда, время, затраченное в пути, больше не будет иметь значения. Нам с вами стоит только задуматься, сколько уже прошло лет с тех пор, как мы сами пустились в этот путь, и что в тот самый момент, когда я к вам обращаюсь, мы могли бы увидеть его конец из‐за преждевременной смерти. Вот о чем нам следует думать, и одна эта мысль будет способна утешить вас в вашем горе, если вы станете часто обращать к ней свой ум. Ваш отец мертв лишь для себя самого, и теперь ваша очередь изящно сыграть свою роль, ибо вы никогда не вернетесь в этот театр335335
Отсылка к популярной в барочной культуре метафоре teatrum mundi, описывающей земной мир как театр.
[Закрыть], где пребываете сегодня. Плох он или хорош, он существует ради вашего бессмертия. Все это должно вызывать у вас скорее зависть, нежели печаль, ибо ваш отец уже наслаждается покоем, прибыв туда, куда вы только стремитесь. Я сказал бы вам больше, если бы не опасался, что заставлю ваши глаза слишком надолго обратиться к этой бумаге. Нужно дать им еще времени, чтобы выплакать всю вашу столь оправданную печаль. Я разделяю ее, будучи,
Сударь,
вашим преданнейшим слугой.
«КОДЕКС ЛИТЕРАТОРА И ЖУРНАЛИСТА» (1829) – МАНИФЕСТ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Вера Мильчина
В «Трактате об элегантной жизни» (1831) Бальзака есть выразительный фрагмент, посвященный одному жанру тогдашней литературы:
Если речь идет о людях вообще, существует кодекс прав человека; если речь идет об одной нации, существует политический кодекс; если речь идет о наших материальных интересах – финансовый кодекс; если о наших распрях – гражданский кодекс; если о наших проступках и нашей безопасности – уголовный кодекс; если о промышленности – коммерческий кодекс; если о деревне – аграрный кодекс; если о солдатах – военный кодекс; если о неграх – рабовладельческий кодекс; если о лесах – лесной кодекс; если о плывущих под нашим флагом кораблях – морской кодекс… Одним словом, мы регламентировали все на свете, от придворных траурных церемоний и объема слез, которыми следует оплакивать короля, дядюшку и кузена, до скорости и распорядка дня эскадронной лошади… <…> Учтивость, чревоугодие, театр, порядочные люди, женщины, пособия, арендаторы, чиновники – все и вся получило свой кодекс (Бальзак 1995: 234).
Кодексы, о которых идет речь, представляли собой сборники полусерьезных-полушутливых советов и правил на все случаи жизни. Эти книжечки небольшого формата (в 12-ю или 18-ю долю листа) в 1825–1830 годах сочиняла и с большим успехом публиковала целая группа молодых поденщиков под руководством плодовитого литератора и «литературного антрепренера» Ораса-Наполеона Рессона (1798–1854)336336
И до, и после выпуска кодексов Рессон продолжал зарабатывать на жизнь литературным трудом – собственным или чужим (то есть либо как автор, либо как «литературный антрепренер»); до 1825 года участвовал в создании газеты «Хромой бес» и сам основал газету «Литературный фельетон»; после 1830 года вел рубрику «Происшествия» в «Судебной газете» и некоторых других изданиях того же типа (Chabrier 2017: 14) и выпустил несколько популярных и пользовавшихся большим успехом исторических сочинений, таких как «Народная история Французской революции» (1830), «Живописная галерея палаты пэров» (1831), «Народная история национальной гвардии» (1832) и др. Наиболее подробное изложение биографии Рессона см. в предисловии Мари-Бенедикт Дьетельм (Raisson 2013: 9–25); там же см. список книг, выпущенных под его именем (Ibid.: 231–239).
[Закрыть]; Бальзак активно работал в рессоновской «бригаде», так что знал о кодексах не понаслышке. Кодексами эти книги назывались потому, что формально подражали главному законодательному документу Франции – Гражданскому кодексу, который был написан и введен в действие в 1804 году по инициативе Наполеона (в разговорной речи он так и назывался наполеоновским). Кодексы Рессона и компании были разбиты на разделы и статьи – в точности как кодекс-прародитель. Этой формой, пародировавшей главный юридический документ эпохи, кодексы отличались от других изданий аналогичного содержания – тех, у которых на титульном листе стояло «Manuel» (Учебник) или «L’ art de…» (в дословном переводе «Искусство» делать то-то и то-то, но я предпочитаю переводить такие названия как «О способах» делать то-то и то-то, например «О способах повязывать галстук», «О способах делать долги», «О способах давать обед» и т. д.). В содержательном плане «Кодексы» не слишком отличались от «Учебников» и «Способов»; все эти книги описывали и регламентировали бытовое поведение светских людей вообще и представителей конкретных профессий в частности337337
Единственными, кого интересовал жанр кодексов, оставались до недавнего времени бальзаковеды (Prioult 1936: 305–307; Barbéris 1970: 695–707; Prioult 1972; Baudouin 2009), поскольку Бальзак в юности участвовал в сочинении кодексов, а один из них, «Кодекс порядочных людей» (Бальзак 2019), сегодня считается полностью ему принадлежащим и печатается в составе его сочинений. Исключение составляют лишь пространное и содержательное предисловие Патрисии Бодуэн к новейшему переизданию рессоновского «Кодекса литератора и журналиста» (Raisson 2009: 9–44) и статья, во многом его повторяющая (Baudouin 2009).
[Закрыть]. В прошлом у книг этого типа – трактаты XVII–XVIII веков о правильном поведении в свете (Montandon 1996); в будущем – комические нравоописательные зарисовки-«физиологии» (Stiénon 2012; Мильчина 2014). С первыми «Кодексы» и их аналоги роднит стремление к регламентации бытового поведения, со вторыми – комический тон повествования. В число «рессоновских» кодексов входят «Гурманский кодекс» и «Кодекс беседы», «Кодекс коммивояжера» и «Кодекс литератора и журналиста», «Галантный кодекс» и «Кодекс любви», «Супружеский кодекс» и «Эпистолярный кодекс», «Кодекс туалета» и «Кодекс будуаров» и пр., и пр. Кажется, как и констатировал Бальзак, не было такой сферы повседневной жизни, к которой бы не прилагался соответствующий кодекс. В одном только 1829 году, когда жанр достиг своего расцвета, согласно Bibliographie de la France, вышло вдобавок к «настоящему» наполеоновскому Гражданскому кодексу без малого четыре десятка книг со словом «кодекс» на титульном листе338338
От «рессоновских» кодексов, иронических и игровых, следует отличать серьезные и деловые кодексы, которые выходили у парижского издателя Никола-Эдма Роре (1797–1860); на протяжении трех десятков лет он выпускал небольшие учебники по самым разным, преимущественно техническим предметам, так называемые «учебники Роре», и создал таким образом настоящую энциклопедию практического знания из примерно трех сотен книг; см. о них: (Garçon 2003).
[Закрыть].
Каждая (или почти каждая) из них достойна отдельного разговора, но в данной статье речь пойдет только о той, что вышла из печати 6 июня 1829 года анонимно под названием «Кодекс литератора и журналиста. Сочинение литературного антрепренера». Авторство кодексов, выходивших из рессоновской «мастерской», – проблема неразрешимая. Некоторые из этих книг выпущены без имени автора, на титульном листе других автор указан (в частности, «Гражданский кодекс. Полный учебник учтивости», «Кодекс туалета» и «Брачный кодекс» вышли под именем Рессона), однако, скорее всего, над каждой книгой работали несколько литературных поденщиков, связанных узами приятельства. По всей вероятности, и «Кодекс литератора и журналиста» Рессон сочинял не один; более того, существует даже точка зрения, согласно которой он вообще сам ничего не писал, а только пристраивал кодексы в издательства и выставлял на титульном листе некоторых из них свое имя (Raisson 2013: 18). Тем не менее современные библиографы приписывают этот кодекс Рессону, и я в дальнейшем буду исходить из этой атрибуции, к тому же для цели данной статьи важно не имя реального автора «Кодекса литератора и журналиста», а его содержание.
На первый взгляд может показаться, что эта книга – не более чем циничная исповедь литературного поденщика. Однако если рассмотреть «Кодекс литератора» на фоне дальнейших литературно-критических дискуссий, рессоновский иронический «пустячок» предстанет одной из первых и весьма самобытных реплик в споре, который разгорелся во Франции несколько лет спустя, – споре о «промышленной литературе».
В статье, специально посвященной понятию «промышленная литература», Антони Глиноэр следующим образом описывает его возникновение:
Литература романтической эпохи очень скоро начинает ощущать себя в опасности. Она чувствует, как изнутри ее подтачивает могущественный демон, рождение которого она приписывает то порче писателей, сделавшихся профессионалами от словесности, то расширению читательской публики, включающей в себя отныне классы работящие и опасные. Имя этому демону – промышленность. Ее цель – опустить литературное творчество до самого низшего уровня, а ее источник – демократизация литературы как в области производства, так и в области восприятия. На протяжении 1820‐х и 1830‐х годов эти сигналы тревоги раздавались беспрестанно и вскоре слились в продолжительную литанию, исполняемую на разные лады и разным тоном (Glinoer 2009: 1).
Так возникает деление на литературу чистую и нечистую, художническую, предназначенную для избранных, и промышленную, адресованную всем и каждому, на литературу «для салонов» и литературу «для горничных» (Stendhal 2005: 824), а литераторов – на тех, кто «живет ради сочинительства», и тех, кто «живет сочинительством» (Durand 2012: 11). Две ветви существуют параллельно, и каждая идет своим путем. Но отношение к ним у литературных критиков очень разное: первую они в основном превозносят, а вторую осуждают в тех тревожных литаниях, о которых пишет Глиноэр.
В 1832 году Гюстав Планш в очерке «День журналиста», рассказывая о том, как «драмоделы» уродуют высокую прозу и превращают ее в дешевую мелодраму, выдвинул оппозицию двух частей, на которые делится современная литература, – «искусства и промышленности»; первое его восхищает, вторая – возмущает:
Художники придумывают идею, углубляют ее, преобразовывают, перестраивают по своему вкусу, дабы сообщить ей больше ценности и красоты. Докончив свою бронзовую или мраморную статую, они сдергивают покрывало и говорят: «Смотрите». Толпа равнодушно проходит мимо и тотчас забывает увиденное. Тут являются дерзкие мародеры, которые крадут чужое в уверенности, что невежество гарантирует им безнаказанность. Они изготавливают жалкую копию и разукрашивают ее мишурой, блестками и цветными каменьями. Они наштукатуривают ей лицо румянами, выталкивают ее на сцену и говорят: «Вот мое творение». И этот плод литературного пиратства публика поощряет аплодисментами, вниманием, смехом и разинутым ртом. Она забывает об искусстве и рукоплещет промышленности (Мильчина 2019: 470–471).
Следующая важная дата в обсуждении промышленной литературы – 1833. В декабре этого года Дезире Низар напечатал в журнале Revue de Paris статью «О начале реакции против легкой литературы», введшую в обиход понятие «легкой» литературы (авторы которой стремятся только развлекать читателей и зарабатывать деньги продажей этих развлекательных книг). Низар упрекал «легкую» литературу во множестве прегрешений и среди прочего в том, что она превратилась в «промышленность»339339
См. об этой статье: (Ledda 2009); в работе Ледда, впрочем, речь идет преимущественно об эстетической стороне низаровского анализа, а о его оценке торгово-промышленного аспекта «легкой литературы» говорится весьма скупо.
[Закрыть]. Жюль Жанен, один из главных «антигероев» статьи Низара, ответил ему в том же журнале в январе 1834 года статьей «Манифест юной литературы» (Manifeste de la jeune littérature), или, как стали называть эту литературу в России с легкой руки О. Сенковского, «юной словесности». В своей статье он обыграл и «торговый» аргумент: хотел бы я посмотреть, говорит Жанен, обращаясь к Низару, что вы станете делать, если за ваш красноречивый манифест против легкой литературы кассир Revue de Paris решит заплатить вам на четверть меньше обещанной суммы только потому, что в редакцию поступило очень много хорошей серьезной (а отнюдь не легкой) прозы! Вряд ли вам это понравится.
Низар, однако, настаивал на своем и в статье «Поправка к определению легкой литературы» (в которой прибавил к эпитету «легкая» слово «бесполезная») разбранил эту самую ненавистную ему литературу в том числе и за ее «промышленный» характер:
Знаете ли вы, что значит на языке наших нынешних знаменитостей: «Пьеса провалилась»? Это не значит, что ей не суждена бессмертная слава! Это значит просто-напросто, что она не принесла больших сборов. <…> В такой словесности [легкой и бесполезной] всякий рождается писателем, поскольку здесь все, что сказано, считается сказанным хорошо; здесь не выбирают ни публики, для которой пишут, ни денег, на которые живут. Здесь гордо приравнивают себя к торговцам, к промышленникам, чем бы они ни занимались; здесь говорят «я держу лавку двусмысленностей, вольных сцен, соблазнительных драм» точно так же, как «мой чулочник держит лавку чулок». Книга стоит не больше пары чулок; когда она запачкается, ее бросают в корзину для мусора, и она вновь превращается в тряпку, но если на нее есть спрос, запас пополняют, как пополняют запас любого другого товара. <…> В нашей промышленной литературе писатель ценился ниже купца и богача до тех пор, пока он имел над ними лишь превосходство умственное и нравственное; простая перемена в звании писателя восстановила равенство. Теперь нас окружают одни лишь торговцы, чем бы они ни торговали.
Легкая и бесполезная литература, продолжает Низар,
продает адюльтеры дюжинами, как хлопчатые чулки; она испекает каждый день новую книгу, как пирожник печет каждый день новые пирожки (я рассуждаю о ней исключительно как об отрасли промышленности), а если публика не успевает потребить книгу в тот же день, легкая литература одевает оставшиеся экземпляры в новые обертки, примерно так же, как пирожник разогревает вчерашние пирожки. Она согласилась жить без завтрашнего дня, она превратила профессию в ремесло, по ее вине звание литератора сделалось постыдным и стало предпочтительнее слыть чулочником, чем писателем (Nisard 1834: 18–19).
Наиболее полное и знаменитое воплощение этот протест против торговой литературы получил в статье Сент-Бёва «О промышленной литературе», напечатанной 1 сентября 1839 года в Revue des Deux Monde. Вся она есть не что иное, как обличение тех корыстных литераторов, которые выдвигают на первый план денежную сторону дела и считают доказательством дарования крупный гонорар. Именно их творения Сент-Бёв называет промышленной литературой (littérature industrielle)340340
Эта статья Сент-Бёва существует в русском переводе, однако переводчик Ю. Б. Корнеев изменил ее название до неузнаваемости, превратив его в «Меркантилизм в литературе» (Сент-Бёв 1970: 212–233); между тем в России в 1830‐е годы писали не о «меркантилизме», а о торговой, или промышленной, литературе. См., например, в «Телескопе» в переводе с французского статью из Revue des Deux Mondes Ксавье Мармье «Лейпциг и книжная торговля Германии»: «Особенно с некоторого времени образовалась во Франции торговая литература, которая, во вред литературе здравой, доставляет занимающимся ею средство иметь каретку и жить домком. Часто случается, что этот честный род промышленности разоряет издателей» (Мармье 1834: 183; оригинал: Marmier 1834: 101; в оригинале речь идет о littérature marchande). В России та же дискуссия о «промышленной литературе» нашла особенно полное воплощение в статье С. П. Шевырева «Словесность и торговля», направленной против «литературной промышленности», олицетворением которой Шевырев и его современники считали «Библиотеку для чтения» О. Сенковского: напечатанная в 1835 году в первом номере журнала «Московский наблюдатель», статья Шевырева на четыре года опередила Сент-Бёва. Впрочем, исследователи соотношений «словесности и коммерции» на русской почве отмечали, что эта фразеология появились в русской прессе еще раньше статьи Шевырева, и цитировали, например, статью «Летописи отечественной литературы. Отчет за 1831 год» из журнала «Телескоп» (1832. № 1. С. 156): «1832 год в летописях нашей словесности отметился годом черным для обрабатывающей литературной промышленности» (Гриц 1929: 289–290). Я не касаюсь здесь вопроса о том, как решалась проблема «литература и деньги» в России в первой трети XIX века, хотя трудно удержаться от цитирования в этой связи хрестоматийной пушкинской строки «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», а также его же чуть менее хрестоматийного письма к жене от 14 июля 1834 года, где деньги называются «единственным способом благопристойной независимости» (см.: Гессен 1930; Meynieux 1966).
[Закрыть].
На протяжении XIX века традиция осуждения такой литературы оставалась наиболее влиятельной; лишь изредка находились авторы, пытавшиеся «снять» противоречия между высокой литературой, якобы всегда обреченной на бедность, и литературой, способной прокормить того, кто ею занимается. Эти авторы утверждали, что талант имеет право на справедливую оплату, а отнимать у него вознаграждение (в частности, превращая без авторского разрешения прозу в пьесы – та самая ситуация, на которую сетовал Планш в процитированном выше фрагменте) – форменный грабеж; об этом, например, писал Бальзак в статье «Письмо к французским писателям XIX века», датированной 1 ноября 1834 года и опубликованной в Revue de Paris 2 ноября того же года, то есть вскоре после спора между Планшем и Жаненом. Понятно, что Бальзак, не имевший иных средств к существованию, кроме литературных заработков, стал одним из активных членов основанного в 1838 году Общества литераторов, созданного именно для того, чтобы отстаивать права авторов на получение платы за свой интеллектуальный труд и, в частности, защищать литераторов от контрафакторов (Prassoloff 1990: 171–173)341341
Это, разумеется, не мешало Бальзаку нарисовать весьма безрадостную картину продажной парижской журналистики и в «Монографии о парижской прессе» (1843), а во второй части «Утраченных иллюзий» («Провинциальная знаменитость в Париже», 1839) противопоставить поденщикам, для которых сочинительство всего лишь способ заработка, бескорыстное Содружество (cénacle) возвышенных поэтов.
[Закрыть].
Право литераторов не стыдиться требовать достойной оплаты за свой труд отстаивали порой и люди, сами не так сильно заинтересованные в литературных гонорарах; ср., например, мнение политического деятеля, депутата и с 1846 года члена Французской академии Шарля де Ремюза, высказанное в статье «О духе литературы в эпоху Реставрации и после 1830 года»:
Нынешнюю литературу обвиняют в меркантильности и в приверженности к импровизации. Упрек не лишен оснований; однако его следует адресовать отнюдь не только тем, к кому его обращают. Писателям наскучило видеть, как все ремесла приносят прибыль, кроме ремесел умственных; понятно, что они пожелали взять реванш и представить свои патенты на финансовое благородство. В самом деле, соблазн был слишком велик. Промышленность, благодаря размаху своих операций, изощренности своих расчетов, быть может даже благодаря умению набивать цену не только своей продукции, но и самой себе, играет в современных обществах главную роль. Нынче она ведет к почестям. Почему же в таком случае талант не может вести к богатству? Право, очень смешно слышать, как общество упрекает литературу в том, что она сделалась промышленной. А само общество? А политики – разве они не поступают точно так же? (Rémusat 1847: 499; то же: Querelle 1999: 252).
Еще одна попытка снять противоречие между творчеством и финансами, между смыслами и деньгами, между сакрализованным романтическим поэтом и литератором, зарабатывающим себе на жизнь, сочувственно описана в романе «Отверженные» (ч. 3, кн. 5, гл. 1), где Виктор Гюго даже предложил для поденного литературного труда оригинальный термин «литература-книготорговля» (Vaillant 1986; Gleize, Rosa 2003)342342
В оригинале littérature-librairie; русский перевод Н. Д. Эфрос «книготорговля» (Гюго 1954: 128) не дает представления о своеобразии французского неологизма.
[Закрыть].
Наконец, в конце века, в 1880 году, Эмиль Золя выступил с очень серьезной концептуальной статьей в защиту финансовой обеспеченности литераторов как залога их независимости (Zola 1880; рус. пер.: Золя 1966). Полемизируя с Сент-Бёвом как самым ярким глашатаем устаревшего взгляда на соотношение творчества и денег, Золя показывает все выгоды нового положения вещей, при котором человек пишущий и печатающийся освобождается от унизительной необходимости искать протекции богачей, поскольку получает достойную плату за свой литературный труд.
Однако такие случаи оправдания и даже воспевания «товарно-денежных» отношений в литературе для XIX столетия скорее исключение, чем правило; гораздо чаще писатель, который пишет «для денег», подвергается осуждению; ему противопоставляется гений, который презирает подобные формы зависимости от публики и издателей (но при этом имеет какой-то иной источник дохода: наследство, правительственные субсидии, академическую пенсию и т. д.)343343
Об этой оппозиции см. подробнее: (Clark 1977).
[Закрыть].
Наметив пунктирно ход дискуссий о промышленной, или торговой, литературе от 1830‐х до 1880‐х годов, возвратимся назад, к рубежу 1820–1830‐х годов.
Обсуждение (и осуждение) этой литературы началось во Франции, как видно из приведенных выше дат, в середине и конце 1830‐х годов, причем Сент-Бёв – подчеркнем это – утверждает, что прежде, в эпоху Реставрации, корыстные литературные аппетиты не выставлялись напоказ, даже компиляторы вдохновлялись некими идеалами, обнажились же эти процессы только после Июльской революции, когда профессионализация литературного труда привела к злокозненной «меркантилизации» литературы. То обстоятельство, что Сент-Бёв специально подчеркивает чистоту и бескорыстие литературных отношений в эпоху Реставрации, вполне понятно: сам он в это время состоял членом «Сенакля» – группы возвышенных молодых литераторов, группировавшихся вокруг Виктора Гюго, и сочинял новаторские драматические стихи от имени вымышленного поэта Жозефа Делорма: ему не было дела до того, что происходит в «торгово-промышленной» сфере.
Другие авторы, писавшие на эту тему, хотя и с противоположных позиций, также называют датой осознания «торгово-промышленного» аспекта литературы конец 1830‐х – начало 1840‐х годов. Огюст Лакруа в книге «О современном состоянии литературы и книжной торговли во Франции» (1842) констатирует:
Еще совсем недавно книга представляла для читателя не более чем отвлеченный плод ума; ни материальную, ни коммерческую сторону дела он в расчет не принимал. Смешать идею прибыли с идеей философической или литературной показалось бы ему чудовищной аномалией. Его мысль переносилась напрямую из кабинета автора в мастерскую печатника (Lacroix 1842: 15).
Такая периодизация носит не только субъективный, но и вполне объективный характер; именно 1830 год исследователи отношений между писателями, издателями и читателями называют рубежной датой, после которой начали развиваться все те процессы, которые достигли своего полного развития к концу XIX века: совершенствование полиграфической промышленности, позволяющее печатать книги за меньшую цену большими тиражами, появление огромного числа периодических изданий, позволяющих начинающим литераторам в той или иной степени зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, превращение писательства в «профессию, ничем не отличающуюся от всех прочих профессий» (Charles 1990: 165), учащение конфликтов между «умом» и «материей», между писателем и издателем344344
См. подробный анализ этой эволюции: (Charles 1990; Van den Dungen 2008).
[Закрыть]. Причем поскольку «ум» по определению мог защитить себя более красноречиво, чем «материя», то и апологий сочинительства ради искусства известно куда больше, чем апологий сочинительства ради денег. А миф о несчастном поэте, сложившийся ко второй половине XVIII века и связывающий литературное величие со страданием, вел, соответственно, к установлению корреляции между посредственностью и литературным успехом – отсюда многочисленные художественные произведения о страдающих гениях и благоденствующих бездарностях (Brissette 2008). Не случайно Виктор Гюго, к концу Июльской монархии заработавший литературным трудом огромные богатства, охотно представлял себя в старинном амплуа несчастного поэта (см.: Brissette 2005; David 2006: 131).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































