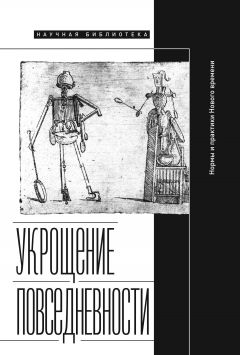
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
СОЗДАВАЯ ОБЩЕСТВА КОНТРОЛЯ
НОРБЕРТ ЭЛИАС И АНТОН МАКАРЕНКО В 1930‐Е ГОДЫ
Мария Майофис
Антон Макаренко давно стал привычной и конвенциональной фигурой в работах по истории советской литературы и советской педагогики, в современной науке – истории идеологии (Ушакин 2005; Добренко 2007: 183–196). Однако не менее важно было бы рассмотреть его работы в рамках истории интеллектуалов и истории идей, причем не только в рамках советской традиции и не только в перспективе генетических связей и влияний. Это позволило бы увидеть особенности его, пользуясь выражением Ч. Райта Миллса, «социологического воображения». Предметом внимания в этой статье будет сопоставление работ Макаренко и Норберта Элиаса 1930‐х годов.
1
Та система педагогических принципов и приемов, которая вошла в науку, практику и общественную мысль под названием «система Макаренко», представляет собой краткое изложение основных идей, высказанных им в трех больших его педагогических сочинениях: незаконченной книге «Опыт методики работы детской трудовой колонии» (предположительно – 1932–19339292
Именно так датирована эта рукопись комментаторами собрания сочинений Макаренко в восьми томах. Однако они же указывают на то, что в рукописи есть более поздние фрагменты, написанные уже после 1936 года (Макаренко 1983: 354).
[Закрыть]), брошюре – «Методика организации воспитательного процесса» (1935–1936), которую Макаренко писал в пору работы заместителем начальника Отдела трудовых воспитательных колоний НКВД УССР в Киеве9393
Эта брошюра была издана в 1936 году под названием «Временные методические указания по организации воспитательного процесса в трудовых колониях для несовершеннолетних» и разослана в качестве рабочего материала, на который предлагалось писать отзывы и соображения. Но 23 августа 1936 года в связи с арестом начальника отдела Л. С. Ахматова все экземпляры были отозваны обратно. Фактически книга пришла к читателю только в 1947 году, когда вышло ее первое отдельное издание (Абаринов, Хиллиг 2000: 70–72, 131, 134).
[Закрыть], а также из серии статей и выступлений 1936–1939 годов, некоторые из которых выходили уже после смерти Макаренко в центральных газетах, а некоторые были подготовлены к печати только к концу 1940‐х годов9494
Так, например, в январе 1938 года Макаренко выступил с серией лекций для сотрудников Наркомпроса РСФСР (косвенное подтверждение его амбиций предложить универсальную воспитательную систему для всех советских школ), их стенограммы были впервые опубликованы в «Учительской газете» и журнале «Советская педагогика» в 1941–1943 годах.
[Закрыть].
Уже в первом тексте, «Опыте методики…», Макаренко пытается создать всеобъемлющую систему советского коллективного воспитания, которую можно было бы использовать не только в трудовых колониях. Во второй половине 1930‐х годов его решимость создать такую систему только укрепляется.
Макаренко переезжает в Москву из Киева в ноябре 1936 года, но еще раньше, 20 июля, в «Правде» выходит его статья под названием «Прекрасный памятник». Она рассказывала о харьковской колонии им. Ф. Э. Дзержинского как лучшем памятнике руководителю ВЧК. Формально выход этой статьи был приурочен к десятилетию смерти главного организатора борьбы с детской беспризорностью, но, по сути, этот текст был ответом на гораздо более злободневные события. За шестнадцать дней до публикации статьи, 4 июля, ЦК ВКП(б) издал знаменитое постановление «О педологических извращениях в системах Наркомпросов» (Постановление 1936), навсегда положившее конец советской педологии как науке и педагогическим и психологическим экспериментам, которые велись под эгидой педологии. В статье для «Правды» Макаренко ни разу не упоминает опальных педологов, однако его основные тезисы не просто полемически заострены против педологических принципов и практик, но призваны продемонстрировать, что его педагогическая система прямо противоположна по своим установкам педологической и представляет собой многообещающую альтернативу, которая, в отличие от педологии, не предполагала никаких специальных методов для работы с делинквентными и отстающими: «Не презрение, не высокомерную подачку, не ханжеское умиление перед человеческим несчастьем подарили чекисты этим искалеченным детям. <…> Главное – новое отношение к человеку, новая позиция человека в коллективе, новая о нем забота и новое внимание. И только поэтому искалеченные дети, пришедшие в коммуну, переставали нести на себе проклятие людей „третьего сорта“» (Макаренко 1984: 123). Далее Макаренко рассказывает, что после постановления 1935 года о полной ликвидации беспризорности пятьсот старых воспитанников колонии вынуждены были принять в свой коллектив пятьсот новых – «с улицы, из зала суда, из неудачных, деморализованных семей». И теперь «только очень опытный глаз способен отличить, где старые, испытанные дзержинцы, а где новые, только что налаженные воспитанники» (Там же). Чудесное превращение начинает выглядеть еще более чудесным, когда Макаренко поясняет, что «совершенно невероятной трудности операция» была произведена в отсутствие института воспитателей, только силами самих воспитанников (Там же). В условиях постоянной ресурсной недостаточности (и финансовой, и кадровой) в глазах руководителей советских органов образования такой результат должен был выглядеть очень многообещающим.
Можно предположить – и опубликованные документы это косвенно подтверждают, – что к моменту переезда в Москву Макаренко сумел переформулировать, буквально – «транспонировать» – свою систему воспитательных принципов и организации детской колонии для использования ее в рамках средней школы, как некоторое универсальное лекарство и универсальную меру, которая могла бы заменить запрещенную и изгнанную педологию (а за ней, как показывала практика, и детскую психологию). Иначе говоря, правила и принципы, выработанные для особых закрытых воспитательных учреждений, должны были, с некоторыми сокращениями и изменениями, стать в рамках советской образовательной системы если не всеобщими, то официально поощряемыми и рекомендованными к внедрению. Макаренко не успел свести свои работы последних лет в одно обобщающее сочинение – этим занялись уже в конце 1940‐х годов его последователи, издававшие одну за другой книги о «педагогической системе Макаренко».
2
Один из главных своих воспитательных принципов Макаренко называет «принципом параллельного действия». Фактически этот принцип означает отказ от индивидуальной работы педагога с ребенком – идеи, столь настойчиво пропагандировавшейся педологами, особенно на ранней стадии развития этого движения. Макаренко же говорит: «Мы имеем дело только с отрядом. Мы с личностью не имеем дела. Такова официальная формулировка. В сущности, это форма воздействия именно на личность, но формулировка идет параллельно сущности» (Макаренко 1984: 165).
Смещение фокуса с отдельного ученика (воспитанника) на коллектив (отряд/класс, колонию/школу) и установленные в нем правила поведения и коммуникации в описании Макаренко последовательно создают взаимный контроль членов первичного (пятнадцать–двадцать человек), а потом и «большого» коллектива (до нескольких сот человек), а на следующем этапе приводят к тому, что нужные паттерны поведения ребенок способен уже воспроизводить сам, то есть владеет навыками самоконтроля. Если коллектив детского учреждения уже сложился и рутинно функционирует, то новых воспитанников нужно распределять по разным отрядам, так они «сразу попадают в сильные первичные коллективы, под перекрестное влияние и наблюдение дисциплинированных и воспитанных ребят» (Макаренко 1983: 305). Иными словами, те, кто уже усвоил и интериоризировал правила поведения и общежития, способны осуществлять внешний контроль за новичками – возможно, даже лучше, чем это делали бы воспитатели, поскольку зоркость и бдительность контролирующих обеспечена их собственным недавним трудным путем к самодисциплинированию.
Любой нарушитель установленных правил должен отвечать за свою провинность не перед воспитателем или педсоветом, а перед отрядом/классом или даже всей колонией/школой, и главным механизмом наказания становится временное или частичное лишение его права считаться полноценным членом этого коллектива: «…в наказании нет подавленности, а есть переживание ошибки, есть переживание отрешения от коллектива, хотя бы минимального» (Макаренко 1984: 158).
Выполнение правил общежития, самодисциплинирование и преданность коллективу имеют и оборотную, позитивную сторону – гарантию личной безопасности и защиты от внешней угрозы: «В коллективе должно быть крепким законом, что никто не только не имеет права, но не имеет и возможности безнаказанно издеваться, куражиться или насильничать над самым слабым членом коллектива. Прежде всего он должен находить обязательную защиту в своем отряде, классе. Поэтому и важно иметь длительно сохраняющиеся отряды» (Макаренко 1983: 318).
Для того чтобы эта система функционировала и самоподдерживалась, необходимо усиливать социальные связи внутри детского учреждения: для этого Макаренко придумывает систему шефства старших воспитанников над младшими, а также выборного самоуправления с частой сменяемостью выбранных детских руководителей, так что на должности «командиров» и «дежурных командиров» последовательно оказываются буквально все старшие и зарекомендовавшие себя воспитанники. Именно орган самоуправления (более узкий – совет командиров или самый представительный – общее собрание) рассматривает все случаи проступков и нарушений распорядка, именно он налагает наказание и следит за его исполнением. По Макаренко, нужно всеми силами сохранять авторитет детского самоуправления – даже в ущерб авторитету педагогов. При этом руководствоваться эти органы должны принципом – «ни один проступок воспитанников не должен быть незамеченным» (Там же: 294).
На вопрос о том, зачем нужны эти взаимосвязанные системы воспитания детей и организации детского коллектива, Макаренко попытался ответить в преамбуле к «Опыту…». По его мнению, советское общество будет интенсивно развиваться и на каждом этапе развития формулировать новые требования к тому, какие люди нужны будут в будущем. Но одно останется неизменным – это общество по определению будет коллективистским, то есть всегда будет состоять из больших и маленьких коллективов, жить и действовать в которых и придется гражданам будущего. Коллектив Макаренко понимает не просто как устойчивую группу взаимодействующих между собой людей, но как группу, обладающую суверенитетом, то есть ставящую общие интересы выше личных и требующую от каждого члена безусловного подчинения. Не менее важно и то, что коллектив у Макаренко – это группа, постоянно выполняющая деятельность, полезную для советского общества (Там же: 176). Воспитание детей внутри структурированного и детально регламентированного детского коллектива, во-первых, позволяет само это воспитание осуществлять максимально быстро и эффективно, а во-вторых, готовит детей к будущей коллективистской жизни, которая, по мнению Макаренко, так же как и жизнь буржуазного общества, определяется системой зависимостей – только зависимостей другого рода и иной природы.
Особую роль в этом коллективистском воспитании играют нормы, требования и упражнения, направленные на выработку дисциплины тела, культуры одежды и разговора, гигиенических практик. Макаренко настаивает на том, что этот тип дисциплинирования необходим не только для тех, кто недавно был беспризорным, ходил в лохмотьях и зарос коростой и вшами: все эти предписания – это sine qua non для каждого советского человека, так как привычка к их исполнению коренным образом воздействует на личность.
Поэтому такие большие, почти безграничные полномочия отданы у Макаренко в организационной структуре колонии Санкомиссии. Ее решения «обязательны не только для воспитанников, но и для всех сотрудников учреждения» (Там же: 280). Фактически она является проводником биополитики, определенной руководством колонии, и осуществляет контроль над телом и одеждой воспитанников, помещениями, где они живут, учатся и работают. В полномочия Санкомиссии входит проверка «состояния костюмов», включая «пуговицы, пояса, чулки, шнурки на обуви и пр.», уборка станков и рабочих мест, контроль чистоты рук и надлежащего внешнего вида при входе в столовую, наблюдение за аккуратностью в еде, качеством уборки классов, регулярностью проветривания и гигиеническими процедурами перед сном, состоянием причесок, кожи и ногтей, одежды и постели, а также оснащение умывальных (мыло, полотенце, зубной порошок и щетка) и гардеробных (обувные щетки и мазь, иголки и нитки) (Там же: 281).
Усиленное внимание уделяется содержанию уборных (Там же: 301), культуре принятия пищи9595
«Воспитательная часть должна приучать воспитанников входить в столовую без шума, без опозданий, знать свое место и точно его занимать. Не надо требовать в столовой абсолютной тишины, но нужно всегда бороться с шумом и с отдельными выкриками. Необходимо приучать воспитанников есть аккуратно и красиво, без громкого проглатывания и жевания, без жадности, пользоваться правильно ложкой, ножом, вилкой. <…> Культура еды – это очень важная область общей культуры человека – ее надо настойчиво воспитывать» (Макаренко 1983: 302).
[Закрыть], телесным практикам и отправлениям, например таким, как бросание мусора, плевание и сморкание:
Воспитанники должны приучаться бросать бумажки, окурки и так далее только в сорный ящик. Плевательницы нужны в спальнях и в больничке, в других помещениях они нежелательны. <…>
Ребят нужно приучать к тому, что для человека здорового плевать вовсе не обязательно, что привычка плевать – просто плохая привычка, либо признак больного человека. А очищать нос нужно обязательно при помощи носовых платков. Платок должен быть чистый, за этим необходимо следить (Там же: 303).
Ключевыми понятиями в этом поведенческом кодексе становятся слова «сдержанность» и «торможение»9696
«Тормозить себя – это очень трудное дело, особенно в детстве, оно не приходит от простой биологии, оно может быть только воспитано» (Макаренко 1984: 198).
[Закрыть]. Генезис второго термина неслучаен: он был ключевым в словаре исследователей физиологии поведения, и прежде всего Ивана Павлова. Тщательно прописаны и рекомендации по тому, как и сколько нужно говорить, как ходить и сидеть, как должны выглядеть одежда, прическа, аксессуары:
…важным признаком тона, признаком чрезвычайно важным, должна быть привычка торможения; руководство детского учреждения постоянно должно развивать у воспитанников уменье быть сдержанными в движении, в слове, в крике. Надо требовать соблюдения тишины там, где она нужна, нужно отучать воспитанников от ненужного крика, от неумеренно-развязного смеха и движения. В коммуне им. Ф. Э. Дзержинского коллектив запрещает воспитанникам прислоняться к стене, держаться за перила лестниц, валиться на стол, разваливаться на диване. Это торможение не должно иметь характера муштры; оно должно быть логически оправдано прямой пользой для организма самого воспитанника, эстетическими представлениями и удобствами для всего коллектива.
Особую форму торможения представляет вежливость, которую нужно настойчиво рекомендовать воспитанникам при каждом удобном случае и требовать ее соблюдения (Там же: 318).
Эти требования Макаренко считает нужным распространять «как на воспитанников, так и на педагогов». От педагогов требуется даже большее – не просто сдержанность в собственном поведении, но тщательное наблюдение над характерами и поступками детей, которое должно сперва фиксироваться, а потом анализироваться в специальном педагогическом дневнике. Макаренко специально поясняет, что «дневник ни в каком случае не должен иметь характера официального журнала» (Макаренко 1983: 320–321), а значит, он нужен не как отчетный документ и даже не как руководство для коллег, которые будут потом иметь дело с теми же детьми, но как инструмент совершенствования педагогической и психологической техники.
Наивысшей точкой развития этих сдерживающих механизмов психики, умения владеть собой становится квалификация рабочего высочайшего класса, который может быть воспитан и выращен уже в стенах детского учреждения. Известно, что колония им. Дзержинского сама построила и эксплуатировала завод, на котором выпускались первые советские любительские фотоаппараты ФЭД, требовавшие на всех этапах изготовления большой аккуратности, точности и слаженности работ в разных цехах. В своих лекциях 1938 года Макаренко вспоминает одного из воспитанников, позже ставшего врачом: «…глаз, рука и станок у него были так сработаны, что он работал, не проверяя», «в его философии и сейчас я чувствую страшное уважение к точности» (Макаренко 1984: 188).
3
Макаренко в рамках своей методики создания коллектива колонии предлагает искусственно сконструировать такую систему социальных взаимосвязей, которая в ускоренных темпах привела бы к совершению того, что Норберт Элиас в своих работах называл «процессом цивилизации». Сам Макаренко никогда не использует слова «цивилизация» и однокоренные с ним, апеллируя скорее к привычному словарю 1920–1930‐х годов, в котором расхожим выражением было «привитие навыков культурности».
Характерно, что процитированные выше работы Макаренко создавались хронологически параллельно с тем, как Норберт Элиас описывал в двух своих книгах – диссертации «Придворное общество» (1933) и монографии «О процессе цивилизации» (1939) – аналогичные процессы, происходившие с европейцами на переломе Средневековья и Нового времени. Характерно, что Макаренко уделяет внимание точно тем же приметам «цивилизованности», что и Элиас: гигиена тела, одежда и обувь, плевание и сморкание, положение тела и ходьба, естественные отправления и уборные, культура речи и снижение аффектации. Даже требование ведения педагогического дневника находит удивительную параллель с теми фрагментами «Придворного общества», где Элиас объясняет, что пребывание при дворе требовало от дворян XVII века развивать в себе искусство «наблюдения за другими», причем за другими «в общественной связи», в «отношении к другим», а затем уже – и наблюдения за самим собой. В культивировании искусства наблюдения Элиас видит генезис таких литературных произведений, как «Характеры» Лабрюйера и «Максимы» Ларошфуко (Элиас 2002: 130–131).
Это сходство представляется мне не случайным, требующим объяснений, а также поиска и восстановления общих для двух этих авторов контекстов.
В качестве первого общего контекста я предложила бы выделить социальные и антропологические изменения периода Первой мировой войны и последующих нескольких лет, пришедшихся в России на войну Гражданскую. Резкий слом быта, массовые миграции, нехватка продовольствия, пауперизация, сдвиг гигиенических норм, повальные эпидемии – все эти процессы могли засвидетельствовать и Элиас, успевший послужить и на Западном, и на Восточном фронте, и Макаренко, который сам из‐за плохого зрения пойти на войну не мог, но много успел узнать о ней от своего младшего брата Виталия, участника Брусиловского прорыва. Во время Гражданской войны Макаренко жил в Крюкове (ныне – район Кременчуга) и стал там свидетелем многократной смены власти, потоков беженцев, ужасающей нищеты – приметы первых послереволюционных лет он описывает в письмах к эмигрировавшему сперва в Турцию, а затем во Францию брату Виталию. Собственно, и наплыв беспризорных детей, и рост подростковой преступности, с последствиями которых пришлось бороться Макаренко, были результатами этих социально-экономических, антропологических и демографических изменений, затронувших и его собственные бытовые привычки и стилистические предпочтения. Виталий Макаренко вспоминал уже в начале 1970‐х:
Во всех книгах, посвященных А[нтону], среди иллюстраций бросается в глаза бедность и неэлегантность его одежды: какие-то демократические картузы, рубахи-косоворотки, дешевые шубы и пр. Но все это фотографии послереволюционного периода. До революции я всегда помню А., одетого безукоризненно: всегда у него имелось несколько приличных костюмов, такие же были галстуки, рубашки, воротнички и ботинки. В этом отношении он был большим „франтом“ и одевался в Кременчуге у лучшего портного – Казачка. Я никогда, даже летом, не видел Антона в косоворотке (до 1917 года) (В. С. Макаренко 1991).
Второй контекст, близко связанный с первым, – интенсивное восстановление быта, городской культуры и индустрии в 1920‐е годы, в Советской России связанное с политикой нэпа и одновременно с декларативным сдвигом моральных норм в новом обществе, а во всей Европе, включая и Россию, – с ростом сферы массовой культуры и развлечений и массовизацией общества в целом. На рубеже 1920–1930‐х эти процессы вызывают уже сильное беспокойство у самых чутких интеллектуалов (см. «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета, 1930, «В тени завтрашнего дня» Й. Хейзинги, 1935). Восстановление быта не могло не привести к восстановлению – но лишь частичному! – утерянных за время Первой мировой войны цивилизационных стандартов.
Третий контекст, общий для Макаренко и Элиаса, – это внимательное чтение, а затем и переосмысление работ Зигмунда Фрейда. Михаил Велижев указывает на то, что Элиас использовал и реконцептуализировал одну конкретную работу Фрейда 1930 года – «Das Unbehagen in der Kultur»9797
В русском переводе эта работа иногда называется «Недовольство культурой», а иногда – «Цивилизация и ее тяготы».
[Закрыть], в которой содержались три принципиальных положения, общие для концепций обоих авторов: «1) цивилизация понимается… в терминах психологической работы человека; 2) цивилизация выступает в роли ограничителя инстинктов и… инструмента самоконтроля; 3) …процесс цивилизации имеет двуступенчатый характер: сначала человек дисциплинирует себя под давлением власти, но затем воздействие становится элементом внутренней жизни индивида» (Велижев 2019: 125–126)9898
Об Элиасе и Фрейде см. также: (Lahire 2013; Nagbol 2013; Korte 2017: 166–171). Хорошо известно, что один из первых полученных из типографии экземпляров книги «О процессе цивилизации» Элиас послал Фрейду, сопроводив подарок дарственной надписью.
[Закрыть]. Те же закономерности можно вывести и из более ранних работ Фрейда, в том числе и тех, которые активно публиковались в переводе на русский язык в 1910‐е – начале 1920‐х годов9999
Об увлечении Фрейдом и психоанализом в России начала 1920‐х см.: (Эткинд 1993). «Недовольство культурой» не могло появиться в СССР и потому, что к 1930 году психоанализ не просто сдал свои позиции на общественной арене, но и фактически попал под запрет, и потому, что в этой работе содержалась критика коммунистической идеологии и практик большевизма.
[Закрыть], а значит, установленное сходство можно mutatis mutandis перенести и на пару «Фрейд – Макаренко».
Для нас важно, что фрейдовская концепция Супер-Эго как мощного внутреннего начала, подавляющего инстинкты, могла быть после некоторых модификаций развернута на большом хронологическом отрезке в рамках исторической социологии, как это произошло у Элиаса, а могла быть – в рамках теории воспитания и педагогики, как это мы видим у Макаренко. Однако между Фрейдом и двумя его интерпретаторами были и существенные различия: сам Фрейд считал, что вмешательство Супер-Эго в жизнь человека делает его в конце концов несчастным, Элиас пытался описывать этот процесс как амбивалентный – чреватый и потерями, и достижениями, а Макаренко, как и многие марксистские толкователи Фрейда, предполагал, что чем больше контроля и «торможения» будет в жизни человека, тем лучше.
В этом отношении у Макаренко был один авторитетный предшественник, настойчивые попытки которого соединить психоанализ с марксизмом и рефлексологией он никак не мог обойти вниманием в начале 1920‐х годов. Речь идет о Льве Давидовиче Троцком100100
О Троцком и Фрейде см.: (Эткинд 1993: 269–310).
[Закрыть].
Один из изобретателей и пропагандистов концепции «культурности», Троцкий определяет ее именно через переход внешней дисциплинированности в дисциплинированность внутреннюю, объясняя его последующим отмиранием государства. Но понятно, что этот переход можно было осуществить, и не имея в виду столь утопической цели:
Культурность есть в то же время внутренняя дисциплина. Если мы говорим, что по пути к полному социализму и коммунизму государство, как аппарат принуждения, постепенно отомрет, то этим самым мы говорим, что необходимая для нового общежития дисциплина из внешней целиком станет внутренней, перейдет в общественную культурность каждого отдельного гражданина (Троцкий 1924).
Троцкий считает необходимой такую трансформацию сознания советских людей, которая позволила бы изжить из него все устарелые, «домостроевские» идеи (Троцкий 1923а), но путь освоения культурности, по его мнению, лежит не через простое переубеждение или просвещение, а через дисциплинирование в сфере самых мельчайших бытовых навыков и привычек. Без него – создание нового советского человека будет невозможным:
Требование, чтобы на лестницах и в коридорах не плевали и не бросали окурков, есть «мелочь», мелкое требование, а между тем, оно имеет огромное воспитательно-хозяйственное значение. Человек, который походя плюет на лестнице или на пол в комнате, – неряха и распустеха. От него нельзя ждать возрождения хозяйства. Он и сапог не смажет, и стекло вышибет по невниманию, и тифозную вошь занесет… <…> Неопрятное бросание окурков есть неуважение к чужому труду. А кто не уважает чужого труда, тот и к своему собственному относится недобросовестно. <…> Тот, кто молча, сторонкой проходит мимо таких фактов, как проплеванная лестница или загаженный двор, тот плохой гражданин, тот негодный строитель» (Троцкий 1921).
От Троцкого, по-видимому, идет у Макаренко и ориентация на образ «делового» человека и деловой стиль общения (Макаренко 1984: 199).
Опубликованные документы из архива Макаренко не содержат никаких свидетельств чтения работ Троцкого в первой половине 1920‐х годов (если бы такие свидетельства и были, логично предположить, что уже во второй половине 1920‐х, с началом репрессий в отношении троцкистов, он постарался бы их уничтожить).
Однако мы знаем, что осенью 1922 года Макаренко проводит несколько месяцев в Москве на курсах Центрального института организаторов народного просвещения им. Е. А. Литкенса. Он собирается обобщить там результаты своей двухлетней деятельности в колонии для несовершеннолетних и, ходатайствуя об этой командировке перед Наркомпросом Украины, следующим образом объясняет текущие задачи, стоящие перед советскими социальными науками: «…пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм» (Хиллиг: Л. 69)101101
Этот фрагмент, по словам Г. Хиллига, был выпущен при всех публикациях письма Макаренко в советских изданиях; Хиллиг восстанавливает его по рукописи и приводит в русском варианте своей монографии.
[Закрыть].
Этот интерес Макаренко к связи психологии и социологии (идущий, скорее всего, от Льва Петражицкого, чьей концепцией тогда увлекался молодой педагог) заставляет обратить внимание на важное совпадение. В те же месяцы осени 1922 года, в которые Макаренко был в Москве, Троцкий начал публиковать в «Правде» цикл статей, из которого позже выросла книга «Литература и революция» (1923); статьи вызвали большой резонанс и не могли не привлечь внимание Макаренко. В книге Троцкий предсказывал будущее человека как биологического вида, предполагая, что главная задача человека при коммунизме – овладеть своим бессознательным и подчинить его контролю разума:
Человек примется, наконец, всерьез гармонизировать самого себя. Он поставит себе задачей вести в движения своих собственных органов – при труде, при ходьбе, при игре – высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. <…> В наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? (Троцкий 1923б: 197).
Эта смысловая связка – «высшая отчетливость… и тем самым красота» – довольно близка к тезисам теоретических работ Макаренко 1930‐х годов.
4
Какие новые, не замеченные ранее характеристики доктрины Макаренко открывает нам сопоставление ее с концепцией «процесса цивилизации» у Элиаса, на какие компоненты мы начинаем обращать все более пристальное внимание?
Во-первых, на то, что можно было бы назвать «менеджментом эмоций». В заключительной главе «Процесса цивилизации» он настаивает на том, что постепенное внедрение «рацио» и самоконтроля стали возможными потому, что люди захотели минимизировать уровень насилия в обществе, дабы гарантировать себе и другим безопасность. Однако страх – ключевая эмоция, порожденная циркуляцией насилия – не пропал вовсе. Он оказался заменен и перекодирован сложной системой запретов и предписаний, нарушение которых прямо или косвенно открывало бы дорогу к возвращению насилия, и особенно плотно эта система запретов реализуется при воспитании детей. Ребенок в наибольшей степени подвержен разного рода страхам, поскольку его постоянно ставят лицом к лицу с разного рода запретами и предписаниями. «Страхи так трансформируют пластичную душу ребенка, что, подрастая, он начинает вести себя в соответствии с имеющимися стандартами, независимо от того, вызываются ли его страхи прямой угрозой физического насилия, лишениями, ограничениями в питании или в удовольствиях» (Элиас 2001: 2, 322). Следовательно, историку или социологу принципиально важно разглядеть страх, стоящий за разного рода дисциплинарными практиками, гарантирующими субъекту безопасность в случае выполнения предписаний и запретов.
И здесь целесообразно было бы задать вопрос о том, как эмоция страха оказывается вплетена в педагогическую систему Макаренко, как перекодирована – и чем скомпенсирована или закамуфлирована102102
Сам Макаренко публично отрицал страх как неэффективный элемент воспитания, который никогда не порождает авторитета того субъекта, который становится источником этой эмоции (см.: Макаренко 1985: 243). Однако его воспитанник и последователь Семен Калабалин говорит о том, что провоцирование страха (через искусственно вызванные «взрывы гнева») могло быть у Макаренко одним из способов воспитательного воздействия, пока у подростка не пробуждалось «сознание» (Калабалин 1960: 70). Сам Макаренко неоднократно говорил о том, что педагог, пользуясь актерской техникой, должен уметь «разыграть» гнев, чтобы указать воспитуемым на недопустимость определенных поступков, – но понятие «страх» он в этих случаях намеренно не использовал.
[Закрыть]. Если основываться на теоретических положениях, выдвинутых в работах 1930‐х годов, а также на примерах из жизни двух колоний, которые Макаренко последовательно возглавлял, то можно увидеть, что главная гарантия – свобода от физического насилия со стороны сверстников – прописана в этой системе очень четко. Однако этот принцип выполняется только в случае, когда воспитанник находится внутри колонии, не исключен из нее (а мы знаем, что в практике обеих колоний бывали случаи исключений и изгнаний). Помимо этого, основного рычага, были и несколько дополнительных «бонусов», которые воспитанники могли получать исключительно или почти исключительно в макаренковских колониях, особенно в материально благополучной колонии им. Дзержинского, и едва ли получили бы в других заведениях для беспризорных: высокий уровень бытового обеспечения (коммунальные удобства, одежда, питание), возможность получать карманные деньги во время увольнительных и отпусков, возможность закончить среднюю школу полного цикла, стипендиальные выплаты для выпускников, поступавших по окончании колонии в вузы… Но особое внимание стоит обратить именно на эмоциональную компенсацию, то есть на те пассажи, в которых Макаренко настаивает на акцентировании эстетической составляющей коллектива, его стиля: красоте строя марширующих колонистов, чистоте и единообразии их костюмов, воодушевляющей музыке, которую исполняет духовой оркестр. Не случайно массовый прием новых воспитанников – из числа отловленных беспризорников – всегда осуществлялся, по сценарию Макаренко, встречей их на вокзале – всем составом колонии, военным строем, при «полном параде» и с оркестром, уничтожением всех внешних примет прежней беспризорной жизни – грязи на теле, старой прически и, конечно, одежды, а затем и облачением в чистый и аккуратный коммунарский костюм.
Макаренко многократно произносит слова «бодрость» и «мажор», характеризуя общее настроение, которое должно поддерживаться у воспитанников. Если внести в общую схему организации межличностных связей не только элиминирование насилия, о котором пишут и Элиас, и Макаренко, но и перекодированный страх, присутствие которого подтверждает Элиас, а Макаренко упорно отрицает, то можно увидеть следующую причинно-следственную цепочку: насилие в детских исправительных учреждениях и среди беспризорников, находящихся «на улицах», → гарантии безопасности в колонии при условии соблюдения правил жизни коллектива и под угрозой изгнания из него в среду, пораженную насилием, → эстетизация коллективной жизни и эмоциональная возгонка как одновременно результат дисциплинирования и компенсация того внутреннего напряжения, которое порождается дисциплинированием и страхом изгнания.
Второе свойство педагогической доктрины Макаренко, которое становится особенно заметным при сопоставлении ее с концепцией Элиаса, – ее радикальный конструктивизм и связанный с конструктивизмом редукционизм. Там, где Элиас демонстрирует масштабные исторические процессы, разворачивавшиеся в течение столетий и постепенно создававшие разнородные фигурации, ставшие основой внешнего самодисциплинирования, Макаренко говорит об обозримом периоде длиной в несколько лет. Там, где Элиас настаивает на том, что переплетение множества планов, проектов, сознательных и неосознанных действий создали «специфический порядок, наделенный большей принудительной силой и более могущественный, чем воля и разум отдельных людей, его создающих» (Элиас 2001: 2, 238), Макаренко уверен в том, что правила взаимодействий внутри детского коллектива можно, продумав, раз и навсегда зафиксировать, – и тогда, если система межперсональных зависимостей была правильно рассчитана и регулярно приводится в действие, можно будет вскоре пожинать добрые плоды этих нововведений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































