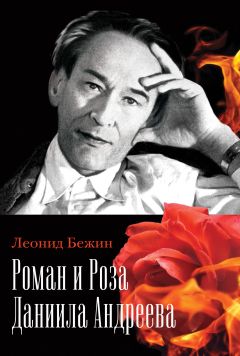
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Глава 38
Туфельки парчовые
На Имар были парчовые туфельки без задников, и ступала она мелкими шажками, чтобы они не спадали. Женщина, сунув ноги в туфли, слегка семенит – такие мелкие шажочки, иначе спадут, не удержатся на ногах туфельки. В этой детали, удивительно тонко подмеченной, вся Имар. Гибкая, крадущаяся, как кошка, и ускользающая. Обольстительная. Влекущая. Гибельная. И Олег добровольно вернулся туда, где раскинуты ее незримые сети. Покорился, сдался. Осознав, что соперница побеждена, она усмехнулась добродушно и покровительственно, прошуршав к туалетному столику, неторопливым движением отколола свои косы, заложенные вокруг головы. Эта сцена в романе описывается так:
«Он угадал: очевидно, она действительно уже легла, потому что, отворяя ему дверь квартиры на осторожный звонок его, оказалась в памятном для него бухарском халатике, фиолетовом с желтыми разводами. И когда, улыбнувшись ему исподлобья, она протянула ему руку гибким движением, он эту руку, как и всегда, поцеловал.
Угадал он и остальное: комната была уже приготовлена на ночь, лампа под пунцовым абажуром придвинута к изголовью, чистая постель постлана и уже слегка смята, а поверх одеяла брошены две книги: одна – с захлопнутым переплетом – том Маяковского, другая – раскрытая, очередная литературная новинка, “Лже-Нерон” Фейхтвангера[113]113
Фейхтвангер, Лион (1884–1958) – немецкий писатель еврейского происхождения. Один из наиболее читаемых в мире немецкоязычных авторов. Работал в жанре исторического романа.
[Закрыть].
– Хочешь поужинать?
Нет, он не хотел. Он вообще не хотел никакой суеты, ничего хлопотливого. Как он был доволен, что застал ее вот так, без посторонних, без оформительского хаоса в комнате, без разговоров об общих знакомых, о сельскохозяйственной выставке, о театре. А она остановилась посреди комнаты, глядя на него исподлобья узкими татарскими глазами. Горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье.
Вглядевшись в него и что-то как бы поняв, она усмехнулась еще раз, добродушно и покровительственно одновременно, и прошуршала в глубину комнаты, к туалетному столику. Ступала она мелкими шажками, чтобы не спадали туфельки, изящные, парчовые, без каблуков и без задников.
Олег опустился на диван и закурил толстую папиросу. Имар отразилась анфас, в профиль и еще раз анфас, осененная огромным букетом мимоз перед трельяжем, и неторопливым движением отколола свои косы, не очень длинные, но цветом напоминавшие черную реку с лунными отблесками».
Понятно, почему Маяковский: признан лучшим и талантливейшим, вот и печатают его томами собраний сочинений. Также понятно, почему среди литературных новинок тридцать седьмого – Фейхтвангер, потому что он одобрительно отозвался о вожде. И как он чувствуется, этот тридцать седьмой, во всем: в разговорах об общих знакомых (кого еще недавно взяли? Вполголоса, с оглядкой по сторонам назвать и сразу – т-ссс, молчок), о сельскохозяйственной выставке (!) и, конечно, о театре (об этом можно смело!), о Тарасовой, о «Днях Турбинных», «Иване Сусанине», Лемешеве и Козловском!
Мастерски выписанная сцена! И сколько было таких сцен в романе, потерянном для русской литературы двадцатого века! А ведь мог бы встать рядом с Булгаковым, Пильняком, Пастернаком, если б не сожгли…
Итак, Олег остается с Имар, она может торжествовать и тайно, и явно. Побеждена соперница, эта гордячка Ирина Глинская, и Олег в ее власти. Теперь надо только, чтобы он пореже задумывался, вспоминал о прошлом, уносился в мыслях туда, на Якиманку. Надо постоянно быть у него перед глазами, в разных позах, с задумчиво (ей-то как раз позволено задумываться) склоненной головой, с рукой, подпирающей подбородок, сидя с гребенкой у зеркала. Или встать, забросить руки за голову, потянуться с кошачьей ленцой и грацией: пусть смотрит, пусть любуется. И надо ему угождать, но так, чтобы он сам себя чувствовал покровителем и угодником Имар, исполнителем ее капризов и прихотей. И не вспоминал, не вспоминал о той…
С Ириной Олег, конечно, встретился, объяснился, сбивчиво, запинаясь, пряча глаза, натянуто улыбаясь, бормоча какие-то извинения. Она выслушала спокойно, даже сама удивилась своему спокойствию. Откуда оно взялось? Ведь до этого, когда поняла, с беспощадной ясностью осознала, что он не придет, разорвал, бросил, почувствовала себя уязвленной, обиженной, оскорбленной, а теперь оба сошлись на том, что, наверное, так лучше. Замечательное утешение! Замечательная фраза! И как мудро это звучит: наверное! Значит, до конца они не уверены. В душе остается место для сомнений… Это щадит самолюбие и позволяет сохранить благодарность друг другу за все хорошее. О, изумительно!
Они простились навсегда, и в этом тоже была поза и была фраза. Фразы, фразы или, как там у Гамлета, слова, слова, слова. Олег не может без слов, ведь он поэт. Как-то последнее время она стала об этом забывать, а напрасно, ведь поэтам многое прощается. Они ребячливы, самолюбивы, заносчивы и иногда даже противны.
А вот брат у него астроном, старший брат Адриан Горбов… м-да… почему она об этом вдруг подумала? Зачем ей об этом думать?! Ни к чему совершенно!
Глава 39
Самоубийство
Они встречались, Имар постоянно была рядом, перед глазами Олега, чтобы он смотрел только на нее, думал только о ней. Она предупреждала любую попытку иной задумчивости, не позволяла ему отвести глаза, спрятаться, юркнуть в норку, вставала перед ней, этой норкой, лукаво расставив руки – вход закрыт!
Если ему все же удавалось втиснуться и Имар замечала, что он думает не о том, то она тормошила его, не давала ни на минуту сосредоточиться, засмеивала, щекотала под ребрами (он боялся щекотки), старалась чем-то посторонним увлечь или, на худой конец, увезти. Да, если ничего не помогает, надо увозить. Так она стала звать его в Грузию, глядя на него исподлобья своими узкими татарскими глазами и с вкрадчивой настойчивостью повторяя: «Ты ведь не видел весны в Грузии, дорогой! О, весна в Грузии, ты только представь, как это великолепно! После мглистых, пасмурных, затяжных дождей и мокрого снега, холода и промозглой сырости (брр!) начинает волшебно проясняться. Воздух прогревается, становится суше, звонче, прозрачней, небо – сплошная синева, бирюза, увитая легкой дымкой облаков, до головокружения бескрайняя и бездонная. Солнце нежно припекает, к полудню становится жарко, хотя старухи не снимают своих пальто, кофт и кацавеек.
В горах чернеет, оседает, тает скопившийся за зиму снег, и по склонам бегут… что, что? Скажи же! Ну, ручьи! Конечно, ручьи, веселые, воркующие и звенящие, а не такие мрачные и угрюмые, как ты! Это потому, что ты не был в Грузии, дорогой! Там ты станешь совсем другим! Мы снимем домик с верандой, увитой виноградом, будем бродить босиком, как твой брат Саша, покупать на рынке свежую, с капельками влаги зелень, овечий сыр и горячий лаваш, по-дикарски разрывая его зубами.
Будем пьянствовать, пить грузинские вина! Грузия весной – это рай! Ты ведь не видел, не видел весны в Грузии!»
Слушая ее, Олег, казалось, и сам оттаивал, смягчался, угрюмость с него спадала. Он снисходительно улыбался, отчасти разделяя ее восторги, и она ждала, что он наконец согласится, скажет: вот, мол, собираем вещи и едем! Но вместо этого он произнес фразу, которой придавал какое-то свое, ускользающее от нее, невнятное значение, Имар же она только разочаровала и даже обидела: «Я многого не успел повидать, Имар».
Она ему о весне в Грузии, о домике с верандой, о припекающем солнце, о бездонной синеве, а он – многого не успел повидать. Ну, так еще успеешь, вся жизнь впереди!
Вместе, вдвоем – как он этого не понимает! Но не понимала на самом деле она, не могла понять, не догадывалась, какие он вынашивает планы. Если б догадалась, вскрикнула бы и застыла с перекошенным от ужаса лицом, а затем потянулась бы дрожащей рукой, тронула бы его лицо, прикоснулась к щекам и лбу. Олег, ты решился на это? Но, повторяем, Имар не догадалась.
А Олег решился. Решился не сразу, после долгих сомнений, метаний, душевной борьбы. Следы этой борьбы сохранились в стихотворении. Оно написано ночью, в мучительную минуту, когда Олег взывал к Господу, вымаливая у Него защиты от падений, от попыток ничего не видеть и не слышать, спрятаться за оградой жалкого уюта, благополучия, семейного счастья; от дымящейся по оврагам мглы свершающихся войн и бедствий; от последней пули, пущенной в лоб.
Без небесных хоров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу…
Боже! Не от смерти – от падений
Защити бесправную судьбу.
Чтоб, истерзан суетой и смутой,
Без любви, без подвига, без сил,
Я стеной постыдного уюта
В день грозы себя не оградил;
Чтоб, дымясь по выжженным оврагам
И переступая чрез тела,
Мгла войны непоправимым мраком
Мечущийся ум не залила;
Научи – напевы те, что ночью
Создавать повелеваешь Ты —
В щель, непредугаданную зодчим,
Для столетней прятать немоты.
Помоги – как чудного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.
Если же пойму я, что довольно,
Что не будет Твоего гонца,
Отврати меня от добровольной
Пули из тяжелого свинца.
Но все-таки, все взвесив, оценив в своей жизни, он вынес себе последний приговор. За что? За измену своему призванию, за разрыв с Ириной, за сознательное служение злу, на путь которого он встал, вернувшись к Имар, за то, что не любил – ни Ирину, ни Имар, ни самого себя. И не просто не любил – упивался этой нелюбовью, этой холодностью, торжествующим безразличием к той, кому дарил кощунственные ласки…
Сонь улиц обезлюдевших опять
туманна…
Как сладко нелюбимую обнять,
как странно.
Как сладостно шептать ей в снеговой
вселенной
Признаний очарованных весь строй
священный,
Когда-то для возлюбленной моей.
Когда-то,
Так искренне сплетенный из лучей,
так свято…
Глаза эти, и косы, и черты,
и губы
Не святы, не заветны для мечты,
не любы,
Но – любо, что умолкла над судьбой
осанна…
Кощунствовать любовью и тобой
так странно.
Закрывшись в комнате, Олег деловито занялся необходимыми приготовлениями. С чего начать? Прежде всего уничтожить письма, дневники, записки на случайных листках бумаги, чтобы никто потом не рылся, не сличал, не вычитывал из них то, что могло бы стать причиной, приведшей к этому шагу. Олег разорвал всё на клочки и сжег в пепельнице, наслаждаясь трогательным зрелищем того, как его чувства и мысли, исповеди и признания последних лет улетучиваются дымком ввысь, становятся синеватой горсткой пепла.
А вот и тетрадь со стихами, заветная, труд долгих лет, плод бессонных ночей (подержал на ладони, попробовал на вес). Что, и ее тоже? Олег закрыл глаза и стиснул зубы, издав некое подобие стона. Нет, он не в силах. Ему легче уйти самому, только бы осталась тетрадь… И она осталась (бережно положил на стол).
Теперь приступить к главному. Спрятанный в столе, среди бумаг, револьвер, пуля из тяжелого свинца, вставленная в гнездо барабана, – это именно стихи, поэтические красоты, как говорится, а в жизни все проще – обычная веревка. Хорошо хоть не бельевая, а то было бы совсем буднично и прозаично. Толстая, пеньковая, вот она, припасена. Он сделал петлю и просунул в нее голову, примерил, как обнову – годится. Теперь веревку надо привязать к потолку, да покрепче, чтобы не оборвалась, а то получится водевиль. Водевильчик, знаете ли, этакий. Буффонада. Олег забрался на шаткий стул, выпрямился, стараясь сохранить равновесие. В потолке был крюк, на котором когда-то висела люстра, затем лампа под абажуром, а потом… ничего не висело, всё собирались купить и повесить (он обходился настольной лампой).
Не надо ничего вешать, а надо по-ве-сить-ся. Возвратная частица! Она все возвратит на свои места. Олег привязал к крюку веревку и подумал с трезвой основательностью, какая необходимая вещь эти крюки, архитекторам их надо вносить в проекты всех новых зданий, чтобы вешать на них лампы. Или вешаться. Или – или.
Комната сверху показалась ему странно изменившейся, словно не его, а чужой. Будто и не прожито в ней столько лет. Какая-то незнакомая комната, и он в ней – посторонний. Собственно, его уже и нет. Унесся ввысь синеватым дымком. Раньше он сидел за столом, что-то писал в свою заветную тетрадь, а теперь не сидит и не пишет. Задумчиво смотрел в окно, подбирал рифму к стихам, а затем снова писал – и вот уже не смотрит… и никогда не посмотрит. И окна – нет.
От этой мысли Олег вздрогнул, и собственная смерть показалась ему каким-то странным и мучительным недоразумением, которое вдруг так легко разрешилось. Смерть? Да что вы, бог с вами, не надо никакой смерти. И веревки никакой не надо. Это недоразумение, ошибка. Кто-то из малодушия решил покончить с собой, а этого совсем не требуется. Просто надо сжечь тетрадь, которую он так не хотел сжигать. Не хотел, а надо сжечь. Вот в чем спасение. В ней его срывы, измены и кощунства – все худшее, что висло на нем тяжким грузом, опутывало, словно паутина, поэтому надо сжечь… и вырваться. Вырваться и начать все заново. И самому стать новым.
В тот день Олег уничтожил тетрадь со стихами. Сжег ее уже не с неким подобием стона, он не смог сдержать слез, разрыдался, словно над родным дитем, любимым ребенком, приносимым в жертву. И спичка все соскальзывала, срывалась с коробка: рука дрожала…
Обо всем, что случилось, никому не сказал ни слова. С Имар расстался навсегда.
Глава 40
Венечка
И тут появляется четвертый из братьев, словно бы непризнанный, незаконный, изгнанный из круга, но не рожденный от уличной побирушки, как Смердяков (некая параллель с Карамазовыми прослеживается в романе), а двоюродный. Да, двоюродный брат Горбовых, Венечка Лестовский, совершенно ничтожный, жалкий, ютится в голой комнатенке с желтыми обоями, бранится с соседями на кухне, занимается какой-то скучной дребеденью. По натуре же – низкий, скверный и пакостный. Смердяков!
К тому же он был ужасно некрасив, маленький, худенький, с острыми локтями и торчащими лопатками, но, что примечательно, во внешности его при этом угадывалось, распознавалось некое подобие красоты, какой-то даже жгучей. Вот словно бы взяли красавца и сузили, сплющили, исказили, но нечто от него все равно осталось, и это оставшееся нечто – Венечка.
И этот-то отталкивающе, безобразно красивый Венечка страстно влюблен в Ирину Глинскую, влюблен до дрожи, до вожделения. Разумеется, она его даже не то чтобы отвергает (он этого недостоин), а брезгливо не замечает. Словно крадущаяся тень, он неотступно преследует Ирину и следит за каждым ее шагом: из-за угла дома, из-за деревьев бульвара, из-за темной, массивной, застекленной двери подъезда. Спрячется и вновь появится. Отпрянет и снова выглянет. Соглядатай! Один из множества: «нас тьмы и тьмы, и тьмы»[114]114
Из стихотворения Александра Блока «Скифы» (1918).
[Закрыть]. Человек человеку теперь не друг, а соглядатай.
Ради этого он даже уволился со своей жалкой и скучной работы. Отныне эта слежка – его единственная отрада, упоение, восторг, экстаз. Он вбирает ноздрями флюиды, воздушные токи, вызванные движением легкой фигуры Ирины, развевающимся шарфом, распахнутыми полами плаща, жадно ловит запахи ее волос, надушенной подкладки перчаток, сладострастно обоняет, смакует каждый оттеночек. И Венечке кажется, мнится, что, преследуя ее, он (о, восторг!) обладает ею…
И вот во время своей неусыпной слежки стал Венечка кое-что замечать… и догадываться: такой, знаете ли, вкрадчивый, знобкий холодок догадки… Какие-то странные встречи Ирины с людьми, не настолько ей близкими, чтобы уделять им такое внимание… Скажем, этот чудаковатый, взлохмаченный, очки на носу… Или этот русоволосый и сероглазый… Этот… Этот… Обрывки фраз, произнесенных вполголоса… значительные выражения лиц… Все это наводило на мысль, которая его сначала испугала, ужаснула, он отшатнулся, шарахнулся, остолбенел, а затем возликовал и восторжествовал, потирая влажные, вспотевшие ладони.
Ор-га-ни-за-ци-я! Да, подпольная организация, возглавляемая Леонидом Федоровичем Глинским. Можно назвать и рядовых членов, так сказать, ближайшее окружение: архитектор Женя Моргенштерн, поэт Олег Горбов, его брат Саша, археолог, а главное – Адриан Горбов, с которым Ирина встречается особенно часто. Замечено, что она бывает у него в обсерватории, он провожает ее вечерами через Каменный мост на Якиманку, поднимается наверх в мезонин по шатким ступеням. В комнате Ирины до полуночи горит окно, а на занавеске движутся две тени… Обсуждают! Планируют покушения и диверсии! Вот она и попалась, вляпалась, голубушка! Сообщница!
Теперь она полностью в его власти. А что может быть слаще власти над той, которая тебя откровенно презирает!
Уважительно, с достоинством, в самых изысканных выражениях Вениамин пригласил Ирину к себе. Просим оказать честь своим посещением. Конечно, она отказалась, возмутилась (что он себе позволяет!), дернула плечиком, но он сумел намекнуть и убедить. Мол, ему кое-что известно, имеются кое-какие сведения, наблюдения, улики. М-да…
Тут она сразу притихла, побледнела и согласилась. В назначенное время пожаловала к нему, позвонила четыре звонка. Венечка тотчас же открыл, словно поджидал за дверью, проводил ее сумрачным коридором коммунальной квартиры, разделенным на сектора (в каждом – своя лампочка), с сундуками, тазами и старым велосипедом в комнату. «Извините, что у нас так бедно, пусто, голо: не обзавелись обстановкой. Присаживайтесь. Может быть, чаю?»
Не снимая плаща, Ирина села на единственный стул и даже не оглянулась по сторонам.
– На что вы там намекали? Какие улики?
Значит, приготовилась к разговору, сейчас будет отрицать, опровергать, приводить неотразимые аргументы. Но и он тоже подготовился: р-раз – и сразу весь списочек, поименно: Леонид Федорович, Женя Моргенштерн, братья Горбовы. С указанием времени и места. Не отвертишься. Голос у нее сразу упал, ослабла, сникла.
– Чего вы хотите?
Тут Венечка то ли произнес, то ли немо прошептал, то ли не сумел выговорить и лишь мимикой изобразил слово – ультиматум. Ирина толком не разобрала, досадливо поморщилась (морщинки набежали на чистый лоб). Какой еще ультиматум? Венечку лихорадило, но он все-таки взял себя в руки: момент обязывал. Теперь он четко и раздельно произнес (именно произнес), что он ставит Ирине ультиматум: либо она (тут он прокашлялся, горло засаднило) проведет с ним ночь, либо список со всеми фамилиями будет передан на Лубянку. Венечка не сказал, что он передаст, а именно что будет передан. Так внушительнее. Строже и официальнее.
Ирина чувствует себя внутренне взбешенной: какой негодяй! Она полна презрения к этому ничтожеству, доносчику, сексоту, но вслух презрение не высказывает. Бегающие глазки Венечки только и ждут, подталкивают, провоцируют: выскажи, выскажи, как ты меня презираешь и ненавидишь, и моя власть над тобой только усилится, а ты уже не вывернешься, не спасешься. Ирина молчит… затем спокойно, сухо и твердо, откинув золотистые волосы, просит дать ей время подумать. Венечка – сама любезность, само великодушие – конечно же дарует ей отсрочку.
– Думайте, Ирина Федоровна, сколько вам понадобится, решайте, только не слишком морщиньте ваш лобик и будьте уверены: мы со своей стороны даем полную гарантию. У нас свои понятия о порядочности (мы хоть и воры, но честные), и мы вас заверяем, что до вашего решения не предпримем никаких действий. Не поддадимся искушению, так сказать…
По дороге домой Ирина перебирает в уме всех, кого назвал Венечка, и обнаруживает в этом перечне спасительный пропуск. Это кажется невероятным, похожим на чудо, но по каким-то неведомым причинам Венечка упустил Василия Михеевича Бутягина, историка и библиотекаря, одного из их группы. То ли недосмотрел, недоглядел, то ли она последнее время редко с ним встречалась, но это шанс, единственный шанс на спасение.
Ирина звонит Бутягину в библиотеку и просит срочно приехать. Голос в трубке, спокойный, чуть приглушенный, не допускает возражений, и Василий Михеевич, отложив все дела, заполошно спешит на Якиманку. Запыхавшийся, взмокший, он уже в ее комнате. Уф, дайте отдышаться. Вытирает платком покатый лоб. Что случилось?
В подробностях ничего не объясняя (нет времени, дорога каждая минута), Ирина лишь сообщает, что их выследили, им грозит арест, и передает ему компрометирующие записи, бумаги, документы. Спрячьте! По счастливому стечению обстоятельств о вас им ничего не известно.
Бутягин, необыкновенно серьезный, взволнованный, преисполненный сознания значимости своей роли (он чувствует в себе нечто героическое), все уносит в портфеле, крадучись спускается по лестнице вниз, толкает дверь. Возле дома Глинских прохаживается некто, безучастно поглядывая по сторонам. Когда Василий Михеевич шел сюда, никого не было, и вот на тебе. Неужели слежка?
Бутягин вдруг похолодел (героическое с него сразу сошло), половина лица онемела, показалось, что галстук сдавил шею, не хватает воздуха, и рука с портфелем не своя. Сейчас остановят. Что сказать? Портфель. Выронить, бросить? Отшвырнуть ногой?
Все-таки чудовищным усилием воли он заставил себя успокоиться. Неторопливо, степенной походкой (приятный вечерок, мол, прогуливаемся) направился к Крымскому Валу. Внезапно нахлынула толпа, Василия Михеевича обступили, чубатые лбы, начищенные мелом тапочки и блузки со шнуровкой, – дружина Осоавиахима. И тут он крутанулся, метнулся, юркнул куда-то, пригнув голову, и – неслыханная удача! – оторвался от слежки. Исчез, пропал, канул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































