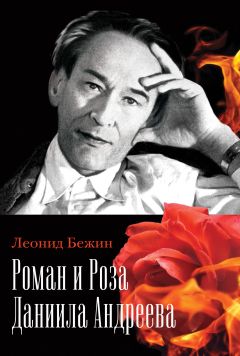
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Глава 44
Безумие Венечки. Ночной переполох
Вениамин Лестовский был уверен, что все произойдет именно так, как он задумал и рассчитал в своем взвинченном, воспаленном мозгу. У Ирины нет выхода, она прижата к стенке, возглавляемая ее братом подпольная группа раскрыта, ему известны имена и адреса, поэтому она примет ультиматум и, покорная, явится к нему. Ну, может быть, денька два потянет, поломается для приличия, для соблюдения этикета, а затем послушно явится. Наверняка начнет с того, что будет взывать к остаткам благородства в его душе, умолять не сообщать на Лубянку о тех, кого он выследил.
Да, он согласен не сообщать, но есть условие. Как же это мы забыли! Она должна непременно выполнить его условие. Тут Ирина, конечно, скажет, изречет, театрально воскликнет (вторая Ермолова!), что не любит его, а любит другого, и зачем ему такой ценой?.. А он согласен и на такую цену, он не гордый, вернее, он-то как раз и гордый, чудовищно гордый, потому что он любит, изнывает от любви. Не она, а он выстрадал, вымучил свою любовь и поэтому заслужил. Заслужил законной и желанной, страстно желанной награды и не откажется от нее, несмотря на весь ваш ермоловский театр.
Так он все себе представлял, рисовал в своем взвихренном воображении. Но время шло, а Ирина не являлась. Венечка сначала сердился, мстительно суживал глазки, грозил, распалялся. Ах, раз так, он немедленно идет на Лубянку! К черту все обещанные им гарантии! Они сами его вынудили, заставили, подтолкнули! Но затем он забеспокоился и – человек-то очень мнительный, внушаемый, нервный – уже не мог с собой справиться: затрясла его лихорадка. Где Ирина?! Что с ней?! Стал звонить, окольными путями выведывать, разузнавать у знакомых – ничего. Тишь. Прозрачное зеркало вод. Зерцало! Ни всплеска.
Тогда он крадучись, бочком, воровскими шажками засеменил на Якиманку, чтобы глянуть, зыркнуть, нюхнуть, как он сам говорил, не пахнет ли гарью. И там по каким-то неуловимым признакам, флюидам, разлитой в воздухе угнетающей истоме, некой особой тусклости окон в мезонине Глинских, постному выражению лиц соседок, сидевших на лавочке, понял. Понял все до конца, и его словно ужалило: арестовали! арестовали брата! – Леонида Федоровича Глинского!
Вениамин шарахнулся, заметался, и в голове началось безумное кружение, адский вихрь, хоровод мыслей. Если по ходу следствия всплывет его имя, могут и привлечь, арестовать за недоносительство. Как же быть? Что же, спрашивается, делать-то? Все-таки пойти на Лубянку? Нет, он не пойдет и сохранит в себе остатки благородного человека! Значит, не ходить? Нет, то есть… Спрашивается… Что же, что же?!
Была синяя весенняя ночь. Венечка Лестовский сходил с ума. В метаниях, шараханьях, блуждании по Москве под янтарной луной, его занесло на Воздвиженку, где в коммунальной квартире жил архитектор Женя Моргенштерн. Венечка его знал. Вернее, он абсолютно не понимал, зачем ему Женя. Ах, господи, зачем же он ему понадобился, этот Моргенштерн? Знал или не знал? Знал, что ничего не знал. Или не знал, что знал? Моргенштерн – это утренняя заря или звезда. Сумасшествие! Моргенштерн – это сумасшествие!
Венечка стал звонить в дверь наобум, во все звонки. Этот – этот – этот. Тык – тык – тык. Ему открыла мать Жени, седенькая, сгорбленная, со свечой в руке (огонечки прыгали в стеклах очков), а за нею возникло то, что в смятенном, кренящемся сознании Венечки запечатлелось как размытое пятно: разбуженная ночью квартира, сумрачные недра коридора, исчерченного зигзагами света из щелей, углы каких-то шкафов, вещей, велосипедные колеса, испуганные лица, шорохи, шепот, мышиная возня. Что-что-что? К кому? За кем?
«Здравствуйте, ради бога извините, что я разбудил… я друг вашего сына, он мне срочно нужен. Пожалуйста, очень срочно. Я должен ему сказать, что Ирина… м-м-м… что я был там. Ну, знаете, там… И Леонид Федорович… Леонид Федорович такой-то, ему известный, Жене, вашему сыну… Леонида Федоровича там нет! Поэтому пусть ваш сын туда больше не ходит. Ну, туда… Что-то я стал заговариваться. Вот и руки дрожат, смешно. Почему-то у меня дрожат руки. Так зачем я сюда пришел? М-м-м… дай бог памяти. Да, пусть не ходит. Он, ваш сын, Женя. Позовите его. Ах, Жени нет дома! Ой-ой-ой! Нет дома, вы сказали. Да, это вы сказали, я этого не говорил. Я вообще ничего не говорил. Я нем как рыба. Тысячу извинений, тысячу извинений. Я удаляюсь, я исчезаю. Но я исчезаю как благородный человек. Заметьте, как благо-о-о-родный!»
Закрыв за Венечкой дверь, задвинув засов, звякнув цепочками, наконец спровадив его, мать Жени Моргенштерна припала к ней спиной. Она закрыла глаза, выждала несколько секунд, прижимая руку к груди, и сказала перепуганным насмерть соседям: «Не волнуйтесь, ничего не случилось, просто один Женин знакомый сошел с ума».
Глава 45
Нерензей
Разные есть дома, и разные у них имена. Вот Казаков[117]117
Казаков, Матвей Федорович (1738–1812) – русский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в стиле классицизма. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Помимо императорских дворцов, общественных зданий и храмов, много строил по частным заказам аристократии и богатого купечества.
[Закрыть], вот Шехтель[118]118
Шехтель, Федор Осипович (1859–1926) – русский архитектор, живописец и график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX–XX вв.
[Закрыть], вот Перцов[119]119
Дом Перцова – доходный дом, памятник архитектуры, историческое здание в стиле модерн, возведенное в Санкт-Петербурге в 1910–1912 гг.
[Закрыть], а вот самый высокий из всех (во всяком случае, таким он был в тридцатые годы), истукан Нерензей… Вернее, построил его инженер Нирн-зее[120]120
Нирнзее, Эрнст-Рихард Карлович (1873–1934) – московский архитектор и предприниматель-домовладелец, автор знаменитых «тучерезов», «домов Нирнзее» – первых «небоскребов» Москвы, перешагнувших отметку в 8 этажей.
[Закрыть], но москвичи, не искушенные в этих тонкостях, окрестили его по-своему – Нерензей. Дом Нерензея, и только…
Женя Моргенштерн не был арестован, как это могло показаться обезумевшему Венечке. В ту синюю весеннюю ночь он еще не возвращался домой, а бродил по Москве, по Тверскому бульвару, по переулкам Леонтьевскому, Гнездниковскому, и отовсюду смотрел на него истукан Нерензей. Смотрел и манил, как детей манят пальцем: подойди, подойди-ка, приблизься…
Женя бродил и думал, вспоминал, подводил итоги. Такое настало для него время (рано или поздно оно наступает у каждого) – подведения итогов, последней черты под тем, на что надеялся, в чем видел спасение, выход. Теперь надо со всей беспощадностью спросить себя, есть ли у него шанс, хотя бы один-единственный. Он испробовал все возможности, пытался даже совершить невозможное, и что же, что же? Он вынужден признать: из этой страны ему не вырваться, как ни мечтай. Из этой проклятой, распятой, толстопятой (какой там еще?) – никогда. Ни в трюме парохода, ни в угольной яме, ни в товарном вагоне, ни в цистерне с нефтью, ни вплавь через нейтральные воды. Догонят, найдут, высветят фонариком, поймают, схватят и свернут голову, как цыпленку.
Вот такая получается итоговая черта, цепочка очевидных фактов, вернее, цепь, которой он прикован, как каторжник: отсюда – никогда, а здесь – никак. Здесь он жить не сможет. Не сможет выносить эти трескучие парады, идиотские лозунги, транспаранты, марши физкультурников, живые буквы из людей, серые шинели вождей на мавзолее, праздничный разгуляй, толстопятый пляс под визг гармошки, а по застенкам пытки, стоны и казни.
Казни стали такими же обыденными, как увольнения со службы в административном порядке. Выстрел в затылок – и кровь на цементном полу вперемешку с мозгами. Как же, зная об этом, люди живут, маляры красят стены, пекари пекут булки, кондитеры делают пирожные? Как при этом любят, назначают свидания, встречаются на бульваре под фонарем?
Нет, он ненавидит маляров, кондитеров, влюбленных. Ненавидит всю эту совдепию, френчи, портупеи, толстовки, парусиновые портфели, битком набитые трамваи, ругань, мат, запах сивухи и пота. Его коробит от одного вида будильника на столе и мысли, что утром надо вставать и идти (переться) на службу, такую же бессмысленную, как и все остальное. А главное – всюду ложь, ложь, ложь, которая лезет во все щели, словно патока, раздавленная карамель, от которой не спрятаться, не заткнуть уши, словно от репродуктора на площади.
Какой же вывод? А вывод очень оптимистичный, в духе времени, веселенький, можно сказать, вывод – он обречен, и это не какое-то сложное мыслительное построение, а простая данность. Такая же простая, как понедельник, трюм парохода, цистерна с нефтью или дом Нерензея в Гнездниковском переулке, который его манит, зазывает, завораживает. Чем же, спрашивается, манит? А там, на самом верху есть кафе, оно так и называется – «Крыша», и все в нем очень чинно, респектабельно, с шиком. Услужливые официанты с бабочкой, полотенцем на руке и блокнотом в кармане фартука, чистые столики, пирамиды салфеток, пепельницы. И по краю крыши – совсем невысокий бортик, ограждение, чтобы какой-нибудь советский гражданин после графинчика водки не шагнул ненароком в бездну.
Вот Женя и шагнет, как ему нашептывает Нерензей. У него все продумано, рассчитано, выверено до последней детали. Он поднимется в шикарном, отливающем лаком и перламутром лифте на последний этаж, сядет за столик, закажет графинчик водки, запотевший, с холодка, приподнимет крышечку, нюхнет, нальет, опрокинет, расплатится с официантом, щедро даст на чай… и в бездну, за бортик, чтоб ветер в ушах просвистел… Бери меня, Нерензей, царь колдовского каменного леса, московских джунглей!
Что ж, итоги подведены, вывод сделан, поэтому зачем откладывать, зачем тянуть?! Что у нас сегодня, понедельник? Самый подходящий день… Вот только взглянуть в последний раз на Воздвиженку, на свой родной дом, комнату, где прожил столько лет, где вычерчивал под ночной лампой проект храма Солнцу. Взглянуть хотя бы в окно, всмотреться, козырьком приложив к глазам ладонь…
И Женя отправился прямиком на Воздвиженку. Вот и окно его на первом этаже. Подкрался, припал, приник. Постепенно в темноте стали вырисовываться очертания мебели, вещей, предметов. Его комната, стол, книги. Смотри, ведь это в последний раз, и он жадно, ненасытно высматривает. Вот так же «души смотрят с высоты на ими брошенное тело»[121]121
Из стихотворения Федора Тютчева «Она сидела на полу…» (1858).
[Закрыть], так у Тютчева. А как на самом деле смотрят души, он узнает сам. Узнает совсем скоро. Ну, вот и все, хватит, простился.
Женя хотел уже оторваться от окна, но тут в темноте, откуда-то сбоку, едва заметно мелькнуло. Какой-то лучик, блик, отсвет очков, и он различил, что мать молится перед иконой. Горит свеча, и она молится, губы шевелятся, что-то шепчут, шепчут его имя. Значит, мать молится за него. Мать, мать! И ее молитва сильнее манящего шепота Нерензея. Он вдруг почувствовал: мановением незримой руки от души что-то отпало, дьявольское, смертное, тяжелое. Исчезло, сгинуло кошмарное наваждение. Женя словно очнулся. Он не должен бросаться в бездну, итоги еще не подведены…
Всю ночь Моргенштерн бродил по Москве, и она вставала, распахивалась, взметалась, прядала перед ним, разная, то затаившаяся, неразличимая, то зримая, явленная, и всегда колдовская. Москва! Вот львы на воротах вдруг высветились лунной голубизной, вот возник мраморный торс – кариатиды, поддерживающие балкон, а вот замерцал, засиял, заискрился изразцовый врубелевский фриз. Москва ночная – поверженный демон!
…В Большом Гнездниковском я конечно же побывал. Когда еще шел душным летним вечером по Тверскому бульвару, он уже смотрел на меня, Нерензей, возвышавшийся над всеми домами в розовом мареве облаков. Приблизившись же, запрокинув голову, оглядев песочного цвета громаду, я поразился тому, какой это романный дом и как же он подходит для «Странников ночи», для самоубийства Жени Моргенштерна.
Понятное дело, мне захотелось осмотреть изнутри, но туда меня не пустили: преградила дорогу комендантша: нет, и все. Плоская, какая-то вся скрученная в жгут, нервозная, остервенелая и по-солдатски грубая, словно сами тридцатые годы. Она, не вынимая изо рта папиросы, рявкнула: «Нет!» И это тоже было так романно, картинно, выпукло, что я сразу согласился, смирился, затих. В этом тихом блаженстве я еще долго кружил по переулкам, разглядывал дом, словно фотограф, отыскивающий нужный ракурс: вот отсюда… отсюда…
Отовсюду он был хорош, мой истукан Нерензей, вместе со своей комендантшей, перенесший меня в тридцатые годы и ставший живой страницей сожженного романа.
Глава 46
Туманность Андромеды. Восстановленная автором глава сожженного романа
Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная сохранившаяся глава романа, вернее полностью восстановленная автором во Владимирской тюрьме.
Почему он восстановил именно эту главу? В воспоминаниях уже знакомой нам Ирины Усовой, друга юности Даниила Андреева, рассказывается, как он готовился к ее написанию: «Он в то время работал, как мы уже потом узнали, над той главой своего романа “Странники ночи”, в которой действие происходит в астрономической обсерватории, и ему хотелось посмотреть в телескоп туманность Андромеды. Друзья устроили ему встречу с астрономом, у которого дома был небольшой телескоп…»
Словом, готовился основательно. Наверное, эта глава прописывалась тщательнее всего, лучше запомнилась, была особенно дорога. Но чем? Чтобы это понять, задумаемся, каким вообще могло бы быть начало романа о тридцать седьмом годе. Писатель попроще, средней одаренности, пекущийся лишь о сюжетной занимательности, постарался бы сразу погрузить нас в гущу событий. Он наверняка начал бы с ареста, обыска, прощания с родными, первого допроса на Лубянке, описания камеры, параши, окон с намордниками. Даниил Андреев находит поистине удивительное, необыкновенное, завораживающее начало:
увиденное в телескоп ночное небо, звезды, туманность Андромеды. Да, роман завязывается там, среди звезд, недаром он с детства любил их, а одна из пьес его отца так и называлась – «К звездам».
Иными словами, земного мира, Москвы, арестов, всех ужасов тогдашней жизни еще нет. Не слышно плача, стенаний, мольбы, только чистое звездное сияние, тишина обсерватории, свечение приборов. Сдержанный, немногословный, внешне даже суховатый Адриан дает короткие распоряжения ассистенту…
Я не буду заключать восстановленную главу в кавычки, поскольку это единственно подлинная глава, а не мой пересказ. Кавычки (или скобки) больше подобают именно мне, поскольку я воспроизвожу авторский почерк Даниила Андреева, как, по свидетельству моего друга Владимира Микушевича[122]122
Микушевич, Владимир Борисович (род. 1936) – русский поэт, прозаик, переводчик, эзотерик и мистик, религиозный философ.
[Закрыть], переводчика Петрарки, издатели некогда воспроизводили почерк итальянского гения, называемый нами курсивом.
Набоков же назвал свой последний роман «Лаура и ее оригинал», тем самым обозначив, что есть подлинник, а есть его воспроизведение доступными средствами. Этот роман он завещал уничтожить – сжечь, если он не будет завершен. Не успел. Не завершил. Но роман все равно был опубликован его сыном Дмитрием, который таким образом извлек «Лауру» из самой бездны небытия.
Собственно, так же поступил и я, пытаясь извлечь «Странников ночи» из бездны. Мои попытки – это словно бы вторая «Лаура» (в кавычках), а вот ее подлинный оригинал.
В третьем часу ночи над куполом обсерватории разошлись, наконец, облака.
В расширяющейся пустоте звезды засверкали пронзительно, по-зимнему. Город давно опустел. Все казалось чистым: массы нового воздуха – вольного, холодного, неудержимого, как будто хлынувшего из мировых пространств, развеяли земные испарения. Фонари над белыми мостовыми горели, как в черном хрустале.
В черной, двубортной, наглухо застегнутой шубе с котиковым воротником поверх наглухо застегнутого черного пиджака, но с непокрытой головой, молодой профессор Адриан Владимирович Горбов прошел из дежурного кабинета в круглый зал обсерватории той же размеренной поступью, что и всегда.
Мороз, крепчавший снаружи, царил и здесь, в зале, а полумрак сгущался под куполом почти до полной тьмы. Едва можно было различить ребра меридиональных делений и галерею, опоясывавшую зал, как хоры храма. На никеле приборов, на полированной фанере обшивок лежали разъединенные круги света от нескольких, затененных абажурами ламп. Различался пульт управления, циферблат кварцевых часов, точнейших в Советском Союзе, да в стороне – два стола, загроможденные атласами, диапозитивами и звездными каталогами. Молоденький ассистент в сдвинутой на затылок меховой шапке предупредительно поспешил Адриану Владимировичу навстречу; в рабочие часы профессор всегда был лаконичен и сух, и ассистенту хотелось движением навстречу, вежливым, но свободным от заискивания, выразить свою готовность и уважение.
– Небо ясно, – деловито указал профессор Горбов. – Мне нужна Дельта Возничего – W – P – 3122.
И он поднялся по железной лесенке рефрактора. Дружеским, почти ласковым движением скользнула обернутая перчаткой рука по полированному металлу телескопа. И, взглянув вверх, профессор успел заметить в узкой сек-торообразной щели, из-за жерла направленного в нее рефлектора, две звезды четвертой или пятой величины, судя по направлению – в созвездии Северной Короны. В ту же секунду огромное сооружение дрогнуло, звезды Короны скрылись. На смену им последовательно стали показываться звезды другие, и купол, вместе с рефрактором, с лестницей, с креслом, плавно двинулся на шарнирах с запада на восток. Вокруг смещались приборы, перила, опоясывающие зал галереи, мебель; светлые круги от ламп мерно двинулись вперед, как светлые галактики темной и пустой вселенной. Долгота была найдена. Теперь жерло трубы медленно поднималось вверх, словно прицеливающееся орудие. Выше, выше… И направленное почти в зенит, жерло наконец остановилось.
С измерительным инструментом подле себя, с записной книжкою на коленях, доктор астрономических наук погрузился в вычисление координат Дельты Возничего.
Впервые он установил их полгода назад на другом конце земной орбиты. И если бы теперь погода еще несколько дней постояла бы пасмурная, – момент был бы упущен и пришлось бы ждать еще целый год, чтобы установить элементы параллакса.
Гудение продолжалось, но тихое, чуть-чуть свистящее. Это безостановочно работал механизм трубы, чтобы она неотступно следовала за избранною звездой в пути по небу. Казалось, связь рефрактора с землей порвалась, когда луч звезды упал в его окуляр и заставил плыть за собой с непреодолимой силой. В столице социалистической державы, в городе с четырьмя миллионами человек только один вращался сейчас вместе с небесным сводом. Тонкий луч Дельты Возничего падал ему в глаза и точно звенел и креп с каждой минутой. Как будто магическая проволока, для которой любые пространства ничто, – соединила концы мира. Концы мира, альфу и омегу, звезду и человека; и нечто, отдаленно напоминающее беседу, возникло между ними. И в то время как рассудок, вытренированный на громадах пространства, четкий, как тиканье часов, отсчитывал микроны и радианы, «пи» и секунды угла – что-то иное в его существе, более тонкое и более хрупкое, все глубже вникало в луч звезды с <неразб.> ощущением, похожим на <неразб.>. Медленное раскачивание по лучу взад и вперед то уносило его во внешний, леденящий холод, то возвращало под купол, в сосредоточенную темноту, похожую на сумрак собора, где стихло богослужение. Каждый размах по лучу был больше предыдущего; и наконец, от амплитуды этого качания дрогнуло сердце, оно оперлось, как на каркас из нержавеющей стали, на прочный, надежный брус рассудка; наблюдение подходило к концу; Адриан Владимирович оторвался от окуляра и обвел отсутствующим взглядом мглу обсерватории.
– Довольно, благодарю вас, – проговорил он небрежно, стараясь вглядеться, чтобы восстановить правильный фокус взгляда, в молчаливый силуэт у пульта управления. – Остановите пока.
Гудение стихло. Только часы продолжали отсчитывать мерные капли потока времени. Профессор занес в записную книжку полученный результат. Его задание на сегодняшний день было хоть и срочно, но невелико, и он его выполнил. Но теперь его тянуло полюбоваться, пока еще нет облаков, на один небесный объект, когда-то изучавшийся им в Симферополе и здесь, – на великолепную, прославленную мировой астрономией, большую туманность Андромеды. Уже сама ее прославленность ослабляла к этому объекту чисто научный интерес. Кроме того, от работы над внегалактическими туманностями профессор отказался уже давно, как от явно бессмысленных в данных условиях: астрономический инструментарий в Советском Союзе был слишком слаб, теоретическая же обобщающая работа на основе зарубежного материала – никчемна: ее результаты не могут быть опубликованы. Уже третий год, как профессор Горбов обрек себя на измерение звездных параллаксов. Но внегалактические туманности он все же помнил – помнил, как свою первую любовь, и время от времени позволял себе удовольствие бездумно созерцать великолепнейшую из них в переворачивающем зеркале рефрактора.
Но когда ассистент, удивленный долгой паузой, вгляделся в профессора, Адриан Владимирович сидел все там же, облокотившись о поручень и прикрыв глаза рукой. Его пышные каштановые волосы, несколько длинные, сливались с полумраком, и только бледное пятно изящной руки да странный лоб с надбровными дугами, плавно выдающимися вперед, удалось разглядеть ассистенту. В ту же минуту профессор отнял руку: на ассистента устремились издали холодные серые глаза.
– Теперь прошу вас М31. Координаты установите сами.
Под шифром М31 значилась большая туманность Андромеды. И то, что эту жемчужину неба называть по имени было не принято; то, что ее прятали под сухой связкой условных цифр, профессору нравилось.
С тех пор, как он увидел впервые М31, прошло уже много лет. Теперь он отлично знал ее размеры, масштабы, расстояние в световых годах, ее массу, яркость, плотность. Раньше, чем американец Хэбл доказал, что эта туманность есть, подобно Млечному Пути, другая вселенная, он это предчувствовал, он это знал. И все же, каждый раз, как перед ним <неразб.> открывалась сама, этот иной мир – он вздрагивал от ощущения, столь <неразб.>, что даже все пытающий ум его не смел подойти к этому чувству с ловчей сетью своих аналитических схем. Это не было волнением ученого, когда открывающаяся перед ним даль неисследованного побуждает к новым и новым исканиям, к властной вере в научное познание бытия. Уже много лет центр его жизни лежал совсем в другом, и наука уподобилась для него вратам, через которые он вышел бы в область еще более головокружительных и дерзких, еще более парадоксальных идей.
Время проскакивало через хронометр ровными толчками, одинаковыми, как кванты. Ассистент искал координаты туманности на этот день и час в переплетенных таблицах, похожих на увесистые конторские книги… Адриан Владимирович опять прикрыл глаза рукой. Ему чудилось угрюмое море, свинцовое и бурное, и Андромеда, прикованная к утесу, обреченная чудовищу, как возмездие за родительский грех. Андромеда, ожидающая Персея – освободителя, героя и жениха. Древняя сказка давно наполнялась для него новым смыслом; ему казалось, что она растет в его сердце, в его сознании, даже, может быть, в его крови…
Вдруг мощный рокочущий гул заглушил счет времени; или – само время, больше уже ни на что не делимое?.. Это рокотали колеса медленно вращавшегося купола и трубы. И в гуле этого кругооборота слышалось явственное подобие вращению далеких миров по своим необозримым орбитам, вращению звездных скоплений, вращению планет – вращению всей Галактики с ее крошечными оазисами огней и черными, как уголь, пустотами. Это вращались светила Ориона – красные, как Беллатрикс и Бетельгейзе, трехзвездный пояс посредине, Ригель и Санор внизу. Вращались размывчатые, темные облака материи, озябшей <неразб.>. Вращались белые карлики – больные звезды, где материя так уплотнена, что вместо атомов голые ощипанные ядра стискиваются в триллионы тонн. Вращались пульсирующие цифеиды, то сжимаясь, точно в судорогах боли, то вспыхивая таким пламенем, в котором само Солнце потонуло бы, как слабая свеча. Вращались электроны, сшибаясь друг с другом, вышибая друг друга из орбит, и в смертной боли невообразимо крошечных катастроф превращаясь в энергию. И, не отнимая руки от глаз, с губами, побелевшими от боли, он чувствовал, как Ось мировой материи сжимается в единый глухой стон – более бессмысленный, чем мычание животных, более невыносимый, чем плач ребенка.
Это стонала Андромеда, прикованная к утесу, терзаемая <неразб.> множественности воль.
Вдруг гул вращения затих, перейдя опять в тихое, колдующее посвистывание, и тогда, отняв руку от бескровного лица, он опять приник к окуляру.
На черном бархате метагалактических пространств наискось, по диагонали, точно сверхъестественная птица, наклонившая в своем полете правое крыло и опустившая левое, перед ним сияло чудо мироздания – спиральная туманность М31. Золотистая, как Солнце, но не ослепляющая, огромная, как Млечный Путь, но сразу охватываемая взором, она поражала воображение именно явственностью того, что это другая, бесконечно удаленная вселенная. Можно было различить множество звезд, едва проявляющихся в ее крайних, голубоватых спиралях; и сам туман, сгущаясь в центре ее, как овеществленный свет, как царственное средоточие. И чудилась гармония этих вращающихся вокруг нее колец, и казалось, будто видишь <неразб.> преображенных миров, совершающееся в безграничной дали, но и для Земли предопределенных.
А еще дальше, на крайних пределах пространства, которые достигал взор, едва различались слабо светящиеся пары, точно медузы, застывшие в черной, как тушь, воде: еще тысячи других галактик, уносящихся прочь от системы Млечного Пути со всевозрастающими скоростями. Скоростями, приближающимися к скорости света, предельной величины, за которой материя как таковая не может существовать.
И если прав Хэбл, и скорости растут по мере удаления, то эти туманности, еще видимые сейчас, в действительности не существуют: они перешли за скорость света, они выпали за горизонт трехмерного мира и продолжают свое становление по шкале недоступных нашему сознанию координат.
Минута за минутой вглядывались глаза в Великую Туманность, и рассудок, когда-то изучивший действующие на ней законы – те же законы, что и на Земле, – теперь молчал глубоко внизу: он не смел мешать созерцанию <символа>.
Когда профессор сказал «Довольно» еще раз, и гудение утихло, и он не спеша спустился по винтовой лестнице, движения его были размеренны, как всегда, но лицо могло показаться асимметричным. Быть может, от складок около губ, еще хранивших боль щемящего сострадания, или от неподвижной и как бы двойственной мысли, светившейся на дне холодных серых глаз. И когда он пошел своей четкой поступью мимо редких затененных ламп, с каждым шагом окаменевали его черты, будто быстро замыкались одна за другой плотные металлические двери. И когда ассистент, отступив с дороги, пожелал профессору спокойной ночи, Адриан Владимирович приостановился и, внимательно взглянув на невысокий лоб молодого человека, пожал ему руку. Пожатие было крепким, но как бы механическим, рука же профессора – ледяной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































