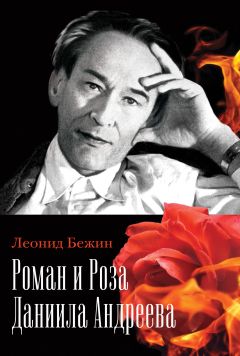
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Глава 13
Тайный язык Библии
Небольшое отступление. Читатель вправе задать вопрос: как совместить православие Даниила Андреева с его рассказами о прежних жизнях, столь отдающими буддизмом и индуизмом? И мы должны на него ответить, при этом сделав вид, что этот вопрос не относится для нас к числу нежелательных, неудобных и даже болезненных вопросов. Но, с другой стороны, так ли уж вправе и так ли уж должны?
Раз уж мы устремились за автором «Розы Мира» к бесчисленным мирам, вознеслись к неведомым горизонтам, то что уж нам оборачиваться и смотреть назад, где батюшка в церкви стращает адскими муками тех, кто верит в карму, перерождение и прочую бесовщину?! Но не будем спешить с окончательным суждением. Может статься, батюшка и сердится-то неспроста, и во многом прав.
Но прав от слова – православие. Пусть сам батюшка гневлив, вздорен, запальчив, не слишком начитан и образован, иными словами, несовершенен, но оно – совершенно. Да, православие с его догматикой, таинствами, молитвами, чудотворными иконами, храмовыми службами и главной из них – литургией – совершеннейшее вероучение, хотя, может быть, запечатанное для нас в его сокровенных глубинах. Оно не нуждается ни в каких дополнительных доктринах, и на этот счет можно быть совершенно спокойным. Для нашего батюшки самое верное было бы не гневаться и стращать, а служить литургию. Она должна занимать все его помыслы, а не карма и перерождение. В ответ на все подобные вопросы надлежало бы ему ласково улыбнуться и промолчать. Это не для священников, не для тех, кто служит, а для тех, кто странствует и пишет, иными словами, для нас, грешных, – странствующих энтузиастов. И неуместные в храме, они уместны в моих заметках.
Так что же нам ответить? Обратимся к Библии, но только вынесем ее, нашу старославянскую (или синодальную) Библию, из храма и положим на письменный стол, а рядом подлинник на греческом, арамейском и иврите. И будем читать медленно и вдумчиво, сверяя и уточняя отдельные места. В чем же мы убедимся? Разительное отличие Библии от древнеиндийских упанишад[47]47
Древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Относятся к священным писаниям индуизма категории шрути. В них в основном обсуждается философия, медитация и природа Бога.
[Закрыть] или буддийских сутр[48]48
В древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризм, позднее – своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии.
[Закрыть] в том, что проблемы кармы и перерождения в ней не ставятся и не обсуждаются. Ставятся многие проблемы, и духовные, и этические, и даже политические (к примеру, в пророческих книгах), но только не эти. Эти же не вынесены на внешний, поверхностный уровень обсуждения, никак не очерчены и не обозначены. Более того, в Библии и слов-то таких нет, которые можно было бы неким образом соотнести с понятиями кармы и перерождения, разве что слово «палингенесия», переводимое у нас как «пакибытие», хотя было бы вернее – «многожизние». Но контекст этого слова не содержит прямого указания на то, чтобы сблизить оное по значению с метемпсихозом[49]49
Переселение души, особенно ее реинкарнация после смерти. Термин происходит из древнегреческой философии и был реконструирован современными философами, такими как А. Шопенгауэр, К. Гедель и М. Виллаба.
[Закрыть].
В целом мы вправе сказать и даже подчеркнуть, что о карме, перерождении Библия умалчивает, и за этим умолчанием – величайшая мудрость: Господу было угодно скрыть от нас наши прежние жизни. Точнее можно выразиться так: даже если бы они у нас были, Господь лишил нас всякой памяти о них, ведь эта память могла бы стать опасной и разрушительной. А главное, она не ведет к спасению, отвлекает от задач этой жизни, решаемых здесь и сейчас, отсюда и мудрое умолчание, во всяком случае на внешнем уровне.
А на внутреннем? И тут мы убеждаемся, что в Библии есть поразительный способ выражения таких понятий, как карма, перерождение и проч. Назовем это языком логических несообразностей или даже языком абсурда. В какой-то момент логика повествования сбивается, нарушается, вплоть до абсурда, и это служит своеобразным знаком, звоночком – смысл надо искать в иной плоскости.
Скажем, в пятой главе Второзакония Моисей говорит, обращаясь к народу: «Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве; не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня…» Позвольте, как же так? Ведь в той же книге чуть выше было сказано, что все поколение израильтян, с которыми Бог заключил завет на Хориве (или Синае) и говорил лицом к лицу, вымерло во время странствия в пустыне. И тут вдруг оказывается, что все они живы! Абсурд? Несуразица?
Но не будем спешить с такими выводами. В словах Моисея есть своя внутренняя логика. Почему он так подчеркивает: «не с отцами вашими, а с вами»? А потому что Бог обещал отцам Землю обетованную. Отцы умерли, не получив ее, но Бог не может нарушить своего обещания. Поэтому отцы живы в своих детях, и это отнюдь не красивая метафора. Что же в таком случае? Нам придется это назвать палингенесией, многожизнием или – перерождением.
Без этого нам не понять слов Бога, обращенных к Иову многострадальному, и вообще самой вины Иова: «…доходил ты до края бездны, и число дней твоих очень велико». Но какой же может быть край бездны, если Иов уверен, что он праведник? И что значит: «число дней велико»? Разве Иову не известен его возраст? Получается, что Иов все же согрешил, но согрешил не в этой, а в одной из прежних жизней.
Комментаторы Библии указывают еще на один пример явной логической несообразности: «Наг вышел человек из утробы матери и нагим возвратится». Так в синодальном переводе, но в подлиннике сказано: «возвратится в нее», то есть в утробу. Спрашивается, каким же образом это возможно? Как может человек, однажды выйдя из утробы матери, снова туда возвратиться? Добавим еще вопрос – для чего? Чтобы вновь родиться…
На этот язык логических несообразностей указывал еще Ориген Александрийский[50]50
Ориген Адамант (ок. 185 – ок. 253) – греческий христианский теолог, философ, ученый; основатель библейской филологии, основоположник оригенизма, автор термина «Богочеловек». Главный труд Оригена – «Гексапла», первый в истории образец научной библейской критики.
[Закрыть], придерживавшийся теории предсуществования души. Учение Оригена было осуждено церковью, и нам не следует изображать это как гонение церковной ортодоксии на свободную, творческую богословскую мысль. Не будем забывать, что ортодоксия в переводе с греческого и есть православие. И с православной точки зрения учение Оригена – ненужное добавление к его догматике. В храме оно неуместно и в литургии не должно быть отражено. В заметках же наших мы можем позволить себе написать, что учение Оригена многое раскрывает во взглядах Даниила Андреева и его юношеских рассказах о прежних существованиях.
И не только в юношеских рассказах, но и в таких высказываниях из «Розы Мира»: «Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимания на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц»[51]51
Андреев Д. Роза Мира: Немного о трансфизическом методе.
[Закрыть].
Как видим, Даниил Андреев охотно пользуется понятием предсуществования, подчеркивая, что христианство в целом оставило эту проблему в стороне, но не игнорировало ее полностью. Это как раз и подтверждает пример Оригена.
Еще обратим внимание на слова о «редких единицах». Не правда ли, в них улавливается нечто автобиографическое? Это и о самом себе, и о тех, кто рядом, близко, может быть, в соседней комнате. Значит, были такие редкие единицы, в том числе и в окружении Даниила Леонидовича.
Я, может быть, слишком навязчиво провожу эту мысль, но мне хочется подготовить читателя к появлению одного персонажа моих заметок, которому я придаю особое значение. Пока рано называть его имя, поэтому ограничимся шутливым прозвищем, присвоенным ему в дружеском кругу, – Биша (так Даниил Андреев называет его в письмах). Еще добавлю, что его черты угадываются в Адриане Горбове, одном из персонажей романа «Странники ночи», а в посвященном ему стихотворении поэт пишет:
Незабвенный, родной! Не случайно
Год за годом в квартире двойной
Твоей комнаты светлая тайна
За моей расцветала стеной!
И уж воля моя не боролась,
Если плавным ночным серебром
Фисгармонии бархатный голос
Рокотал за расшитым ковром.
Что пропели духовные реки
Сквозь твое созерцанье и стих —
Да пребудет навеки, навеки
Неразгаданным кладом троих.
И какая – враждующих душ бы
Ни разъяла потом быстрина, —
Тонкий хлад нашей девственной дружбы
Все доносится сквозь времена!
«Сквозь твое созерцанье и стих» – значит был поэт и мистик, словом, из тех, из «редких единиц».
Однако вернемся к теме кармы и перерождения. В еврейской мистике каббалы было учение, близкое Ори-гену, – «гилгул нешамот», «круговращение духов». Хотя каббала окончательно формируется позже христианства, в XIII веке, мы должны учитывать контекст этого учения, размышляя над словами Иисуса о том, что Иоанн Креститель – это Илия, который должен прийти перед явлением Мессии: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит»[52]52
Евангелие от Матфея, глава 11.
[Закрыть]. Евангельская фраза «кто имеет уши слышать, да слышит» всегда указывает на особую таинственность, закрытость для непосвященных высказывания Иисуса, и здесь она может восприниматься как отсыл к учению «гилгул нешамот». Иными словами, Иоанн Креститель – перерождение Илии.
Можно было бы продолжить этот ряд примеров, но, думается, для небольшого отступления и этого достаточно.
Глава 14
Странствия с Блоком. На фотографиях
Теперь продолжим.
Добровы – истинные наследники аксаковской Москвы с ее размеренным патриархальным бытом, чаепитиями и разговорами о политике. Об этом писал Вадим Андреев, и об этом же сказано в упомянутом стихотворении Даниила Андреева:
Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров,
Многолюдные свадьбы,
Торжества и обеды,
Шум пиров.
Помнили, потому что Аксаков жил тут же, неподалеку, в похожем на добровский усадебном доме, похожем если не внешним убранством, то внутренним складом. А неподалеку в разные годы жили и Скрябин, и Цветаева, и Блок, и Андрей Белый, и Бердяев, и Борис Зайцев, многие из тех, которые бывали в доме.
Крестным отцом Даниила был не кто иной, как Алексей Максимович Горький, а среди его детских воспоминаний есть и такое: как-то раз на улице отец остановился и долго беседовал с одним человеком, затем, наклонившись к сыну, сказал ему со значением, что его собеседник – поэт Александр Блок.
Собственно, это еще не встреча, скорее предвестие встречи, описанной в «Розе Мира»: «Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом – не только мое право, но и мой долг. С гордостью говорю, что Блок был и остается моим другом, хотя в жизни мы не встречались и, когда он умер, я был еще ребенком. Но на некоторых отрезках своего пути я прошел там же, где когда-то проходил он. Другая эпоха, другое окружение, другая индивидуальность, отчасти даже его предупреждающий пример, а главное – иные, во много раз более мощные силы предохранили меня от повтора некоторых его ошибок. Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память».
И далее о совместных странствиях по иноматериальным слоям: «Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой – все одним цветом, отдаленно напоминающим наш багровый. Я уже два раза описывал этот слой; во второй раз – в четвертой части этой книги; снова напоминать этот жуткий ландшафт мне кажется излишним. Важно отметить только, что не случайно мой вожатый показывал мне именно Агр: это был тот слой, в котором он пребывал довольно долгое время после поднятия его из Дуггура. Избавление принес ему Рыцарь-монах (Владимир Соловьев. – Л. Б.), и теперь все, подлежащее искуплению, уже искуплено. Испепеленное подземным пламенем лицо его начинает превращаться в просветленный лик. За истекшие с той поры несколько лет он вступил уже в Синклит России».
«Я видел его летом и осенью…» Легкая оторопь берет от этой фразы, приоткрывающей дверцу туда, где начинается индивидуальный и неповторимый мистический опыт Даниила Андреева. Данные этого опыта упорядоченны, осмысленны и точно датированы – летом и осенью… Далее следует описание иноматериального слоя, который мы могли бы назвать одним из кругов ада, но нам дается более точное название – Агр. Принять ли его или отвергнуть? Вспомним вопросы, которые мы себе задавали: вдохновение, диалог с подсознанием, наваждение? Но если все же мистический опыт, тогда да, принять. Во всяком случае, признать, что панорама «обителей в доме Отца» открывается грандиозная, ведь Агр для нас – только начало…
О земном предвестии встречи с Блоком мне рассказывала Алла Александровна, по словам же Виктора Михайловича, услышанным мною тогда, во время нашего разговора, в юношеском облике Даниила проскальзывало нечто послеблоковское, отвлеченное, туманное, книжно-романтическое. Проскальзывало, витало, сквозило – можно подбирать любые определения, выражающие неуловимую суть того, что кажется таким неподвижным, застывшим, остановившимся на фотографиях.
На фотографиях он слишком красив, отчасти даже театрален, похож на маститого актера, избалованного успехом у публики и дам: фотограф намеренно выбирал ракурс. Особенно его белый отложной воротничок – ну, просто богема! Если бы не Октябрьский переворот, то к фигурам двух поэтов из рассказа Бориса Зайцева «Улица св. Николая» (об Арбате) – поэта золотовласого и поэта бирюзовоглазого – можно было бы добавить и поэта с откинутыми назад длинными волосами, красиво очерченным ртом, ямочкой на подбородке, высоким лбом и ястребиным носом.
Да, слишком, но это именно ракурс, удачно выбранный фотографом. В жизни же эти черты менялись до неузнаваемости, и оказывалось, что перед нами не театрально-красивый персонаж дореволюционного Арбата, не представитель романтической богемы, играющий в мистику, а совсем иная фигура. Белому отложному воротничку суждено превратиться в наглухо застегнутый ворот гимнастерки, тюремного халата, простой рубашки в клеточку и пиджака покроя «москвошвея».
Если бы не Октябрьский переворот, но он все-таки свершился: «Выходи, беднота, тьма, голь и нищество, подымай голос, нынче твой день». Суждено и Даниилу Андрееву превратиться из наивного мечтателя и поэта предреволюционной поры в сурового мистика и духовидца сталинских лет, эпохи обысков и арестов, окошек для передач и длинных описей конфискованных вещей. Это уже не игра… какой уж тут белый… отложной… фотограф с камерой исчез, и получилось не как в жизни, а получилась сама жизнь.
На последних фотографиях он живой, узнаваемый, как в рассказах последнего поэта-акмеиста Виктора Михайловича Василенко. Его рассказы не только о юности, не только о том, как ходили друг к другу, один в Малый Левшинский, а другой в Трубниковский, но и о том, как им было мучительно тяжко друг без друга и близких им людей. Как арестовали одного, потом – другого, как будили ночью, допрашивали, угрожали, выколачивали палкой, вытягивали щипцами признание.
Разбудить и увести узника из камеры ночью почти наверняка означало – на расстрел, и вот что особенно запомнилось из рассказов – этот ночной тюремный, леденящий страх… Ночью один из них слышит шаги надзирателей по коридору, слышит, как поворачивается в замке ключ, открывается дверь, входят, и шепчет, вжимаясь затылком в стенку: «Господи, помилуй!» Маленький, беззащитный, над ним громада Лубянки… Не в это ли время сулили другому: «Вы еще не знаете… специальным ножом…» И справа, слева, под ногами, над головой та же громада…
После разговора с Виктором Михайловичем я подходил к воротам Лубянки, через которые ввозили. Самые обычные ворота, ничего особо страшного в них нет, но мне представлялся маленький человек, вжимающийся затылком в стену… и другой, протягивающий палку: «Бейте!» И почему-то, по какой-то неведомой связи, вспоминалась строчка: «Взор ослепляют термы Камерона»…
Глава 15
Сопространственники. Кенгуровая куртка
«А домик невелик, ступеньки к крыльцу, квартира на первом, чуть приподнятом этаже – многие старомосковские семьи избегали лестничных маршей, лифтов же Москва почти не знала.
Сразу охватывала в квартире атмосфера высокой духовности, искусства, поэзии, но не самой по себе, а связанной с русской традицией, поисками корней и истоков в народе, с тем, что можно выразить стихами Белого: “Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня!” Вот в чем рос и чем всепоглощающе жил и дышал Даниил Андреев».
Этот-то дом я наконец, после долгих блужданий и расспросов Аллы Александровны, нашел, распознал, извлек из глубины дней. К этому дому и привела меня встреча с писателем Вадимом Андреевичем Сафоновым[53]53
Сафонов, Вадим Андреевич (1904–2000) – русский советский писатель, педагог. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1949).
[Закрыть] – точнее, он сам привел. Взял за руку и привел, показал, сузил границы до некоего крошечного пятачка, прямоугольника, зыбко обозначенного в пространстве.
Не справа, не слева, а здесь, на этом месте стоял, и ступеньки были, и подклет, а главное… «Я любил самый воздух квартиры Добровых. Часто заходил, несколько раз ночевал – после моей женитьбы у нас с женой, и ныне моей спутницей и другом, не было московской “жилплощади”, мы три года прожили в Загорске, за 70 верст, я тепло вспоминаю это время, одно из самых счастливых, при всей скудности, иной раз на грани полной и совершенной бедности, в чем вовсе не виделось главного»[54]54
Из книги Вадима Сафонова «Дом в меловых полях».
[Закрыть]. Да, главное не в бедности, а в том самом воздухе, коим дышали и сам Вадим Андреевич, и его жена, спутница и друг Валентина Гурьевна, с ней мне тоже довелось встретиться – Даниил Андреев был соучеником, однокашником, сокурсником Вадима Сафонова по Высшим литературным курсам.
Курсы находились в «Доме Герцена» на Тверском бульваре – том самом доме, где сейчас находится Литературный институт и где я когда-то преподавал, вел семинар прозы вместе с Андреем Битовым[55]55
Битов, Андрей Георгиевич (1937–2018) – русский советский писатель, поэт, сценарист, педагог. Один из основателей постмодернизма в русской литературе.
[Закрыть]. Впрочем, можно и здесь несколько сузить границы, разумеется, с помощью того же Вадима Андреевича: «На втором этаже Дома была их колыбель». На первом – писательский ресторан, известный по Булгакову, где бесчинствовали Коровьев и Бегемот, а вот на втором – курсы, но ведь и я на втором, значит, в самой колыбели.
Каждый вторник (день творческих семинаров) я сюда приходил, и этот коридор с закоулками и множеством дверей, эти комнаты и лестницы знакомы мне так же, как некогда были знакомы Даниилу Леонидовичу, Даниилу, Дане – имя, более всего отвечавшее его тогдашнему облику. Не ветхозаветное – Даниил, не православно-мученическое – Даниил Заточник, а дружески-семейное – Даня. Добродушный, беспечный, немного ветреный, хотя и углубленный в себя, прячущий ото всех некую тайну своего внутреннего мира воспитанник Добровых, мечтатель, любитель одиноких прогулок, молодой поэт, посещающий литературные курсы.
Вновь возникает магия места и вновь этот обманчивый и непреодолимый соблазн: если устранить разделяющие нас годы, то мы совпадаем. Пусть мы не современники, но мы как бы рядом – сопространственники, да не смутит читателя столь необычное слово. Сопространственники, быть может, ближе друг другу, чем современники, они свободнее в выборе.
Допустим, я не преподавал бы здесь, а учился в те же годы и вынужден был бы сталкиваться с совершенно чуждыми мне людьми. Вон их сколько было, описанных в воспоминаниях Вадима Андреевича, всяких там Приблудных, Рукавишниковых, Хориковых! Басили, гудели, рыкали, раскатисто смеялись, Даниила Андреева за ними и не разглядеть!
Но я не учился тогда, а преподавал уже гораздо позже и поэтому из толпы выбираю именно его. Это совпадение в пространстве мне кажется удивительным, почти символическим: он поднимался по этим лестницам, блуждал по этим коридорам, теряясь в закоулках, смотрел в эти окна с по-московски милыми двойными форточками, сидел на этих широких подоконниках, может быть, курил, а в этих комнатах читал стихи.
Читал ли? Вряд ли слишком охотно, так как совпадения со слушателями не было. Мало того что не поняли бы, но еще бы и донесли. Даже Вадим Андреевич пишет: «Круглым своим почерком, на больших листах, он писал непрерывно, стихи, прозу. И не было сомнений, что все это – “против течения”». Это течение унесло их в дальнейшем в разные стороны: Вадима Андреевича к успеху, заслуженному признанию, прижизненному собранию сочинений, переводам на иностранные языки и даже, по некоей искусительной прихоти судьбы, Сталинской премии за роман «Земля в цвету». Сталинские так просто не давали: надо было чем-то заслужить, угодить, потрафить, и Сафонов, не в осуждение ему будет сказано, потрафил – выступил против генетиков. Даниил Леонидович же делать этого не захотел («А тех, кто сегодняшнему кадит, // достаточно без меня»), и течение унесло его далече, в другую сторону, к глухой непризнанности, уничтожению всего написанного им Лубянкой и сталинской… тюрьме.
Но тогда они были вместе, дружили, что называется, домами (первая жена Даниила и жена Вадима – близкие подруги). Бывали друг у друга в гостях, просиживали ночи напролет, балагурили, насмешничали, озорничали, спорили, ссорились, мирились. Даже куртки у них были одинаковыми, по моде тех лет, с кенгуровым воротником. Поэтому для меня так важно встретиться с Вадимом Андреевичем, расспросить, разузнать, допытаться, каким он тогда был, Даня.
И вот нежданная удача: Вадим Андреевич печатается в нашем издательстве «Столица», мы составляем книгу, и мне, как говорится, сам бог велел… Тем более что с ним хорошо знаком наш редактор, а при этом еще и поэт, составитель прекрасных книг, почитатель «Розы» Борис Романов, он нас, собственно, и ввел в этот дом.
Шумной гурьбой, вместе с прочим издательским народцем, мы отправляемся в Астраханский переулок, где живет Вадим Андреевич и где нас уже ждут. Сначала разбираем рукописи, бережно извлекаемые им из архива, – напечатать бы это… это… это… Затем и стол накрыт на маленькой кухоньке, и бутылка вина на столе, и добродушно-язвительная, снисходительно-строгая и, я бы добавил, царственно-беззащитная Валентина Гурьевна – разъяснения этих странных эпитетов последуют дальше – усердно потчует нас закусками.
Самое время приступить к расспросам… Осторожно, исподволь, с суеверным страхом спугнуть удачу и от этого с напускным бесстрастием и якобы холодноватым интересом, скрывающим мое жгучее любопытство, я приступаю. И тут роль рассказчика незаметно переходит от Вадима Андреевича к его жене: она многое помнит острее, с выразительным не только зрением, но и слухом, и ее память, словно лучик волшебного фонаря, выхватывает из темноты целые сцены со всеми декорациями, костюмами и репликами персонажей.
Да, да, царственно-беззащитная, опасливо-смелая, авантажно-застенчивая, и некая женственность и светскость в духе респектабельности тридцатых годов до сих пор проглядывают в ней. О, только попадись ей на язычок! К тому же совершенный скептик по отношению к «Розе Мира» (с очаровательным небрежением именует ее «Розой Ветров»), да и к стихам Даниила Андреева тоже. Хотя пальма первенства всецело принадлежит творчеству мужа, она искренне любит Даню. Настолько искренне и нежно, что, когда ей зябко, набрасывает на плечи кенгуровую куртку не Вадима, а Даниила! Даня свято чтит в ней жену друга (для тридцатых это подлинно святое!), но его куртка как бы теплее, лучше греет! Впрочем, это уже один из рассказов Валентины Гурьевны, а их было очень и очень много…
Признаться, я их тогда не записал: понадеялся на собственную память… и напрасно! Сколько раз я убеждался: запоминается то, что особо не стараешься, не стремишься запомнить. Состояние духа в таком случае должно напоминать зеркально чистую поверхность озера, при полном безветрии (буддийская отрешенность), напускное же бесстрастие – рябь на воде. Вот и в памяти моей зарябило, на ее тихую гладь набежали морщины, и просвечивавшие в глубине образы скрылись под мелкими волнами. Поэтому через несколько лет после нашей встречи я позвонил Валентине Гурьевне, чтобы проверить и себя, и ее. И что же?! Ее память, не тронутая рябью, бережно хранила образы прошлого, и она в точности повторила все свои рассказы, не упустив ни единой подробности.
К тому же я имел возможность сопоставить кое-какие факты. К примеру, Валентине Гурьевне запомнилось, что в комнате Даниила, в левом углу, стоял сундучок с вещами умершей матери, Александры Михайловны. И вот, пожалуйста, читаем у Вадима Андреева: «…в сундуке, обитом железными полосами, хранились Шурочкины платья, отдельно в ларце лежали бусы и ленты ее украинских костюмов…» Значит, действительно был сундучок, и было многое другое (мои сопоставления это подтверждают), и я могу полностью довериться мемуарным свидетельствам Валентины Гурьевны…
Что ж, роль рассказчика теперь переходит ко мне, и я поднимаю крышку того сундучка… того ларца, и мелкие бусинки, сорвавшись с истлевшей нитки, падают мне на ладонь. Бусинки-воспоминания, бусинки-сценки, бусинки-истории – какую же из них выбрать?!
Ну, скажем, эту, элегически-школьную, образцовую, с оттенком назидательности историю знакомства. У обоих была одна учительница, строгая, добрая и настоящая, даже имя произносилось с особым благоговением – Екатерина Адриановна, и у нее был заведен обычай: знакомить лучшего выпускника с самой смышленой, даровитой, умненькой, подающей надежды первоклашкой. Так впервые и познакомились выпускник Даниил Андреев и первоклашка Валентина… тогда еще никакая не Сафонова, а носившая свою первую, девичью фамилию.
Потом они познакомились снова уже на литературных курсах. Познакомились и сдружились. Она для Даниила была женой близкого друга, он же – мужем ее закадычной подруги, Шуры Горобовой, красивой, взбалмошной и эксцентричной. Шура верховодит, держит Валентину, по ее же собственному выражению, на поводке, и вот в пору страстной влюбленности Шуры они устраивают паломничество к дому Даниила босиком по мартовскому снегу – две восторженные поклонницы, преданные почитательницы, верные ученицы. Стоят под окнами, посмотрите на нас! Уж очень хочется, чтобы посмотрели, хотя самим и зябко (невольно поджимают пальцы босых ног и стучат зубами), и смешно. Не к лицу благовоспитанным девицам этаким способом завоевывать расположение молодых людей! Но Шура, сорвиголова, верховодит, Валентина же послушно плетется на поводке, и ветер в головах у обеих… и мысли легки, как плавающие в воздухе пушинки…
Даниил в эти легкомысленные, беспечные, счастливые годы юности словно был «под сенью девушек в цвету», девушек обворожительных, прелестных, лукавых, колких и насмешливых. Как они умели поддразнивать, заманивать, обольщать и щелкать по носу! Какие витали вокруг них флюиды, принимавшие форму недомолвок, намеков, загадочных жестов! Какие устраивались розыгрыши… психологические эксперименты… даже пытки!
Поистине, эти «девушки в цвету» были большими любительницами невинных интриг, искушенными провокаторшами, Даниил же, напротив, правдив и не искушен, прямодушен и наивен, если верить воспоминаниям Вадима Сафонова. «Я любил в нем человека неколебимой преданности тому, что считал истиной, и высочайшей честности, никогда не позволявшего себе сфальшивить ни в малом, ни в большом – ни в простом житейском, ни в идейном смысле: неразрывная связь этих двух сфер для меня несомненна», – пишет Вадим Андреевич с явным пафосом. Но мы выделим здесь то, что можно определить словами: Даниил попросту не умел врать, скрывать, утаивать. Об этом говорят все, кто его знал, да и сам он признается в письмах.
Вот и мы, следуя его примеру, не будем скрывать и утаивать… Не будем даже в том случае, если рассказанная нами история покажется далекой от школьной образцовости, но ведь мы не отметки по поведению выставляем, а пытаемся постигнуть душевный мир человека, который ставил оценки и выносил приговоры только себе и никогда – другим. Он писал о своих предшественниках: «…есть еще ряд гениев нисходящего ряда, гениев трагических, павших жертвой не разрешенного ими внутреннего противоречия: Франсуа Вийон и Бодлер, Гоголь и Мусоргский, Глинка и Чайковский, Верлен и Блок. Трагедия каждого из них не только бесконечно индивидуальна, она еще так глубока, так исключительна, так таинственна, что прикасаться к загадкам этих судеб можно только с величайшей бережностью, с целомудрием и любовью, с трепетной благодарностью за то, что мы почерпнули в них, меньше всего руководствуясь стремлением вынести этим великим несчастным какой-либо этический приговор. “Кому больше дано, с того больше и спросится”. Но пусть спрашивает с них Тот, Кто дал, а не мы. Мы только учились на их трагедиях, мы только брали, только читали написанные их жизненными катастрофами поэмы Промысла, в которых проступает так явственно, как никогда и ни в чем, многоплановый предупреждающий смысл».
«Учились на их трагедиях» – о ком это? Да прежде всего о себе, и такая учеба – если не трагедия, то уж, во всяком случае, внутренняя драма. Следы глубоко пережитых духовных драм – рубцы, отметины, ожоги – сохранились и в его стихах, особенно в циклах «Вехи спуска» и «Похмелье» (материалы к поэме «Дуггур») и в «Розе Мира». Сохранились они и в свидетельствах людей, близко его знавших (не будем их называть современниками, потому что нам они тоже близки). Мы еще вернемся к этому, постараемся бережно, с целомудрием и любовью прикоснуться к загадке, а сейчас лишь эпизод, сценка, бусинка на ладони…
Место действия – Загорск (так тогда называли Сергиев Посад), жилище Сафоновых, комнатка с низкой тахтой и изразцовой печкой. Действующие лица – приехавший погостить Даниил и Валентина, хозяйка дома. Он прикладывает озябшие руки к теплым белым изразцам, а она, по ее же собственному выражению, возлежит на тахте с провоцирующим видом этакой куртизанки, жрицы любви, эмансипированной особы. До этого они вместе с взбалмошной и эксцентричной Шурой решили, что им для полной эмансипации не хватает трех победоносных свершений: стать проститутками, совершить убийство (непременно кривым кинжалом в инкрустированных перламутром ножнах) и побывать на Тибете. Эти три азартные мысли застряли в голове, и вот следует реплика: «Даниил, вы бывали в публичном доме?» Смущенный, грустный, честный, покаянный ответ: «Да, был. Один раз». В этом ответе весь он, «никогда не позволявший себе сфальшивить ни в малом, ни в большом». И сколько таких бусинок в моей ладони – разве нанижешь на нитку!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































