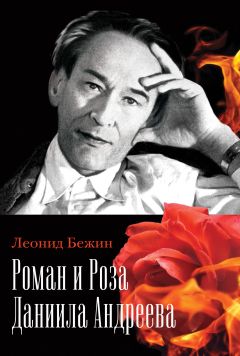
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Глава 7
Потаенное присутствие
Именно так я и принял «Розу Мира»: сначала прочел, затем перечитал, попытался вникнуть, осмыслить, соотнести, а затем сама книга стала как бы меня вбирать, затягивать, растворять в себе, и кончилось тем, что я в ней себя нашел. Вот уж поистине мистика – нашел, обнаружил свое потаенное присутствие, узнал себя, отождествил после того, как натолкнулся на место: «Хорошо быть уверенным, что книгу, которую вынашиваешь всю жизнь, когда-нибудь прочитают чьи-то внимательные глаза и чья-то душа обогатится изложенным в ней духовным опытом». Разумеется, эти слова могут относиться к кому угодно, но я готов был поручиться, что это сказано обо мне. Не знаю почему, но мне казалось, что в тот момент, когда перо автора выводило на тетрадном листке эти строки, я действительно возник перед ним, причудливо соткался из воздуха. Именно я, арбатский мальчик в шапке-ушанке, завязанной под подбородком на два бантика и четыре узла, в длинном пальто на вырост, варежках на резинке, продетой сквозь рукава, и валенках с калошами, тяжелыми, будто железные утюги. А вокруг – балаган, вертеп, цыганский табор двора, исписанные мелом кирпичные стены, ржавые пожарные лестницы, подъезды черного хода, дровяные сараи, бачки помойки, качели, столик для домино, обитый жестью, – словом, мир послевоенного Арбата, конец пятидесятых.
Мы жили в ту пору на Малой Молчановке, неподалеку от Собачьей площадки, в коммунальной квартире с длинным коридором, общей кухней и соседями. От них я вряд ли мог услышать что-то о Данииле Андрееве, хотя один из них был азартным собирателем книг (в основном Дюма), другая, худая, как оглобля, носившая длинную юбку, безрукавку и черный плат, – усердной, богомольной прихожанкой (от нее мне достались старинное Евангелие и объяснение церковных служб). На втором этаже, над нами, даже жил священник одного из чудом уцелевших арбатских храмов (из-под его пальто выглядывала ряса).
В моей семье все были сплошь неверующими, но мать прятала в шкафу маленькую икону, на которую молилась при моем рождении. Никто не водил меня в церковь, не говорил со мной о Боге, но тем не менее я с детства твердо знал, что Бог есть, и мне не надо было ничего объяснять и доказывать. Моя нянька, простая деревенская женщина, называла меня почему-то не Леонидом (это имя ее чем-то отпугивало), а Алексеем. Поглаживая меня по голове, она приговаривала: «Алексий, Божий человек», и мое сердце сладко замирало, меня, совсем маленького, охватывало непередаваемое чувство восторга, неземного блаженства оттого, что я не просто так, папин или мамин, что я – Божий. Каково же мне было потом узнать, что Даниил Андреев умер 30 марта 1959 года, в день Алексия, Божия человека!
Когда я уже учился в школе, сначала обычной, а затем английской, и атеистической пропагандой стала снова внедряться, неким образом навязываться гипотеза Штрауса[30]30
Штраус, Давид Фридрих (1808–1874) – германский философ, историк, теолог и публицист. Исходя из принципов гегелевской философии, разбирая содержание источников (главным образом Евангелий) и развивая свою теорию образования мифов, Штраус не отрицал исторического существования личности Иисуса, но находил, что бóльшая часть представлений о нем (Божественность Иисуса, Непорочное зачатие Иисуса, Воскресение, Вознесение) имеет позднейшее происхождение, и пытался выяснить, из каких греческих, еврейских и восточных элементов составились эти представления.
[Закрыть], что Христа не существовало, что это миф (ее отголоски мы слышим в романе «Мастер и Маргарита»), и мои начитанные, просвещенные учителя всячески пытались убедить меня в этом. С доброй, чуть снисходительной улыбкой они внушали на уроках, что Христа попросту не было. Вот не было – и все тут, поймите вы, несмышленыши! Глупенькие вы, поймите! Я же, слушая их, в душе молился: только бы Он был, только бы они не отняли у меня Христа, только бы всесильная наука не привела доказательство, которое заставило бы последних упорствующих, в том числе и меня, покорно склонить голову перед ее неотразимой смердяковской логикой: «Про неправду все написано»[31]31
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
[Закрыть].
Если не было Христа, если все написанное о Нем в Евангелиях неправда, выдумка, миф, то я отказывался видеть какой-либо смысл в собственном существовании, мне не хотелось жить.
Но больше всего поразило меня признание Учителя, самого любимого, обожаемого, единственного, сутулого, с покатым лбом, в очках, спущенных на нос, – он преподавал в старших классах английской школы историю. Преподавал необыкновенно, ярко, захватывающе – мы сидели притихшие и завороженные. История на его уроках оживала, обретала дар речи, мы слышали голоса, гул толпы, возгласы, выстрелы, крики. К тому же я показывал Учителю свои первые рукописи, стихи и рассказы, часто бывал у него в комнатенке под самой крышей высокого углового дома у Белорусского вокзала – бывал и школьником, и после школы, когда уже учился в университете.
Я зачитывался Владимиром Соловьевым, чьи тома из дореволюционного собрания сочинений мне давала моя наставница и… покровительница (иначе не скажешь). О да, это была дама (отчасти теософствующая) с высокой прической, изысканными манерами и грубым румянцем: она царила и покровительствовала.
Случилось так: я попал в ее языковую группу (китайского языка), она меня выделила, приблизила, стала просвещать и воспитывать. От нее я и получил Соловьева… Конечно, меня захватило, закружило и понесло, и я поехал к Учителю, чтобы поведать ему о своих восторгах. Но, к моему удивлению, он выслушал мои признания весьма холодно, безучастно, скептически, и на его лице прочитывалось выражение жалости из-за того, что вот и я поддался религиозному дурману. Я же долго не мог, отказывался понять почему. Почему я впервые не нахожу в нем желанного отклика? И тут этот добрейший, бескорыстнейший, исполненный ко всем любви и сострадания, воспитавший много поколений учеников человек произнес: «Леня, я Христа ненавижу!»
Я был потрясен этим признанием. «Может быть, не Христа, а то, что делалось в истории именем Христа?» – так я пытался себе объяснить его ненависть. Но нет, он сказал – Христа. Сказал с какой-то затаенной мукой, в которой чувствовалось давнее, еще юношеское отречение и от Бога, и от всякой церковности, мистики и проч., проч.
Словом, не только педагоги, но и Учитель ничего не мог мне рассказать о Данииле Андрееве, подвел же меня к нему вплотную университет. Собственно, я учился на факультете, который имел самостоятельное название – сначала Институт восточных языков, а затем – Институт стран Азии и Африки, ИСАА (к этим четырем буквам иногда добавляли пятую – «К», и получался Исаак, сын Авраама и Сары), и вот над ним-то мистическая дымка витала, маячили блуждающие огни теософии и антропософии. Как же иначе – востоковеды! Узкая каста посвященных в санскрит, древнекитайский, арабский, тонкости ислама и мистические глубины даосизма. Над ними, конечно, тоже простерла совиные крыла идеология, но при этом не очень клевала. Поэтому можно было если не фрондировать, то чудачествовать, и в некоторых из посвященных чудаков – угадывалось. Угадывалось нечто от последних – петербургских и московских – мистических кружков, орденов и обществ, масонов и розенкрейцеров: скажем, в академиках Алексееве[32]32
Алексеев, Василий Михайлович (1881–1951) – русский советский филолог-китаист, нумизмат, переводчик китайской классической литературы (всего за свою жизнь перевел около тысячи китайских классических произведений более 230 авторов).
[Закрыть], Конраде[33]33
Конрад, Николай Иосифович (1891–1970) – советский востоковед, доктор филологических наук, академик АН СССР (1958). В сферу интересов ученого входили японская классическая и современная литература, социально-экономическая и политическая история японского средневековья, система японского образования, классическая японская и китайская философия, лингвистика.
[Закрыть], переводчике древнекитайской «Книги перемен» Юлиане Щуцком[34]34
Щуцкий, Юлиан Константинович (1897–1938) – русский филолог-востоковед, философ, переводчик. Известен главным образом благодаря классическому переводу и интерпретации «Книги перемен» – одного из канонов китайского пятикнижия.
[Закрыть], их менее именитых учениках и последователях.
Университет вплотную подвел, но и сам я сделал важный шаг, когда, отказавшись от малайского, вторым восточным языком выбрал древнекитайский и под водительством его великого знатока Артемия Михайловича Карапетьянца[35]35
Карапетьянц, Артемий Михайлович (1943–2021) – советский и российский филолог-китаист, лингвист, текстолог, профессор. Историк китайской философии.
[Закрыть] погрузился в конфуцианскую премудрость и мистические глубины, пучины, бездны даосских философов Лао-цзы и Чжуан-цзы. Не забыть мне зимние каникулы на третьем курсе, которые я просидел за письменным столом в восторгах и муках, без комментариев, с одним только словарем (китаисты знают, что это такое), переводя танского поэта Мэн Хаожаня[36]36
Хаожань, Мэн (689/691–740) – китайский поэт, живший во времена империи Тан. Поэт оказал значительное влияние на современных ему и последующих танских поэтов, главным образом из-за разработки темы природы.
[Закрыть].
Не забыть мне и блаженную весну в Крыму, проведенную с его предшественником Тао Юаньмином[37]37
Юаньмин, Тао (365–427) – китайский поэт. Сохранилось около 160 стихотворений поэта. Сквозной мотив творчества – уход от мира. Одно из самых известных его поэтических произведений – утопия совершенной жизни поэма «Персиковый источник».
[Закрыть].
К тому же в старой университетской библиотеке хранились книги из дореволюционных фондов, и можно было взять домой того же Бориса Зайцева, Ремизова[38]38
Ремизов, Алексей Михайлович (1877–1957) – русский писатель, художник, каллиграф. Один из виднейших представителей русского модернизма (часто причисляем к символистскому направлению).
[Закрыть], Замятина[39]39
Замятин, Евгений Иванович (1884–1937) – русский и советский писатель, публицист и литературный критик, киносценарист. В 1920 г. закончил работу над знаковым романом «Мы», с которого начался расцвет жанра антиутопии.
[Закрыть]: пожелтевшие страницы, старинный шрифт – какая опьяняющая, головокружительная радость! И конечно же, для меня, молодого человека, имели особое значение незабываемые встречи с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым[40]40
Аверинцев, Сергей Сергеевич (1937–2004) – советский и российский филолог, культуролог, анагност, историк культуры (в том числе христианской), философ, литературовед, библеист, переводчик и поэт.
[Закрыть], Алексеем Федоровичем Лосевым[41]41
Лосев, Алексей Федорович (в монашестве Андроник) (1893–1988) – русский советский философ, антиковед, филолог, переводчик, писатель. Православный монах в миру́.
[Закрыть] и Львом Николаевичем Гумилевым[42]42
Гумилев, Лев Николаевич (1912–1992) – советский и российский ученый, писатель и переводчик. Археолог, востоковед и географ, историк, этнолог, философ. Создатель пассионарной теории этногенеза. Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
[Закрыть], сыном любимого Даниилом Андреевым поэта, – встречи, о которых, надеюсь, когда-нибудь напишу (сейчас это увело бы нас от темы).
Так я постепенно от Владимира Соловьева (его большой портрет висел у Даниила Андреева в простенке между книжными шкафами) подбирался к «Розе Мира», пока, наконец, не прочел и ее, а затем и грандиозный поэтический ансамбль «Русские боги» и «Железную мистерию», ранние циклы стихов, но именно «Роза» стала для меня главной книгой Даниила Андреева, в которой я к тому же был угадан и предсказан.
Итак, Роза (без кавычек), но ведь при этом был и Роман. Да, сожженный на Лубянке роман Даниила Андреева «Странники ночи», из-за него арестовали и осудили на разные сроки, отправили по тюрьмам и лагерям его и близких ему людей, кружок читателей и посвященных. Роман большой, сложный, многоплановый, каких немного в русской литературе, и конечно же он меня чаровал, жгуче притягивал, томил мое воображение, мне мучительно хотелось хоть что-то о нем узнать, раздобыть хотя бы крупицы сведений и по отдельным упоминаниям, штрихам, деталям – попытаться восстановить.
Да, сожженный – восстановить (воскресить): как увлекала меня эта задача! Восстановить не только ради самого романа. Ведь образы его автобиографичны и многое раскрывают в самом авторе, позволяют заглянуть в глубины его души, распознать в ней что-то скрытое и затаенное. К тому же все творчество Даниила Андреева я мысленно разделял на Роман (ранний период) и Розу (поздний период). Именно Романом увенчивались ранние поэмы и циклы стихов – неоконченная «Песнь о Монсальвате», «Янтари», «Лесная кровь», «Немереча», «Московские предвечерия». Точно так же, как «Роза Мира» была завершением, венцом для «Русских богов», «Железной мистерии».
Но при этом на меня словно бы возлагалось поручение – не только узнать, но и рассказать, поведать людям о Романе и Розе, и события моей дальнейшей жизни неким таинственным образом открывали мне то, без чего я никогда не смог бы выполнить порученное.
Глава 8
Встреча в Лавке писателей
Теперь от завязки – к сюжету!
Началось все с неожиданной встречи – где и когда? – да уж лет двадцать назад, еще при советском режиме, в одном из тех мест, где и положено было встречаться литераторам, – в книжной лавке на Кузнецком Мосту, но не на первом этаже, доступном для всех покупателей, а в некоем секретном помещении без окон, куда вела глухая и узенькая деревянная лестница – настолько узенькая, что двоим не разойтись – и куда гуськом поднимались избранные, допущенные в святое святых, ведомственный книжный распределитель. Там на столик выкладывались книги, которых на первом этаже не было и не могло быть, особый дефицит, великие шедевры, сокровища мировой словесности. Но это еще только святилище, святое святых же находилось за дверью маленькой комнатки. Чтобы проникнуть туда, надо было сделать ритуальный знак, многозначительно улыбнуться и шепнуть загадочное слово Верховному распорядителю. Если он соблаговолит, то пропустит счастливчика в потаенные кладовые, остальным же причитающиеся им сокровища выносятся служительницами на хрустальном блюде, и уж тут только успевай запустить пригоршню в гору жемчуга, серебра и злата… Я, признаться, не успевал, и мне оставалось лишь поднимать закатившиеся в щель пола жемчужины и серебряные монетки.
И вот однажды, когда я пристально высматривал их, извлекал из щели, тер о рукав и подносил к свету, ко мне обратился очень странный по виду, сухонький, сгорбленный и словно бы уплощенный, почти фанерный старичок. Его черты улавливались только в профиль, анфас же зыбились, расплывались и исчезали. Он обратился с каким-то вопросом, и мы разговорились, – ну, естественно, о чем же еще беседовать литераторам! – сначала о книгах, о тех жемчужинах и монетках, которые он тоже высматривал на полу. Чувствовалось, что странному, фанерному старичку – энергично жестикулируя, он весь словно торчал, растопыривался, как сказочный Ивашечка, заталкиваемый в печь Бабой-ягой, – очень хотелось поговорить, и постепенно мы перешли на другие темы. Когда разговор вплотную подвел нас к черте, отделяющей посторонних от знакомых, он назвал свое имя – Виктор Михайлович.
Назвал и как-то очень значительно, почти торжественно и вместе с тем грустно добавил: «Я последний поэт-акмеист». Возможно, он сказал «символист» или упомянул иное поэтическое направление конца XIX (начала XX) века, точно не ручаюсь. Но смысл был тот, что он не средний из этих, гуськом карабкающихся по лестнице, а последний из тех, далеких, настоящих, великих. Сам-то, может быть, и не великий, но все-таки из тех и поэтому настоящий – таков был смысл его слов, в подтверждение которых он сослался на Ахматову: вот, мол, когда-то был знаком и даже удостоился похвального отзыва о своих стихах.
Заметив, что я готов усомниться – казалось невероятным так вот запросто, в книжной лавке встретить знакомого Ахматовой, – старичок объяснил, каким образом он познакомился с великой поэтессой: сидел в лагере вместе с ее вторым мужем, и это послужило поводом… «Ах, значит, он к тому же и сидел!» – подумал я, понимая, что передо мной человек замечательный, редкий и необыкновенный. Действительно, побывал в печи – сравнение с Ивашечкой возникло неслучайно.
Но главное ожидало меня впереди. Убедившись, что мои сомнения исчезли, Виктор Михайлович решил сразить меня окончательно, спросив, читал ли я «Розу Мира» (на что я с жаром ответил: «Разумеется!.. Конечно!»), доверительно поведал мне о своей дружбе с ее автором. Не о знакомстве, для которого нужно выискивать повод, а именно о дружбе – юношеской, восторженной, интимно-близкой, возвышенно-романтической и, я бы уточнил, закадычной. Уточнил, поскольку это слово придает отвлеченной романтике нечто связанное с местом и временем – Москвой конца тридцатых – начала сороковых годов, косынками, кепками, футболками со шнуровкой на груди, лязгающими на стыках рельсов трамваями, дровяными сараями и чадящими керосинками (это вам не Тюбинген и не Марбург!).
Оба юных романтика писали стихи, увлекались искусством, да и жили по соседству, один – в Малом Левшинском переулке, другой – в Трубниковском. Разделял их лишь Арбат и Собачья площадка – как не сдружиться! Когда я об этом услышал, на меня нахлынул блаженный озноб, внутри все сладко заныло и в душе причудливо соединились два противоположных ощущения – реальности и совершенной невероятности.
Затем к ним добавилось третье – сострадания и невольной жалости. Глядя на пальто, ботинки и шапку, в которые был одет Виктор Михайлович (а собственно, там и глядеть-то было не на что!), я с болью почувствовал: друг Даниила Андреева и близкий знакомый Ахматовой, последний поэт-акмеист потому-то последний, что безнадежно одинокий. От одиночества и заговорил со мной, наверное, и в лавку пришел за этим, не столько купить, сколько поговорить. Те, кто покупает, покупают молча, а Виктор Михайлович и книжку-то держал перевернутой, зато, разговаривая со мной, жадно смотрел мне прямо в глаза, словно что-то высматривая, что-то с надеждой выискивая, спасаясь от одиночества, невольной мысли о возвращении в пустую комнатенку на окраине Москвы, о тоскливом свете лампы и сиротливом кресле.
С той же надеждой он предложил записать его телефон. Обычно с надеждой спрашивают, он же с надеждой предложил: «Быть может, запишете?» И молча, лишь выражением скрытой мольбы в глазах добавил: «…и позвоните?» Я, конечно, записал и пообещал позвонить, тем самым стараясь как можно участливее ответить на его молчание.
Мы вместе спустились сначала по узкой лесенке на первый этаж, а затем по Кузнецкому Мосту на Неглинку. Тут мы простились. Пожимая руку Виктору Михайловичу, я заметил, что он словно бы уже вернулся в свое одиночество и поэтому прощался со мной как с человеком, от него отдалившимся, чье вторичное приближение (позвонит и придет) казалось уже менее возможным и не столь желаемым (еще позвонит, да и придет!). Я же прощался с ним как с другом Даниила Леонидовича и последним акмеистом, поэтому вдвойне желал, жаждал этого прихода, изнывал от нетерпения, и лишь несбывшаяся возможность могла вызвать во мне такое же ответное чувство одиночества.
Через несколько дней я позвонил, и дернула же меня нелегкая сказать, что я приду с другом! И это при той боязни вторжения, столь свойственной одиноким людям, которая промелькнула и в глазах Виктора Михайловича. Сказал бы «один», и он скорее всего согласился бы меня принять, но друг мой тоже был усердным читателем «Розы Мира», даже считал себя в некотором роде знатоком, специалистом, авторитетно произносил названия иноматериальных слоев Земли, куда нам суждено попасть после смерти, – Олирна, Нэртис, Скривнус, Ладреф, Мород. Вот я и решил нагрянуть вместе с ним, чем конечно же смутил Виктора Михайловича. Он поторопился сослаться на плохое самочувствие и перенести визит на неопределенное время.
Короче говоря, не получилось, не сбылось, и, когда я положил трубку, мне ударил в глаза тоскливый свет лампы, я уселся в сиротливое кресло и обвел обреченным взглядом свою одинокую комнату…
Глава 9
Квартировала в доме
Что же дальше? Дальше в моей истории замаячил пробел, который искушенные рассказчики прежних времен заполняют словами «шло время». Ну что ж, пусть так и будет: время шло, и я лишь с досадой вспоминал о неудаче. Позвонить еще раз? Но не будет ли это навязчивым и бесцеремонным?! Почаще заглядывать в книжную лавку? Но судьба сама назначает такие встречи, и можно наняться в лавку продавцом или даже мыть там полы и все равно не встретить человека, который тебе так нужен (скажем, ты на минуту вышел, а он вошел – вот и не совпало). Поэтому я выбрал самый надежный способ добиться желаемого – просто стал ждать, следуя пoговорке: настанет время, будет и пора, и на месте моего пробела причудливо возник знак, посланный мне самой судьбой.
Судьба! Лишь ее незримым вмешательством можно объяснить, что я случайно оказался в редакции маленького журнала, занимавшей одноэтажный флигелек неподалеку от Петровского бульвара… случайно услышал в разговоре дорогое для меня имя и познакомился с человеком… Но прежде чем рассказать об этом, мне хочется не столько набросать портрет одного человека, сколько вывести лицо характерное, обрисовать тип, который я называю… московский бродяжка. Тип – отчасти нынешний, отчасти уходящий вместе со старой, позднесоциалистической, брежневской Москвой. Я называю его так без всякой насмешки и стремления обидеть тех, кто относится к этому распространенному типу. Напротив, эти люди вызывают у меня чувство восторга, умиления и зависти. Я и сам бы не прочь побродяжничать таким способом, но, увы, ничего не получится. Это люди совершенно особого склада, можно сказать, особого дара, который дается не каждому, и я им, к сожалению, обделен, поэтому мне даже, признаться, завидно.
Одеты брежневские бродяжки обычно в то, что долго носится, не мнется и не требует стирки: потертые и залатанные джинсы, шерстяной свитер до колен, на ногах некая походная обувь, баскетбольные кеды или экзотические войлочные ботинки с вышивкой. На плече холщовая сумка, как у буддийских пилигримов (вариант – за спиной рюкзачок), волосы стянуты резинкой на затылке, в ухе серьга, в глазах – рассеянно-мечтательная дымка.
Пригласишь в гости – останутся ночевать, затем побудут еще день, а затем и на неделю задержатся. Не на чем спать – устроятся на полу, постелив себе свитер, который служит и одеждой, и постелью. Если в доме нечего есть, наскребут по карманам медяков, займут у прохожих на улице и купят в булочной буханку ржаного хлеба: поджаристую корочку – себе, а мякиш – голубям. Если им наскучат хозяева («Дорогие гости, не наскучили ли вам?..») или хозяев начнет тяготить их присутствие, хотя люди они по духу легкие и необременительные, без всякой обиды накинут на плечо сумку, распрощаются и уйдут, чтобы таким же способом поселиться у других. Так и кочуют по Москве: нынче – здесь, завтра – там. При этом умудряются числиться в неких заоблачных аспирантурах, писать мифические диссертации, получая за это вполне реальную стипендию.
Одним словом, как определено восточным классиком, любителем необыкновенных личностей, люди совершенно удивительные, и вот с таким человеком я познакомился в редакции. Джинсы, свитер, холщовая сумка – все как полагается. Но в чем я сразу угадал знак, мой бродяжка (вернее, моя, поскольку это была миловидная девушка, маленькая, худенькая, с короткой стрижкой) квартировала в ту пору не где-нибудь, а в доме АЛЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ, вдовы Даниила Леонидовича. Это имя я набираю большими буквами, и если бы была возможность, раскрасил бы его разноцветными красками и окружил радужным сиянием. Без этого человека я никогда не узнал бы того, что мне нужно было узнать, не побывал там, где должен был побывать, и – извиняюсь за длинный перечень – не постиг бы того, что надлежало постигнуть.
Теперь я могу назвать и имя автора воспоминаний, на которые уже не раз ссылался, – это конечно же Алла Александровна. В ноябре 1999-го она подарила мне свою книгу, названную по заглавию ненаписанной поэмы Даниила Леонидовича, – «Плаванье к Небесному Кремлю», пригласив к себе в Брюсов переулок. Это оказалась наша последняя встреча. Может быть, поэтому Алла Александровна, уже слепая (буква «и» в моем имени слилась с «д»), так и надписала ее: «На долгое плаванье», словно прощаясь и напутствуя…
Я, конечно, прочел ее жадно, от корки до корки, а затем еще и перечитал. Это удивительная книга о том чудовищном времени, об арестах, допросах, тюрьмах, лагерях и о людях, не согласившихся «подлинное» мешать с «подленьким» (как из лучших побуждений предлагал Корней Чуковский). Горло перехватывает, когда читаешь иные страницы, а иной раз улыбаешься и даже смеешься.
Я нашел там многое из того, что уже слышал от Аллы Александровны, записал и запомнил, но и открыл для себя нечто совершенно новое. В частности, я понял, что бродяжка – это было уже завершение большого периода в жизни Аллы Александровны, который, по ее словам, начался с семьдесят восьмого года: «Постепенно вокруг меня появилось много молодежи. Так, в один прекрасный день возникли Алхимик и Валера, им было по восемнадцать лет, хиппи с длиннющими волосами, увешанные бусами. Им попали в руки какие-то обрывки ксерокопий “Розы Мира”. Они пошли меня искать – и нашли».
А вот совершенно очаровательная, вызывающе экстравагантная, в духе Аллы Александровны сцена: «С компанией хиппи я гуляла по Москве. Мне было уже к семидесяти, я надевала строгий костюм и строгую черную шляпу, а хиппи выглядели так, как им и полагалось. В таком виде мы выходили из дома, и из подворотен появлялись новые хиппующие личности и присоединялись к нам. Мы ходили по улицам и разговаривали обо всем на свете».
Она и на отпевании Даниила Леонидовича была в белом подвенечном платье, ведь они обвенчались незадолго до его смерти, и он сказал, что их истинный венец будет там, на небесах…
Однако не буду забегать вперед. В разговоре был упомянут Даниил Леонидович, и я вмешался. Когда выяснилось, что маленькая бродяжка знакома и даже дружна с Аллой Александровной (в дальнейшем я и сам убедился, что ее дом открыт для самых разнообразных московских типов – от бродяг и хиппи до бывших политических заключенных, подпольных философов, священников и т. д.), я сразу предложил план: давайте издадим сборник!
Сам я в то время работал в издательстве и даже, что называется, занимал кресло. Вот меня и увлекла идея не просто издать тексты Даниила Леонидовича, но и попытаться собрать то, что воссоздало бы литературно-философскую атмосферу вокруг него, – письма, воспоминания, автобиографические заметки. Если не сделать этого сейчас, драгоценные свидетельства могут оказаться навсегда утраченными: блекнут чернила, истлевает бумага и люди, кого мы именуем современниками тех или иных событий, стареют и уходят. Вот и надо попытаться, пока не поздно… И главное, о чем я мечтал, – издать воспоминания самой Аллы Александровны, о которой я уже многое знал, слышал и даже читал, теперь же предстояло с ней познакомиться и поговорить. На следующий день я позвонил, представился, и мы условились о встрече.
Да, читал, слышал, знал, и уже сложилось некое представление, разумеется, весьма расплывчатое, приблизительное, связанное с собственными домыслами и догадками, но я ожидал увидеть этакую теософствующую даму – строгое пенсне со шнурком, в наглухо застегнутом платье, с каким-нибудь мистическим талисманом на груди, с пепельными волосами, уложенными в высокую прическу, и странным, воспаленно-пронзительным взглядом расширенных глаз. Вот так я себе ее воображал, отдаваясь свободному полету фантазии, который был прерван торопливыми шагами за дверью, поворотом ключа в замке и услышанным мною возгласом приветствия, таким старомосковским: «Здравствуйте! Милости просим!»
Вместо теософствующей дамы я увидел русскую женщину с лицом страдальчески иконописным, словно бы исплаканным, отмеченным печатью глубокого горя и в то же время неистребимо живым, с постоянно меняющимися выражениями – от внушительной серьезности до наивной, легкомысленной веселости, отваги, вызывающей бравады. Черты лица крупные и словно бы стянутые в одну точку, как это бывает у той породы лесных обитателей – лисиц или белок (Даниил Андреев в письмах ласково называл жену Кротик), которые вечно хлопочут, озабоченно и напряженно выискивают корм для своего семейства, припадают к земле, всматриваются, вслушиваются, сторожат, стараясь предугадать надвигающуюся опасность. Никакой мистической диадемы, перстня или талисмана – простое платье, подчеркивающее стройность фигуры и передающее удивительную легкость движений и жестов.
«Сколько же ей лет?» – задал я себе тогда вопрос. Судя по тому, что она вдова поэта, родившегося в 1906 году (пусть она даже на десять – пятнадцать лет моложе), должно быть много, но ведь никогда не скажешь! Разве что лицо в морщинках, но есть такие морщинки, которые словно бы светятся, сияют, лучатся, не признак старости, а признак душевного опыта, доброго отношения к людям и неиссякаемой любви к жизни…
В комнате много икон… Распятие… Библия… Но дух жилища скорее светский, интеллигентский, артистический, не ограниченный в пространстве книжными полками и увешанными картинами стенами (если и были, их конфисковали при обыске). Собственные же работы Аллы Александровны, по профессии она художник-график, можно обнаружить где угодно – в углу, под диваном, за шкафом, но только не на стенах. Не любит, чтобы красовались, да и не придает значения собственному творчеству, не носится с ним как с писаной торбой, хотя работает всегда с увлечением. Главное – сберечь и опубликовать то, что создано мужем.
Меня пригласили к столу, накрытому с той интеллигентской непритязательностью, которая была неуловимой приметой прежней, ушедшей – беспечной и безбытной – Москвы. Откупорили бутылку вина, накрошив на скатерть сургуча и пробки, подняли рюмки, произнесли тост (московский тост – всегда за встречу), и состоялся мой первый разговор с Аллой Александровной.
Говорили мы тогда о книге: давайте соберем… давайте издадим! Больше я ни о чем не расспрашивал Аллу Александровну, а только смотрел и думал, пытался донести до своего сознания мысль, что передо мной человек, который был рядом с Даниилом Леонидовичем, жил с ним одной жизнью, разделил его судьбу. Судьбу, уготовившую ему Владимирскую тюрьму, ей – мордовские лагеря, ему – болезнь и преждевременную смерть в 1959 году, ей – еще многие годы жизни, отданные хранению его памяти, публикации книг, выступлениям перед читателями. Вышло в точности так, как он предсказывал:
Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.
Значит, этот человек вобрал, впитал, растворил в себе то, что было частью другого человека, и поэтому тот как бы жил сейчас в нем, не только воспоминанием, которое можно записать на бумаге, но и реальным присутствием, свечением, аурой. Именно эту ауру я стремился распознать, различить, поймать, почувствовать, как чувствуют кончиками пальцев покалывание электрических разрядов. Я хотел ощутить живой образ, вызвать из небытия живой дух человека, автора любимых книг, а последующие расспросы должны были облечь его плотью конкретных фактов, штрихов и деталей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































