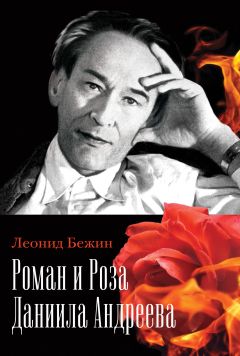
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Глава 16
В подполье бомбы делали
У Вадима Андреевича Сафонова мы засиделись допоздна, и не было конца разговорам, рассказам, воспоминаниям на кухоньке, под низкой настольной лампой. Кое-что из этих воспоминаний записано им самим, кое-что записал я, остальное же пускай остается не записанным, а просто бывшим, случившимся, отчеркнутым на полях жизни, по выражению Пастернака: «Места и главы жизни целой // отчеркивая на полях». В этом тоже есть свой смысл: не записать, а оставить, не помнить, а забыть, запамятовать, предоставить прошлому как прошлому, жизни как жизни. Мы стремимся всё знать о Пушкине, но не дай нам Бог все знать о нем. Пушкин для нас исчезнет, потому что жизнь потаенна, а память избирательна. Лишив ее этого свободного и прихотливого выбора, мы превращаем живое чудо чьих-то восторгов, прозрений, догадок, взлетов, падений и ошибок в сухие и мертвые факты биографии…
Поэтому я навинчиваю колпачок на самопишущую ручку с вечным пером, прячу в стол записную книжку с тисненой обложкой, отодвигаю в сторону прочие загадочные предметы, относящиеся к разряду писчебумажных, и мы с Вадимом Андреевичем идем в Малый Левшинский. Он, немного грузный, но подвижный, энергичный, с ершиком седых волос, идет впереди, а я, странствующий энтузиаст, следом за ним, едва поспеваю. Идем, перешагивая через мутные, вспенившиеся ручьи и перебираясь по доскам через лужи – в Москве весна… и все вокруг словно бы вздохнуло, ожило и распрямилось. Солнечные молнии зигзагами сверкают в окнах, течет с крыш, капает с карнизов, хлещет из водосточных труб, и черный ноздреватый снег кажется уже нездешним, отрешенным, призрачным…
Вот и Малый Левшинский.
– Ну что же, Вадим Андреевич, где стоял дом? Показывайте!
– Подождите, подождите, сразу и не вспомнить…
Вадим Андреевич недоуменно и слегка растерянно оглядывается, пытается сообразить, сориентироваться…
– Как будто здесь, но полной уверенности нет… Давно не был на этом месте, и вот, пожалуйста… и не думал, что все так изменилось.
Не думал, хотя сам же написал в воспоминаниях, что дома больше не существует, да и самого переулка тоже: «Название притулилось на жалком обрывочке, на одном из двух-трех сиротливых домков». Именно домков, сиротливых и как бы сплющенных, ужатых, утесненных. Но где же среди них?.. На всякий случай спрашиваем у здешних жителей, уточняем, наводим справки, но разве их найдешь, здешних-то, все приезжие!
Какая-то женщина с удивительно правильным русским выговором – тоже находка! – не помнит дома, но помнит Вадима Андреевича по одному из его выступлений. Читательница! И все же дом… где он был, несуществующий дом в несуществующем переулке?! Да здесь же… конечно, здесь, перед детской площадкой, своей унылостью напоминающей зверинец: то ли качели, то ли карусели – веселись, детвора!
С неким облегчением вздыхаем – все-таки нашли. Существует! Дом Добровых. Однако постойте… не он ли упоминается у знаменитого мемуариста? «…Дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали под полом; это открылось позднее уже», – пишет в воспоминаниях Андрей Белый[56]56
Белый, Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) – русский писатель, поэт, математик, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом.
[Закрыть].
«Тот ли это дом Добровых?» – спрашиваю я вечером, позвонив по телефону, у Рустама Рахматуллина[57]57
Рахматуллин, Рустам Эврикович (р. 1966) – российский писатель, эссеист, журналист, москвовед и культуролог. Один из основателей общественного движения «Архнадзор» и журнала «Московское наследие».
[Закрыть], большого знатока Москвы, каждого переулка, каждого дома. Нет, упомянутый у Белого дом не тот, который мы ищем, но похожий. А бомбы… их тогда могли делать где угодно, в любом подполье. Их закладывали под брусчатку мостовых, где должен проехать важный чин, губернатор или сам царь. Закладывали, не подозревая о том, что заложенная в начале века (таково название мемуарного тома Белого) бомба взорвется во второй половине, в шестидесятые годы, и все взлетит на воздух. Площадка-зверинец для одичавших детей – это уже на обломках…
Сон Аллы Александровны той поры, рассказанный мне, а затем описанный в ее воспоминаниях «Плаванье к Небесному Кремлю»: малолевшинский дом, комната, где они жили с мужем, он то ли полулежит, то ли как-то странно сидит. Она хочет подойти, прикоснуться, обнять, и под ее рукой все рассыпается, словно истлевшая мумия, все оказывается прахом. На следующий день Алла Александровна приезжает в Малый Левшинский, а дома уже и нет – снесли. Не существует, и только «выскок из тьмы – вспышка магния снова».
В своих воспоминаниях Белый так рассказывает о встрече с Леонидом Андреевым: «Скоро мы встретились: в той же квартире, у доктора Доброва. Андреев собирался переезжать в Петербург, меня долго расспрашивал об А. М. Ремизове и Блоке, с которым он только что встретился. С Блоком я был тогда на ножах; зная это, он точно нарочно меня на него поворачивал, пристально вглядываясь и точно изучая мои слова о Блоке; мы пошли от стола, точно выдернувшись из беседы (кто был за столом, я просто забыл), ставши в тень; что-то высказал мне он, выскакивая из-за стола и занавес приподымая над всей ситуацией нашего глупого быта, в котором Борис, Леонид Николаевич занимают не то положение друг относительно друга, какое должны бы занять: повторяю, что так отдалось мне; а что сказано было, опять не помню.
Пожалуй, и помню: не фразу, а среднюю часть ее, без окончания и без начала: “Как странно!”»
Странная фраза без начала и конца, произнесенная там, где мы стоим, и само место отдается в нас так же, как некогда отдавалось в Андрее Белом, авторе этих воспоминаний. Странная фраза, странный дом, странные люди, странная жизнь, не только их, ушедшая, но и наша, нынешняя. У них в подполье бомбы делали, а у нас детская площадка с чудовищным металлическим скрежетом качелей… каруселей… чего-то соделанного (содеянного не как вещь, а как злодейство) из гнутых и крашеных труб…
Мы с Вадимом Андреевичем тогда сели на лавочку, задумались, каждый о своем, ведь он современник, а я сопространственник, и то, что для него было, для меня есть! Есть и бомбы, и гнутые трубы, и металлический скрежет, и странная фраза, и странная жизнь – все одновременно. И рядом со всем этим Даня, Даниил, Даниил Леонидович – одновременно и шести-семилетний мальчик, по рассказам Аллы Александровны, заглядывающий из-за приоткрытой двери (велено ложиться спать) в комнату, где собрались взрослые, маститые литераторы, знаменитости тех лет, кумиры читающей публики, и романтически красивый юноша с белым отложным воротничком, пишущий стихи и прозу «круглым своим почерком, на больших листах» (позднее я увидел фотокопии рукописей: почерк действительно круглый, а листы большие), и заключенный с малярийным цветом кожи, одетый в темно-зеленый тюремный халат, и освободившийся из заключения, совсем не романтический, подчеркнуто обычный, как бы простой, вписывающийся в образ демократичного конца пятидесятых, и уже нездешний, несуществующий, отлетевший душой, приснившийся в страшном сне своей вдове.
Была ли в доме мистика – не условно-литературная, в духе Белого, Блока и Леонида Андреева, а подлинная, основанная на внутреннем опыте, на сокровенных духовных переживаниях? На этот вопрос мне не ответили ни Вадим Андреевич, ни Валентина Гурьевна. Им было вполне достаточно мистики тогдашней жизни, мистики кошмара и абсурда тридцатых годов, мистики тех двойственных определений – вот и обещанная разгадка! – которые распространялись и на облик человека, и на характер общества, и на уклад жизни в целом. Лагерь был стройкой, а стройка – лагерем, монастырь (Соловки) – тюрьмой, а тюрьма – монастырем, смелость соединялась с опасливостью, героизм с рабством, энтузиазм с тупым автоматизмом, и наоборот – автоматизм с энтузиазмом, рабство с героизмом, опасливость со смелостью. Это и порождало странную, причудливую, гротескную мистику, сквозящую в некоторых рассказах Валентины Гурьевны.
К примеру, как она донимала одного из знакомых (второго мужа подруги Шуры) тем, что, догоняя его на улице Горького, шептала ужасные вещи о Сталине, а он, словно ужаленный, пригибал голову, оглядывался, озирался: не слышал ли кто часом?
Или, скажем, как овдовела хозяйка, у которой некоторое время снимали квартиру на Малой Лубянке (в «Щелочке» – как называли между собой эту узенькую улочку, прилегавшую к каменной громаде НКВД). Она гуляла в лесу с любимым мужем, испытанным сотрудником органов. И вот как бы в шутку воспроизводя знакомую ему по службе ситуацию, он велит ей: «Ты беги, а я буду стрелять». Она бежит, он стреляет. Она – в шутку же! – возьми и упади, а он – всерьез! – возьми и застрелись.
После такой мистики у Валентины Гурьевны и Вадима Андреевича не оставалось никакого желания замечать другую, из-за которой можно было и в лагерях побывать. Поэтому для меня особенно символично, что заметили иную, сокровенную мистику именно побывавшие – Алла Александровна Андреева и Виктор Михайлович Василенко (их арестовали по одному делу с Даниилом Андреевым).
Глава 17
Коваленский
Вот и настало время для того, чтобы назвать имя загадочного персонажа, к появлению которого я так долго готовил читателя. Иными словами, третьего человека, жившего в доме Добровых, хотя с ним мне встречаться не довелось, – Александра Викторовича Коваленского[58]58
Коваленский, Александр Викторович (1897–1965) – троюродный брат Блока и сам оригинальный поэт-мистик. С юности он был нездоров, у него был туберкулез позвоночника. Поселившись в доме Добровых, сблизился с Даниилом Андреевым, на которого оказал большое влияние.
[Закрыть], того самого Бишу, как прозвали его в доме Добровых (у Даниила было прозвище – Брюшон). Он был поэтом, переводчиком, троюродным братом Блока, женатым на Шуре, дочери Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны: «Вокруг порхало два пухлогубых “зефирика”, Лиза и Саша, дети В.М.». Один из «зефириков» – будущий Александр Викторович, с чьим отцом, Виктором Михайловичем, приват-доцентом по кафедре механики Московского университета, и дружил Андрей Белый, автор цитируемых воспоминаний. Таким образом, Коваленский-младший как бы уже обозначен, назван, литературно рожден, он присутствует среди великого множества персонажей мемуарных томов Белого. Но какая судьба уготована пухлогубому «зефирику», этого Белый предвидеть не мог.
Александр Викторович не только заметил ту самую сокровенную мистику, судя по всему, он и сам был настоящим мистиком. Об этом мало кто догадывался даже из близких ему людей. Во всяком случае, в тот период, когда он, потерявший жену и бóльшую часть из всего им написанного (кануло в архивах Лубянки), освободился из заключения и доживал свой век одиноким, непризнанным, надменным и неприступным поэтом – поэтом без книг, вышагивавшим с тростью по тропинкам писательской Малеевки.
С помощью Вадима Андреевича я пытался разузнать о Коваленском, по моей просьбе он звонил людям, косвенно близким… так сказать, вращавшимся около… имевшим некоторое отношение. Но у меня осталось досадливое чувство, что их интересовал лишь вопрос, как повыгоднее (в валюте) распорядиться уцелевшими рукописями, ни Вадиму Андреевичу, ни тем более мне их даже не показали.
О предполагаемом же мистицизме было заявлено: нет, и не пахло. Сам Вадим Андреевич охарактеризовал Коваленского как человека излишне рационального, рассудочного, по его выражению, механического, к тому же сухого и язвительного, что называется, неприятного. Мне сейчас нетрудно догадаться, почему сложилось такое впечатление, вернее, он сам его сложил, словно кирпичную стенку, чтобы отгородиться и за ней спрятаться. Коваленскому он был конечно же чужд. Тот воспринимал его как одного из литературной братии с Тверского бульвара, иными словами, примитивно советских. Кроме того, Вадим Андреевич всегда был бодр, оптимистичен, открыт и победоносно прост, а Коваленский – затаенно сложен. Заложив руки за спину, Сафонов напевал при ходьбе: «Трум-туру-рум», а Коваленский мог на это только саркастически усмехнуться. Поэтому он не отказывал себе в удовольствии слегка задеть, уколоть, царапнуть, и стрелы его язвительности не щадили гостя, приходившего в дом вместе с Даниилом, и гость, спасаясь от них, невольно складывал свою защитную стенку.
Но есть и иные портреты Александра Викторовича. Вот как сравнивает его и Даниила сын их близких друзей: «Я, родившийся в 1937-м, мальчиком часто видел Андреева в нашей квартире на Никольской и всегда чувствовал, что это особенный человек, постоянно общавшийся с потусторонним миром – его мирская оболочка была хрупким сосудом мистического сосредоточения. Таким же человеком – сосудом Грааля – был и Коваленский. Но Коваленский, в отличие от восторженного, увлекающегося Даниила Леонидовича, был врожденный большой барин, чуть ироничный, чуть лукавый, он обо всем вспоминал с полуулыбкой. Его революция застала эстетом-денди, блестящим богатым молодым помещиком, одним из первых дореволюционных московских автомобилистов и человеком, посвященным с детства в высшие мистические тайны».
Алла Александровна, жившая с ним в одном доме, конечно, знала, что скрывалось за его надменностью, язвительностью, сухостью и неприступностью (все эти свойства она имела возможность испытать на себе). По ее словам, поэмы Коваленского, которым подчас не хватало законченности и завершенности, такие как «Корни века» и «Химеры», были овеяны неким мистически-провиденциальным духом, они словно бы предсказывали «Железную мистерию», хотя в позднем творчестве он часто старался плыть по течению и даже подгребать к берегу, где зазывно посверкивали огоньки официального признания, хвалебных статей в газетах, премий и проч., и проч.
В письме из лагеря во Владимирскую тюрьму Алла Александровна между прочим, с милой непосредственностью сообщала, что в лагерной многотиражке были напечатаны два стихотворения Коваленского – «Открытое письмо мистеру Даллесу» и «Первое мая». Она даже обнаруживала в них какие-то достоинства, никак не выражая своего отношения к тому, что это стихи дежурные, проходные, написанные к дате. В ответ Даниил Андреев написал: «Сообщение о Бише меня потрясло. Несколько дней я был сам не свой. Что он должен был пережить, чтобы сломаться так ужасно, так бесславно! Поскальзывался-то он уже несколько раз (дочь академика и т. п.), но так упасть!..» Поясним: «Дочь академика» – неоконченная повесть Коваленского, которую он писал во время войны, связывая с ней надежды на публикацию и тоже робко подгребая, стараясь приспособиться, подладиться под официально принятый тон.
Но не он один, другие не только робко подгребали, но и карабкались на берег по скользким камням, расталкивая друг друга, для Коваленского же все это было холодной игрой ума, осуществлением некоей рационалистической программы, способом самозащиты. Если Даниила в юности влекла идея духовного самоубийства (об этом еще будет сказано), то Коваленским, наученным горьким опытом тюрьмы, возможно, овладела под старость фантастическая идея или, лучше сказать, химера духовного выживания. При этом он оставался мистиком от природы, во всяком случае в ранний период, в те годы, когда они были особенно дружны с Андреевым.
Мною установлен факт, что временами Коваленский переживал совершенно необычные состояния. Как призналась в минуту откровенности Алла Александровна, «в полубессознательном состоянии он диктовал, а Даниил записывал». Вот он, один из «знатоков экстазов и восхищений», кого Даниил Андреев чувствовал рядом с собой, когда писал «Розу Мира», и с кем сверял свои мистические переживания.
При этом меж ними было одно различие, тайна которого приоткрывается в тюремных письмах Даниила Леонидовича. Странствуя по «обителям в доме Отца», иноматериальным мирам, Коваленский избегал их словесных обозначений, оставлял их неназванными, а Андреев – называл и сами миры, и их обитателей, с чем Алла Александровна была не согласна, спорила, противилась, упрямствовала. Поэтому он ей и пишет: «Ты недовольна словом стихиали. А попробуй-ка объясни это понятие иначе, но так, чтобы определение было коротко и вместе с тем сразу указывало бы, о явлениях какого круга идет речь. Биша тоже очень боялся слов. В итоге это приводило к тому, что можно было ногу сломать, пытаясь разобраться в его бесчисленных “он” и “она”»[59]59
Письмо № 44 из переписки с женой.
[Закрыть]. И названия Даниила, услышанные им, распознанные в тюремной тишине чутким ночным слухом небывалые звукосочетания – Серафимовы сухарики, небесная пища, небесная весть, прорвавшаяся из иных миров… Файр, Нэртис, Готимна, Уснорм…
Как ни относись к подобного рода фактам в наш материалистический век, вот она, подпольная, «катакомбная» мистика сталинских лет – мистика теософских кружков, разрозненных эзотерических обществ и мечтателей-одиночек! Еще жила великая духовная культура старой России, как погибшая Атлантида, посылавшая из бездонных океанских глубин мерцающие отсветы, свечения, сполохи и зарницы. Не стало больше собраний на первом этаже дома в Большом Власьевском: Бердяева в числе других замечательных отечественных мыслителей выслали из России. Русская религиозная философия здесь на время угасла, потому что требовала печатного станка, нуждалась в общественных собраниях, кафедрах, публичных чтениях, журналах и книгах, была беззащитна перед цензурой. На кафедры взгромоздилась другая, так называемая марксистско-ленинская… Но не угасла мистика, не угас непосредственный духовный опыт, в каких бы формах он ни проявлялся – в форме церковной службы, соборной молитвы или уединенных мистических откровений.
Об этом писала в предисловии к «Розе Мира» Алла Александровна Андреева: «В такое время, в такой атмосфере возникает… живое ощущение основного противостояния: Бог – и – дьявол. И все, кто служит Богу или тихо и неумело стремится к Нему каким-либо путем, – спутники». Именно спутники на духовном пути, и никакой цензор не наложит запрет на их совместное творчество, даже самый жестокий и беспощадный, будь это сам дьявол или его ближайшие «оперуполномоченные».
Вот в переулках Арбата и Пречистенки, в домах, подобных малолевшинскому, и во множестве других мест встречались… спорили… обсуждали, и хотя это было «против течения», все равно было. В результате «погибшее зерно дало много всхода», и мы читаем теперь книги Лосева и Бахтина[60]60
Бахтин, Михаил Михайлович (1895–1975) – русский философ, культуролог, литературовед, теоретик европейской культуры и искусства. Автор нескольких лингвистических работ, посвященных общетеоретическим вопросам, стилистике и теории речевых жанров. Интеллектуальный лидер научно-философского круга, который известен как «Круг Бахтина».
[Закрыть], Карсавина[61]61
Карсавин, Лев Платонович (1882–1952) – русский религиозный философ, историк культуры, медиевист, поэт.
[Закрыть] и Флоренского[62]62
Флоренский, Павел Александрович (1882–1937) – священник Русской православной церкви, богослов, религиозный философ, поэт, ученый, инженер. Был расстрелян в 1937 г.
[Закрыть], «Этногенез и биосферу Земли» Гумилева и «Розу Мира» Даниила Андреева.
Что именно являлось Коваленскому в минуты его необычных состояний, я так и не узнал, не потому что Алла Александровна была со мной не до конца откровенна, а потому, что она сама не знала. Даниил Леонидович дал слово молчать и в эту тайну не посвятил даже свою жену. Да она и не расспрашивала, верная правилу никогда не переступать черты, не нарушать запрета, не стремиться проникнуть туда, куда доступ закрыт, дверь заперта и ключ потерян. Слово есть слово.
Лишь однажды Алла Александровна услышала от мужа, что они с Коваленским обсуждали тему о перенесении Монсальвата в Гималаи. Интереснейшая, надо признать, тема, пунктирно обозначенная в «Розе Мира», хотя там речь идет не столько о Гималаях, сколько о Памире. «Монсальват – затомис метакультуры европейского Северо-Запада, Американского Севера, а также Австралии и некоторых частей Африки: самый географически обширный и расчлененный из всех затомисов. Основатель Монсальвата – великий человекодух Титурэль, связанный с Христом задолго до воплощения Спасителя в Палестине. Так же, как Лоэн-грин и Парсифаль[63]63
Герои немецких произведений о короле Артуре. Сын Парсифаля, Лоэнгрин – рыцарь Святой чаши Грааля, посланный в лодке, которую тянут лебеди, чтобы спасти деву, она никогда не должна спрашивать о его происхождении.
[Закрыть], он является не легендарным героем, а реально существовавшим некогда в Энрофе (хотя и не в Палестине) человеком. Грааль содержит эфирную кровь Христа, пролитую им на Голгофе… Центр Монсальвата, ранее связанный с системою Альп, в конце Средних веков переместился далеко на Восток и теперь находится в связи с Памиром (причины этого очень сложны)».
Читая «Розу Мира», мы вновь и вновь делаем вывод, отчасти банальный в своей очевидности: мистические факты, явления, не доступные физическим органам восприятия; события, происходящие на иных планах бытия, так же реальны, как факты, явления и события нашей жизни. А может быть, и более реальны, иначе бы Даниил Андреев не написал бы в письме жене, чье мироотношение он назвал реалистичным: «Мое же – не реалистично, а реально»[64]64
Письмо № 25 из переписки с женой.
[Закрыть]. Иначе говоря, подлинная мистика – это не то, что нам кажется, а то, что на самом деле есть, и подтверждением тому последняя история, рассказанная мне Василенко.
История случилась через много лет после смерти Даниила Леонидовича… Однажды Виктор Михайлович дожидался очереди в кабинет врача: длинный коридор, ряд стульев, унылая тишина. Напротив сидела совершенно незнакомая ему пожилая женщина, очень опрятно и со вкусом одетая. Внезапно он поймал на себе ее пристальный взгляд и несколько смутился: что бы это значило?
– Извините, пожалуйста, – обратилась к нему женщина, – вы не были знакомы с Даниилом Андреевым?
– Да, был. Это друг моей юности.
– Он сейчас стоял над вами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































