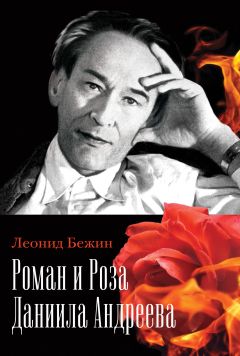
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Сознаюсь, что этот вопрос возник у меня в поезде, но Алле Александровне я задал его гораздо позже: требовалось время для того, чтобы он окончательно во мне оформился, и требовалась решимость, даже некоторая отвага, чтобы его задать. Сам Даниил Леонидович эту инстанцию намеренно не называет. Вернее, называет имена Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, показывавшего ему Агр, но с ними трудно связать все обилие сведений, полученных им эзотерическим путем, всю грандиозность открывшейся ему панорамы. 242 иноматериальных слоя, составляющих брамфатуру Земли, – он сам называет в письмах эту цифру. Блок показывал Агр, а остальные 241 кто? Собственно, названные имена призваны лишь прикровенно указать на те, что не подлежат огласке, иначе тайна не была бы тайной. Даниил Андреев эту тайну бережно хранит, так позволительно ли нам пытаться приоткрыть завесу?
Глава 21
Глазок в прошлое
Об этом еще предстоит думать, вновь и вновь задавая себе вопросы. Между тем наш поезд прибывает во Владимир. Мы высаживаемся на ночной перрон и долго отрешенно расхаживаем по вокзалу, разыскивая Виталика, который должен нас встретить. Наконец Виталик найден, вернее, найдены мы, потому что он тоже ходит и ищет, но с бóльшим успехом: первым увидел, окликнул, подбежал.
Мы протискиваемся в кабину трудяги-автомобиля, приспособленного явно не для парадных, а для будничных семейных выездов, и с заднего сиденья на нас таращат глаза детишки, с переднего же бесстрастно, «в спокойствии чинном» посматривает отец Виталика: он за рулем, при исполнении…
Пока едем, он успевает рассказать, что здешние краеведы, в том числе и они с женой, получили вожделенный доступ к тюремной картотеке. Установлено, что Даниил Леонидович сидел в сорок пятой камере – это как раз в том корпусе, даже в том коридоре, где будем мы. Значит, увидим! Увидим именно ту или одну из тех, поскольку Алла Александровна уточняет, что он сидел в нескольких камерах, а однажды даже попал в карцер: пытался спасти и выпустить залетевшую в окно бабочку, о чем товарищем по камере был сочинен шутливый стихотворный экспромт:
…Сидел в той камере поэт
С душою сумрачной, но милой,
Он бабочку на белый свет
Решил вернуть хотя бы силой.
Хоть он и против был насилья,
Но здесь оправдано оно:
Ведь бесполезны даже крылья,
Когда не видишь ты окно!
Но бдителен надзор и чуток —
Поэт застукан en delit,
И вот его на трое суток
Уж в темный карцер увели.
Читатель ждет морали внятной.
Ужель она вам непонятна? —
– Не надо помогать тому,
Кто сдуру лезет сам в тюрьму!
5 сентября 1951
У Виталика мы чистим картошку, завариваем чай, накрываем на стол, а затем обязанности хозяйки переходят к его жене Тане: она была на концерте, слушала хор (все-таки Владимир!), потому и припозднилась. Мы вместе ужинаем, усердно наминаем деревянными ложками и присаливаем разваристую картошку, и укладываемся спать, а ранним утром, едва зарозовело прозрачное марево облаков и зазолотились на солнце державные купола соборов, мы у ворот тюрьмы…
Да, да, хоровое пение, древние соборы и… тюрьма… тюрьма, а в ней часовня… Вот и отец Евгений, совсем молодой, но степенного вида, с бородкой, с косицей длинных волос, в руках водосвятная чаша – ему сегодня служить. Здесь же телевидение и местные газетчики – люди с блокнотами, софитами, микрофонами и, сказал бы, камерами, но камеры тут другие.
Сдаем паспорта в окошечко – щелк! – и открывается дверь. Свершилось! Мы во Владимирской тюрьме – прощай, воля! Этакие необязательные шуточки малознакомых и случайно собравшихся вместе людей, но каждый невольно соизмеряет с собой чувство, возникавшее у тех, кто действительно прощался. Возникавшее от звука холодного металлического щелчка!
Нас ведут по коридору, мы пересекаем тюремный двор, поднимаемся по лестнице. В камерах нас слышат, неким образом улавливают наши шаги, глазеют на нас сквозь стены, и нас провожает смутный, недобрый гул, угрожающий ропот…
В одной из камер устроена часовня: иконостас, царские врата, алтарь. Все новое, как говорится, не успела высохнуть краска. Беленые стены понизу расписаны орнаментом – кружки, лепестки. Отец Евгений готовится к службе, расставляет, раскладывает церковную утварь. Телеоператоры также готовятся к съемке, а мы с Аллой Александровной просим показать нам сорок пятую…
Сорок пятая в нескольких шагах от нас, и показывать нечего – вот она! Но на эти шаги, может быть, и не сразу решишься. Сначала пытаешься задержать, замедлить время: слишком быстро все случилось, слишком внезапно и неожиданно (так и Алла Александровна, освободившись из лагеря, была не готова к встрече с Москвой, близкими, Подсосенским переулком). Поэтому первый шажок мысленный, ты как бы крадешься, приноравливаешься, стараешься опробовать взглядом белый арочный свод коридора, выложенные серой плиткой стены, пол в квадратную клеточку, выкрашенные красной краской двери и хорошую надпись, вполне годную для того, чтобы украсить ворота ада: «Хулиганство является противоправным деянием социалистического общества».
Теперь можно подойти. Дверь сорок пятой такая же красная, но не кумачово-лозунговая, а с темно-багровым оттенком, как в описанных им мирах возмездия. «Цвет здесь преобладает один: в Энрофе мы не способны видеть его, и по впечатлению, производимому им, он скорее всего напоминает темно-багровый». Так в Агре – так и здесь, в уподобленном ему земном чистилище.
Дверь – квадратные шляпки болтов, висячий замок, железный засов, «кормушка» и какая-то проволока, как нам объяснили, для того, чтобы дверь слишком широко не распахивалась. «Та ли это дверь?» – спрашиваем. Отвечают убежденно, что именно та, правда раньше «кормушка» была побольше и откидывалась не вовнутрь, как сейчас, а в коридор. Ну, и глазки попроще, а все остальное как было, так и есть. Можно ли заглянуть в глазок? Пожалуйста, заглядывайте…
Я поднимаю задвижку глазка (очевидно, в этом главное усовершенствование): двухэтажные кровати, белые простыни, стриженые головы. Камера на девять человек – действующая. Попроси – и открыли бы, но я не стал просить, понимая, что туда можно заглянуть только через глазок, через узкую щелочку. Не туда, где отбывают срок нынешние, а туда, где отбывали прежние и где создавалась «Роза Мира»…
Глазок в прошлое – узкая, как прорезь бритвой, потайная щелочка, и я поднимаю задвижку, и мне в глаза бьет свет, нездешний, иной, надмирный, и на меня смотрит сквозь стены тот, чья рука выводила: «Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах». Дошла. Стали.
Начинается служба, и мы с Аллой Александровной возвращаемся в часовню. Часовня в честь святого Николая, покровителя всех плененных, останавливающего руку палача. Привели уголовников в полосатой тюремной одежде: «полосатые» – значит за особо тяжкие преступления, душегубы, «убивцы». Отец Евгений раздал им свечи, стал совершать литию, «литеечку», как он сам выразился… Читает молитвы, благодарственный тропарь, поминает усопших: «Во блаженном успении вечный упокой». Кропит святой водой иконы и стены часовни. И нас окропил, благоговейно, «по чину» склонивших головы, и всех, «во узах сидящих».
Один из них мне признался: «Моя была камера. Я здесь спал» – и показал место, где стояла его кровать. Смуглолицый, цыганского вида, с черной как смоль бородой, крючковатые пальцы с толстыми ногтями, сидит за убийство. Другие подают отцу Евгению исписанные тетрадочные листки: «Прошу вызвать для православной беседы». Отец Евгений обещает вызвать, но не всех сразу, по очереди. Очередь же движется медленно: священнику не так часто приходится здесь бывать, поскольку это не храм, не приход, не основное место службы.
Заключенные особенно просят вызвать Галкина:
– Галкин хочет повеситься.
– Хорошо, вызову. А Васенков как?
– Васенков повесился.
Такой происходит разговор, кажущийся мне соединительной черточкой между словами «тюрьма-часовня» и «часовня-тюрьма». Да, глазок-щелочка, разговор-черточка, судьба-ниточка – сколько их оборвалось здесь, таких ниточек, таких судеб! Сколько было Васенковых и в тридцатые, и в сороковые и пятидесятые, с оборвавшимися и обвисшими концами нитей, и над ними – Некто один, неназываемый и недоступный.
Властелин судьбы, держатель всех нитей тоже смотрит сквозь стены. Я еще не отличаю его взгляд от взглядов других, погибших и безымянных, но испытываю неотвязное чувство, что он рядом, и только когда Алла Александровна читает по внутреннему радио тюрьмы стихи, написанные Даниилом Леонидовичем здесь, в сорок пятой, его облик проступает из тьмы:
Конечно же, «всенародный палач»! И чувство, и мысль о нем неотвязно преследовали, не могли не преследовать в этих стенах: где ад, там и демон.
И свидетельство
о склонившемся
к нашим мукам
Уицраоре[78]78
Уицраор в оккультно-мистическом вероучении Даниила Андреева – «могущественное, разумное и крайне хищное существо», обитающее в параллельном мире. По сути это демон державной/великодержавной государственности.
[Закрыть], угасающем все огни,
Ты преемникам —
нашим детям,
и нашим внукам
Как чугунная
усыпальница,
сохрани!
Глава 22
Темный пастырь
В «Розе Мира» он назван темным пастырем, и среди всех разоблачительных портретов, как прижизненных («Тараканьи смеются усища»[79]79
Осип Мандельштам. Мы живем, под собою не чуя страны… (1933).
[Закрыть]), так и посмертных, этот – особенный, раскрывающий потусторонний смысл его земных деяний, портрет в темно-фиолетовых, фосфоресцирующих, с багряными отблесками, инфернальных тонах: «Каждая из инкарнаций этого существа была как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической арене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в “Великом инквизиторе”. Это не был Торквемада[80]80
Торквемада, Томас де (1420–1498) – основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании. Был инициатором преследования мавров и евреев в Испании.
[Закрыть] или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта; но и к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить католическую церковь в послушный механизм Гагтунгра[81]81
Имя высшего из демонических существ, населяющих иноматериальный мир нашей планеты. – Прим. авт.
[Закрыть], в путь ко всемирной тирании не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции очень много дал этому существу, развив в нем жажду власти, жажду крови, садистическую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гагтунгра, точнее – Урпарпа[82]82
Одна из ипостасей Гагтунгра. – Прим. авт.
[Закрыть], и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин: хохха. Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь, в XVI веке, в Испании, хохха стала доступна этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма».
Такова предыстория его появления на Земле в облике коммунистического вождя, генералиссимуса, отца освобожденных народов, чей парадный портрет и поныне многим несчастным заменяет икону: во френче, в фуражке, с сияющими голенищами сапог (и не скажешь, что сухорукий, рябой, с изрытым оспинами лицом и тяжелым взглядом желтых глаз из-под низкого лба). Другие утверждают, что, напротив, он, коммунистический вождь, втайне ненавидел коммунизм и, будучи грузином, для державного величия России сделал больше, чем иной из русских царей. А то, что уничтожал не только коммунистов, уничтожил миллионы, так ведь для народа, совершившего такую революцию, свергнувшего царя и проклявшего Бога, это заслуженная кара. И даже если он был агентом царской охранки, это опять же ему в заслугу, ведь охранка-то царская. Словом, говорят, говорят, говорят, не ведая, откуда являются земные вожди и каким силам служат.
Но вот иной портрет – перед рассветом, в кресле, на фоне занавешенных кремлевских окон: «В 30-х и 40-х он владел хоххой настолько, что зачастую ему удавалось вызвать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимою чаще, чем летом: тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж конечно никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен. И если бы кто-нибудь невидимый проник туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. Выражение лица, какого не видел у него никто никогда, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссально расширившиеся, черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали по их краям… Хохха вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди своих приближенных, он поражал всех таким нечеловеческим зарядом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения».
Вот что раскрывает метаисторический метод Даниила Андреева, какую обнажает суть, мистическую подоплеку явлений! Когда я впервые, еще по слепой машинописной копии, заключенной в серый картонный переплет, прочел это место из «Розы Мира», меня, лишь начавшего осторожно приближаться к этой книге, оно поразило, наверное, больше всех других мест. Я очень хорошо помню тогдашнее особенное чувство и сразу поверил, что все это так, что автор не выдумал, не вообразил, не доверился собственной фантазии, а воспроизвел действительность, явь, реальность. На примере этой сцены мне стало ясно, что «Роза Мира», при всем словесном мастерстве ее автора, – не художественная литература, не вольный вымысел, прихотливо воссоздающий некий условный поэтический мир, а, повторяю, отчет о подлинном духовном опыте. Отсюда и двойственность моего чувства, может быть наивного: да, все это так, но откуда он знает, ведь «никто не дерзнул бы» и дверь запиралась изнутри! Значит, он единственный обладал тем, что позволяло проникнуть за запертые двери! Так я еще глубже осознал значение истинной мистики, не той низменной и вульгарной, основанной на колдовстве и черной магии, которыми нас пугают, а возвышенной и утонченной мистики как способа познания, как таинственной жизни души, реализации безграничных духовных возможностей человека, деятельного служения Добру и Свету.
После освящения часовни мы побывали в монастыре, бывшем филиале КГБ, возвращаемом теперь церкви, с чувством некоего ритуального приобщения – свободной обязательности! – обошли соборы, постояли, посмотрели, оценивая значимость факта: сначала в намоленных кельях допрашивали и пытали, а теперь в пыточных камерах и застенках будут молиться. Как это по-нашему, по-русски, аж оторопь берет!
Затем Виталик и Таня всех собрали на обед с графином водочки, борщом и картошкой со своего огорода. Конечно, не ахти какое событие, но из таких и складывается путешествие – терпеливое шествие неким путем, на котором встречаются священные камни, древние стены, старые вещи и… новые люди. На вещи надо посмотреть, к камням и стенам с благоговением прикоснуться, с людьми же самое важное посидеть и поговорить, тогда и путешествие твое оживет, и сам ты станешь для себя новым. Поэтому как не упомянуть и об этой встрече – застольной, с графинчиком! Тут были и здешние газетчики, и режиссер телевидения, и отец Евгений, и сопровождавший нас по тюрьме военный, Алексей Анатольевич, моложавый, скромный, с тихим голосом и грустной улыбкой. Отец Евгений воспитывает по-своему, а Алексей Анатольевич – по-своему.
Ну, и разговорились, как водится в нашем отечестве, о душе, ее странностях и загадках, о том, чем ее лечить и как ее спасать. Вспомнили и Даниила Леонидовича, относившего преступников к разряду душевнобольных, а сумасшедших – к разряду одержимых: первые томятся в плену собственных недугов, вторые же в плену изощренного воздействия темных сил. Вспомнили и о том, как в тюрьме Даниил Леонидович читал уголовникам лекции по стихосложению, как бы с ложечки давал лекарство, словно детям. И хотя лекарство не было привычно сладким, они послушно открывали рты и глотали, потому что преступная душа вовсе не умудрена жизнью, а, наоборот, задержана болезнью в своем развитии, и творимое ею зло содержит в себе гораздо больше инфантильно-детского, чем сознательного, мужественного и разумного. Вспомнили и о многом другом, тюремном и вольном, да и как не вспомнить в такой привычно русской, словно из чеховских времен, компании: священник, военный и наш брат, интеллигент, учительствующий, сочиняющий или философствующий!..
После обеда Виталик нас проводил на вокзал, мы спустились с высокого обрыва по длинной, деревянной, прогнившей, почерневшей от времени до фосфорического свечения – владимирской! – лестнице и стали дожидаться автобуса. Ждать пришлось, к счастью, недолго, автобус вскоре подали. Как всегда, была неловкая и томительная минута, знакомая всем прощающимся: мы уже сели и машем рукой в окно, Виталик стоит и машет нам, а автобус все не отходит, и приходится с преувеличенным усердием махать, потому что разговаривать сквозь стекло нельзя, и это продолжается до тех пор, пока, махнув нам последний раз, он не отходит.
Мы еще долго сидим в автобусе. Наконец, шофер закрывает двери, берется за руль, автобус разворачивается, и я чувствую, как отходит, отодвигается в прошлое, отпадает то, что еще совсем недавно было нынешним, сегодняшним, настоящим. Ведь совсем недавно, всего лишь несколько часов назад… но уже отошло, зато приблизилось в своем значении другое, еще более важное, и никогда от нас не отнимется.
Глава 23
Надмирное место
С тысячелетних круч, где даль желтела нивами
Да темною парчой духмяной конопли,
Проходят облака над скифскими разливами —
Задумчивая рать моей седой земли.
Их белые хребты с округлыми отрогами
Чуть зыблются, дрожа в студеных зеркалах,
Скользят – скользят – плывут подводными дорогами,
И подо мной – лазурь, вся в белых куполах.
И видно, как, сходя в светящемся мерцании
На медленную ширь, текущую по мху,
Всемирной тишины благое волхвование,
Понятное душе, свершается вверху…
Так начинается стихотворение Даниила Андреева «Весной с холма», которое я читаю, стоя на этом холме, на этих тысячелетних кручах и видя даль, белые хребты облаков, прозрачную лазурь, отражающуюся в студеных зеркалах Десны.
Я в Трубчевске, небольшом городке под Брянском, на холме, крутом и высоком, куда, выйдя из автобуса, долго взбираешься по склону и откуда словно бы и не смотришь, а паришь зачарованным взглядом над равниной, над степью, над скифскими разливами – удивительное, сказочное, былинное, надмирное место!
Даниил Леонидович, самозабвенно любивший Трубчевск и брянские леса, часто бывал здесь в довоенные годы. Наезжал обычно летом и жил до поздней осени, до первых заморозков, бродяжничал по брянским лесам, купался в Неруссе, ночевал у костра, глядя на затухающие угли, любуясь звездами на черном бархатном небе (звезды таинственно притягивали его с детства). И сохранился домик, где он останавливался, и живы люди, которые его помнят. Сам городок почти не изменился с той поры. Как же и мне не побывать, как не наведаться!
И вот собрался, взял билет до Брянска, получил нужные наставления от Аллы Александровны и адреса людей, с которыми нужно свидеться, и приметы мест, какие так важно посетить, и некую напутственную волну, поток горячего участия, воодушевляющее веяние, распространяемое человеком, желающим, чтобы и вы испытали то, что некогда довелось испытать ему: «Поезжайте! Не пожалеете!»
Больше всего мне хотелось встретиться с семьей Левенков, которые близко знали Даниила Леонидовича, а со старшим в доме, Протасом Пантелеевичем, человеком удивительным, глубоко интеллигентным, творческим, артистичным, его связывала подлинная дружба. Многие часы провели они вместе, беседуя, открывая друг другу самые сокровенные мысли…
Ночь я провел в поезде, ворочаясь на жесткой вагонной полке, и от боязни проспать проваливался в тревожный и неглубокий сон. Проводник заранее не разбудил, наверное, от сходного желания и боязни, и каким-то чудом я все-таки проснулся в Брянске, торопливо оделся, подхватил дорожную сумку и спрыгнул с подножки на низкую платформу.
Было раннее-раннее утро, вернее, утра не было, потому что еще не рассвело, клубами валил моросящий дождь и хлестал, окутывал, налетал порывами и душной паклей забивал рот влажный осенний ветер. Странной показалась мне в темноте громада вокзала со светящимся одиноким окном, странной и жутковатой, и самому вдруг стало одиноко, тоскливо, словно бы и непонятно, зачем я здесь. Но на то и путешествие – шествие неким неизведанным путем, чтобы охоту к перемене мест вовремя сменить на ностальгию по местам покинутым и вкрадчиво убедить нас в том, что самые памятные впечатления, неожиданные открытия и необыкновенные находки мы не столько обретаем в пути, сколько забываем дома.
Впрочем, к таким дорожным парадоксам, переменам и перепадам я давно привык и умел не поддаваться сладкому соблазну уныния, больше полагаясь на собственное терпение и счастливый случай. Главное – именно шествие, движение, перемещение в пространстве, и внешнем, и внутреннем, где состояния души сменяются так же, как мелькающие картины за расчерченным дождем окном поезда или автобуса. Поэтому скорее в автобус, и ностальгия, тайное воздыхание по утерянному домашнему раю обернется дорожным, обретенным раем, а обманчивая тяга назад – стремлением вперед, к тому, что откроется вдруг за поворотом, охотой к перемене мест.
И вот я уже забился в угол сиденья, надвинул на глаза шапку, чтобы добрать остатки сна, а когда очнулся, уже и рассвет забрезжил в окнах, обозначились на небе слоистые, белесые облака, замелькали тонкие болотные березки, поля с размытыми бороздами, колеи дорог, посверкивающие отраженьями тусклого неба лужи перед прохудившимися коровниками, неубранные стога. По некоей скудности, нищете, разору, запущенности всего вокруг обозначилось в сознании, что еду я, знаете ли, по России.
По России – м-да – не той, которая нам Богом дана, а той, в которую мы, люди, по-скотски ее превратили. Разорили, замусорили, истоптали, заплевали, и теперь сами не знаем, куда ступить: везде наши собственные плевки, окурки и шелуха от подсолнухов. Собственную страну отрусили, как грушу, растущую при дороге, и после этого называем себя русскими. Да не русские мы, а советские, особой интернациональности, тупиковой генетической ветви, потому что русские так не живут, такую жизнь не терпят, на дух не переносят! Посмотрите на русских, укоренившихся вне России, разве у них так?! По-всякому, конечно, бывает, но так, как у нас, никогда. Значит, и России, которая Богом дана, больше у нас нет, а есть страна-свалка, страна-помойка, страна – мусорная яма под названием Совдепия. Торчит она, как обломок бетонной трубы, как ржавая арматура, громоздится, словно вывороченный отбойным молотком асфальт, благоухает, как траншея с гнилой водой. Даниил Андреев, уже смертельно больной, однажды подойдя к окну своей последней квартиры на Ленинском проспекте, сказал: «Сон идиота», а в стихотворении «Изобилие» из триптиха «Столица ликует» с убийственным сарказмом написал:
Радостный Олимп
рождающейся расы,
Борющихся масс желанные миры:
Десятиметровые фанерные колбасы,
Куполоподобные
красные
сыры.
Кляксами малярными —
оранжевые, синие,
Желтые конфеты цветут,
как май, —
Социалистическая
скиния,
Вечно приближающийся рай.
В стихотворении же «Монумент» подвел итог, дал образное и точное название советскому идиотизму: «Широкозадый пляс тех, кто не стал людьми».
Вот и я сейчас вижу этот сон наяву, этот широкозадый пляс, и, как всякому человеку, преследуемому неотвязным кошмаром, мне хочется глухо мычать и скрипеть зубами. Казалось бы, кошмар неотвязный и конца ему не будет, но вдруг название «Уручье», и словно веет отрадой, кошмарный морок рассеивается, обломки труб и ржавая арматура исчезают, и идиотический сон становится блаженным сновидением, в котором предстает Россия, данная нам Богом: все-таки есть, сохранилась, осталась! Потянулись над крышами дымки печных труб, открылись холмистые дали, овраги, перелески, болотные топи (так и хочется вслед за Даниилом Андреевым добавить: немеречи!). И я с облегчением установил для себя, что я не на Ленинском проспекте, а в дремучих брянских лесах.
Заросли багульника и вереска.
Мудрый дуб. Спокойная сосна…
Без конца, до Новгорода-Северска,
Эта непроглядная страна.
С севера, с востока, с юга, с запада
Хвойный шум, серебряные мхи,
Всхолмия, не вскопанные заступом
И не осязавшие сохи…
Лишь тростник там серебрится перистый,
Да шумит в привольном небе дуб —
Без конца, до Новгорода-Северска,
Без конца, на Мглин и Стародуб[83]83
Даниил Андреев. Брянские леса (1936).
[Закрыть].
В Трубчевске я долго искал стакан кипятка, чтобы опустить в него припасенный пакетик чая, слегка взбодриться после всех дорожных мучений и передряг, да и отправиться на осмотр города. Но кипяток здесь – небывалая редкость, и после долгих блужданий по кафе и закусочным мне пришлось опустить пакетик в странную бурую жидкость, именуемую кофейным напитком, которая меня взбодрила до легкомысленной блаженной беспечности, полной отрешенности от всех забот и некоей лихорадочной взвинченности.
И я отправился, сначала добросовестно осмотрел дома на центральной улице Ленина, здешнем Ленинском проспекте (все-таки кошмар еще преследовал), а затем свернул в городской парк. Там тоже торчало и громоздилось, но в отдалении, в глухом уголке, белело и золотилось нечто старинное, церковное, живое – Троицкий собор, построенный в XI веке на основании еще более древней церкви. В XII и ХIII веках собор перестраивался, подновлялся, пока не приобрел своего нынешнего вида, Ниловский же придел (в честь преподобного Нила Сорского[84]84
Нил Сорский (в миру Николай Федорович Майков) (1433–1508) – православный святой, преподобный, крупный деятель Русской православной церкви, основатель скитского жительства на Руси, автор «Предания», «Устава о скитской жизни», а также ряда посланий, известный своими нестяжательскими взглядами.
[Закрыть], подвизавшегося здесь) был возведен в 1910 году, накануне великих подновлений XX века, от которых собор чудом уберегся.
Обо всем этом я, странствующий энтузиаст, кропотливый собиратель исторических сведений, прочел на мемориальной табличке, когда приблизился к собору.
Приблизился, постоял, полюбовался и решил обойти со всех сторон, и вот тут-то… надмирное место! Там, за собором, обрывались вниз тысячелетние кручи, расстилалась степная даль, вздымались груды белых облаков, блестела на солнце Десна. И над Россией, которая дана нам Богом здесь, на земле, словно возникали таинственные очертания иной, Небесной России:
Широко распластав воздушные воскрылия,
Над духами стихий блистая как заря,
Сам демиург страны в таинственном усилии
Труждается везде, прах нив плодотворя.
Кто мыслью обоймет безбрежный замысл Гения?
Грядущее прочтет по диким пустырям?
А в памяти звенит, как стих из песнопения:
«Разливы рек ее, подобные морям…»
Все пусто. И лишь там, сквозь клены монастырские,
Безмолвно освещен весь белый исполин…
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!
Так заканчивается стихотворение «Весной с холма», того самого, на котором… я стою как завороженный и не могу двинуться с места: такова магия пространства распахнутого передо мной, и таково чувство высоты, вознесенной над миром. «Воздушные воскрылия» – вот же они, словно угадываются, распознаются, различаются в небе, и сам демиург страны, народоводитель России, зримо творит свою сокровенную миссию…
Из состояния завороженности, окрыленности и некоего восторженного парения меня вывела женщина с метлой, убиравшая в парке, как оказалось, словоохотливая рассказчица о здешних нравах. Я для нее человек новый, для меня же ново все то, что для нее привычно, вот и возникает взаимное притяжение, именуемое любопытством.
Как тут не поговорить, не потолковать! Я ей о московском, о тамошнем, она мне – о здешнем, о трубчевском, духовном и светском: как повздорили городские власти и поссорились батюшки в церкви, чуть в бороды друг другу не вцепились. Посетовала, что в соседнем районе доплачивают «за радиацию» (Чернобыль), а у них не доплачивают, хотя «радиация» такая же – дети слабоумные рождаются. Ну, и о прочем порассказала, громоздящемся и торчащем, вернув меня с небес на землю. Я вместе с нею повздыхал, посочувствовал – а чем поможешь! – и распрощался. Место я посетил, пора наведаться к людям.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































