Текст книги "Рыба, кровь, кости"
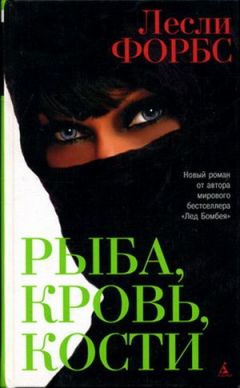
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
II. Рыба
Сад на бумаге
1
Прошлое – это сон, навеянный опиумом, так говорил Джек, а я проживаю его, видя осознанные сны о прошлом и настоящем, которые существуют в одной плоскости, в одно и то же время. Ник утверждает, что это ощущение весьма распространено здесь, в Индии, и наши способы передвижения только усиливают его: сначала мы путешествуем на разбитом и пыльном поезде из опиумных плантаций Патны в город Хугли, потом плывем на паровом катере мимо старых джутовых заводов, чье пыхтение давно уступило место унылому молчанию, и дальше вниз по Гангу, вдоль длинного вертикального ряда селений, речных складов и пристаней – гхатов.[33]33
Гхат – набережная в виде каменных ступеней, ведущих к воде, место ритуального омовения.
[Закрыть] Во всяком случае, он вертикален на моей карте, потому что именно здесь река сворачивает на юг, к морю. Мы живем на шаре, но никак не можем уйти от этих спусков и подъемов карты, этой вертикальности истории. Она заменяет правду: история – это слегка прокисший суп, вкус которого еще долго остается во рту после того, как его съели, и бактерии все еще продолжают брожение.
Во время нашего путешествия по Гангу, который в какой-то непонятной точке сменил имя и стал называться Хугли, мы как будто вели учет всем связям между опиумом и четырьмя веками колонизации Бенгалии. Мы сделали короткую остановку в Серампуре, где датчане торговали наркотиком и религией, строя миссии, в Чандернагаре, откуда раньше французы отправляли опиум в Индокитай, в Чинсуре, где похоронен последний независимый армянский князь, в Бхадресваре, откуда исчезли все останки прусских торговцев опиумом, и, наконец, в Барракпуре, где в стенах бывшего дворца вице-короля Индии размещается полицейская академия. Мы скользили вдоль речных пирсов, и невнятица длинной повторяющейся мантры суффиксов сливалась с ровным урчанием работающего двигателя – пургаравар-пургаравар, литания почти забытых битв, побед и поражений: от пура к вару, от гара к вару, от пурпура крови и безудержного угара к бесконечным сварам. Я не осознавала, что говорю вслух, пока не услышала мягкий смешок Ника.
– Что там за песенку ты себе мурлычешь под нос, Клер? Я почувствовала, как краска приливает к моей шее и добирается до ушей.
– Ничего, это не песня. Просто… названия этих мест похожи на… не знаю. Глухой барабанный бой.
– Тогда тебе слышится воображаемая табла, индийский барабан. – Он выключил магнитофон, на который записывал шум реки, чтобы сфотографировать мое пылающее ухо. – Тебе нужно что-то делать с этой энергией. Ее хватит на обогрев нескольких комнат в твоем доме.
В предложении Ника проехать этот отрезок пути вместе не было ничего романтического – во всяком случае, с его стороны, хотя лично мне чертовски трудно питать исключительно платонические чувства к человеку, красивому как бог, пусть и однорукому (в конце концов, у многих богов, которых мы знаем, не хватает рук, а то и головы). Я пыталась свести его к набору молекул, к сумме всех его компонентов, в том числе и отсутствующих. Я пыталась сосредоточиться на реке и проплывающих мимо баржах – Ник говорит, они сделаны по образцу плотов, сплавлявшихся в девятнадцатом веке вниз по реке из Непала, плотов, которым суждено было стать транспортом для торговли опиумом. Но мой непослушный мозг соединен с теми частями моего тела, что живут целиком в настоящем и для истории бесполезны. Каждый из нас по-своему измеряет водные просторы Бенгалии: Ник рисует мне карту страны, я же выверяю такие глупости, как расстояние от его обутой в сандалию ноги до моей и то, как от речной влажности мокрое пятно расплывается на его рубашке между лопатками. Он пахнет кокосом, но это не тот пляжно-отпускной запах. Он более пряный. Я подаюсь вперед, глубоко дыша, и замечаю его озадаченный взгляд.
– Что ты делаешь, Клер?
– О… мм… я… У тебя, кажется, пуговица расстегнулась.
Ты потеряла голову, говорю я себе; увлечение пройдет, хотя это и не важно, потому что он явно мной не интересуется, а в романтических отношениях у меня мало опыта. Если повезет, случайное любовное приключение может превратиться в то, что генетики называют «компенсирующее избирательное преимущество», когда плохая наследственность, например ген ненормального эритроцита, имеет свои хорошие стороны, вроде сопротивляемости к возбудителям малярии. После своего первого романа я научилась играть в шахматы; отходя от другого, стала специалистом по омлетам.
Я все время напоминаю себе, что нахожусь здесь не только ради истории Флитвудов, но отчасти и из-за Салли. Странно, что меня не сразу захватила эта ее идея, стремление дать имя неизвестному, найти анонимных индийских художников, которые заносили Индию в каталоги. В конце концов, ведь это моя работа – давать имена неопознанным скелетам. А попытки Джека отбить у меня охоту к раскопкам нашей общей истории лишь вызвали у меня подозрение, которое не имеет ничего общего с судебной антропологией, если не считать нутряного чутья.
Надеясь заполнить некоторые пробелы в историях Джека, я тщательно составила длинный список встреч на пять Дней моего пребывания в Калькутте. Ник теперь взглянул на него и расхохотался.
– Ты рассчитываешь все это успеть, Клер? Достопримечательности Калькутты, исследования, родственные связи – ты что, собираешься все это галочками отмечать в твоем списке, как в супермаркете? – Он высмеял письмо, которое я получила от библиотекаря Калькуттского ботанического сада, приглашение осмотреть «акварели Роксбера», выхватил его у меня из рук, не успела я и глазом моргнуть, и помахал им над бортом. – Начнем с того, что это ничего не значит, – сказал он, держа письмо так, чтобы я не могла до него достать, почти угрожая разжать искусственные пальцы и пустить листок на волю ветра. – В Индии нужно уметь читать между строк. А каждая недостающая строка – это недостающая история.
Я потянулась к письму, но в эту секунду лодку качнуло на волне и меня бросило на грудь Нику. Здоровой рукой он обнял меня за плечи, удерживая; наши глаза разделяло лишь несколько дюймов. Тяжело дыша, я разъяренно уставилась на него:
– Отдай мне чертово письмо, Ник! Это не смешно.
Он резко отпустил меня и сунул в руки драгоценное приглашение.
– Прости, Ник, но, чтобы достать его, мне понадобилось пятьдесят просительных писем и рекомендация из Кью Гарденз.
В уголках его глаз и губ заиграла улыбка. Мне хотелось поцеловать его, а не сражаться. Он поднял брови:
– Надеюсь, ты взяла их с собой. Индийские бюрократы ничто так не любят, как груды официальных бумажек, которыми машут у них перед носом. Тем больше искушение ставить палки в колеса тому, кто ими машет.
Историк ботаники в Кью, бенгалец, переселившийся в Лондон, перво-наперво связался для меня с Калькуттским ботаническим садом.
– Кто же забудет незапамятные сады? – мягко спросил он, когда я поведала ему о своем желании разыскать сведения о неизвестных индийских художниках Роксбера.
– Что вы сказали?
– «Незапамятные сады» – именно так говорила Салли.
– Это слова, написанные одним китайским садовником сотни лет назад. – Он вздохнул. – Я очень надеюсь, что оригиналы Роксбера не утрачены навсегда и даже не испортились сильнее с тех пор, как я видел их в последний раз. Акварель, в отличие от масляных красок, так нестойка – и одни цвета больше, чем другие.
И казалось, что зеленая была самой непостоянной из всех красок. «Летучий» – так сказал историк из Кью, и это слово как будто вдохнуло жизнь в цвет, наделило его изменчивой личностью изгнанника. Неуловимый, беглый цвет. Летучий – от слова «летать».
Историк попросил меня сообщить ему о тех повреждениях, которые нанес коллекции индийский климат.
– Хотя я знаю, как сильно Калькутта не любит вмешательство Британии, кто знает, может быть, нам удастся оказать какое-то воздействие на них и заставить улучшить условия хранения работ. Кстати, в библиотеке раньше хранилось несколько редких фотографий того периода. Взгляните на них, вдруг там где-нибудь есть ваш знаменитый родственник.
Затерянный сад на бумаге заполнял мои мысли, когда я стояла возле Ника и смотрела на ленивую, медленно несшую свои воды реку цвета хаки. Я приехала сюда, чтобы дать имя неизвестному лицу, установить родство с Риверсами; связать воедино все семейные притоки из моего осознанного сновидения. Но кому может сниться эта непривлекательная река, гладкая, широкая и полноводная? Только такой чудачке, как я.
2
Наше такси медленно двигалось по мосту Хаура в Калькутте, самому большому консольному мосту в мире, с трудом пробираясь сквозь плотные ряды рикш, такси, грузовиков, перегруженных автобусов, тележек, ручных и запряженных быками, поколения нищих – и сквозь не такое плотное, но не менее осязаемое воздушное движение, тот густой бурый чад, что беспрепятственно валил из выхлопных труб фургонов, автобусов, заводских труб и угольных печей; этот дым резал мне глаза и оставлял на одежде пятна копоти размером с москитов. Мрачное замечание Ника подтвердило, что он догадывался о моих неудобствах:
– Добро пожаловать в Калькутту, где воздух содержит самое высокое в мире количество ВЧ…
– ВЧ?
– Взвешенные частицы – из них до одиннадцати процентов токсичны, включая бензопирин, который, как полагают, вызывает рак. Добро пожаловать в Тропик Рака. Разумеется, многие здесь просто не живут так долго, чтобы умереть от рака. Добро пожаловать в Калькутту, которую Британская империя избрала столицей колонии и где, наверно, самый отвратительный климат во всей Индии, настолько смертоносный, что первые моряки окрестили это место Голгофой. Добро пожаловать в Калькутту, интеллектуальную столицу Индии, где гниение превратили в форму искусства и где может уцелеть лишь недолговечное: граффити переживает политиков, которых высмеивает, а преступление все еще витает в воздухе, как дурной запах, долгое время после смерти самого преступника.
Чем пахнет преступление? Много ли в нем бензопирина? Может, ЮНИСЕНС уже прогнала его смрад через масс-спектрометр и занесла его соединения в свою молекулярную библиотеку, как они сделали это с опиумом и его алкалоидами?
Опиум завладел моим умом с тех самых пор, как Джек преподал мне урок истории шесть недель назад в ЮНИСЕНС. От него я узнала, что Индия – единственная страна в мире, где выращивание опийного мака для получения опиума-сырца разрешено законом. На государственных заводах по производству опиума и алкалоидов в Газипуре, рядом с Патной, мы с Ником смотрели, как жидкую кашицу млечного сока выливают на деревянные лотки и раскладывают сушиться на солнце – метод, знакомый еще тем Флитвудам, что жили лет двести назад. Затем опиум, принявший форму лепешек, продавали международным фармацевтическим компаниям, которые выделяли из него морфин или кодеин. На этом Индия зарабатывала относительно скромную сумму в пятнадцать миллионов долларов.
– Если бы его здесь перерабатывали в героин, – говорил Джек, – Индия могла бы получать миллиарды, выплатила бы национальный долг, решила бы проблему поголовной нищеты и починила бы дороги. В Пакистане и Таиланде нелегальный опиум стал, что называется, неплохим кормильцем для многих крестьянских семей, которые иначе умерли бы с голоду.
Странное замечание для ученого.
Гостиницу выбирала я. ЮНИСЕНС не оплачивала эту часть путешествия, а все родственники Ника сейчас жили в Англии, так что я выбрала сравнительно дешевое место неподалеку от парка Майдан в старом британском квартале, привлеченная названием отеля. Но если «Радж-Палас» когда и оправдывал свое имя, то самое раннее лет двести назад, до того, как череда сменявших друг друга армянских и английских хозяек превратила дворцовую роскошь в пансион, о котором наш путеводитель издательства «Лоунли плэнет» зловеще высказался: «большое своеобразие за умеренную цену». Дворец, теперь скорее походивший на клуб для игры в бинго, был отделан фанерой и хромом, характерными для конца семидесятых, а ионические колонны выкрасили в грозный розовато-коричневый цвет, придававший лицам постояльцев оттенок сырого бекона. Ник клялся, что нынешняя владелица, англичанка, встретившая нас радостными криками: «Дорогие мои!», на самом деле была евнухом в парике. Но я просто влюбилась в нее и ее отельчик, напомнивший мне о тех местах, где мы останавливались в Новом Орлеане, тех, что папа называл «Соединенными Штатами Теннесси Уильямса, родиной неординарных: неестественных, неспокойных, невменяемых».
– Ты выглядишь счастливой, Клер, – заметил Ник, когда мы устроились в ресторане гостиницы с кружками холодного пива. – Можно подумать, ты чувствуешь себя как дома.
– Ну да, такие места как раз по мне. Дешевая гостиница, чья хозяйка слишком много пьет и слишком редко обесцвечивает волосы.
Я почти надеялась, что он станет возражать, скажет, что у меня есть шик, и стиль, и исключительная красота, которую только он может оценить. Вместо этого он начал вспоминать о том, как вырос здесь, в Бенгалии, стране, где люди влюблены в пищу и искусство, спокойно зная, что и то и другое непостоянно, но бесконечно возобновляемо.
– Может, поэтому рыба здесь – такой важный образ, – сказал он и наморщил нос, когда прямо перед ним на стол шлепнулась тарелка, поставленная официантом с косолапой походкой человека, привыкшего давить ногами тараканов, не выпуская при этом из рук тарелки с замороженным горошком.
– Только между нами, дорогая, обслуга нынче вся уже не та, – шептала мне хозяйка по пути в ресторан. – Все теперь заделались коммунистами.
Изучая свой ужин, Ник твердил, что повар явно симпатизировал сталинизму.
– Наверняка где-то в русских степях есть гостиница, по сей день оплакивающая утрату его кулинарного мастерства, – произнес он, надавливая на не вызывающий доверия квадратик рыбы до тех пор, пока тот не расплющился в сероватую пасту с торчащими из нее бледными костями, достаточно длинными, чтобы привести к смерти. Очень скоро мы оставили рыбу и удалились в бар в саду.
Гибким движением он закинул босую ногу на бедро, будто сидел на полу или на кровати, а не на жестком пластиковом стуле, а его здоровая рука скользнула под рубашку, чтобы поскрести плоский смуглый живот. Я пыталась не думать о его коже. Он помассировал ступню и заговорил о рыбе как форме искусства и о рисе как пластическом средстве выражения.
– Бенгальские женщины рассыпают рисовую муку на полу своих домов, составляя замысловатые узоры из листьев, цветов и фруктов, хотя знают, что их рисунки не проживут и дня. Они называют это «картинами в пыли» – торжество непостоянства. Наверно, вот так я и заинтересовался впервые недолговечным искусством.
Я потянулась за пивом, нарочно касаясь его запястья своим, желая, чтобы он обращался ко мне лично, а не размышлял о смысле искусства и жизни перед аудиторией из одного человека.
А он говорил:
– Именно женщинам украшение жилища здесь доставляет больше радости.
Украшение, вот что такое для тебя женщины, подумала я, бросая всякую надежду отвлечь его. Мужчины – строители империи; они любят всему давать свои имена: странам, горам, произведениям искусства, отпрыскам. Женщины же практикуют эклектичное, повседневное искусство: заполняют эти самые страны детьми, создавая рабочую силу, стряпают (женщины ведь всегда стряпухи и очень редко повара), превращают жилище в родной дом. Мама раньше украшала наш трейлер психоделическими картинками, которые, по ее мнению, отражали духовность Востока. Позже, переключившись с азиатской мистики на мексиканские шаманские ритуалы, холистическое целительство и магические кристаллы, она утверждала, что несколько раз совершала астральное путешествие и навещала меня – полагаю, это было дешевле, чем поездка на «Бритиш эйруэйз» в оба конца. Она всегда отличалась хорошим воображением. Когда нам с Робином надоедало смотреть, как папа подает реплики, изображая рогоносца с двумя строчками в третьем акте, мама брала нас с собой на прогулку и говорила: «Взгляни-ка на этот кусок плавника – а вдруг это кость динозавра?» Еще она уверяла: «Может, у нас нет денег, но мы никогда не были бедняками». Быть бедняком означало не иметь обуви или книг. Она не понимала, что бедность могла также значить отсутствие истории, определенного местожительства, постоянной прописки. Мы отправлялись туда, где была работа, проезжая по пятьсот миль днем и ночью, глядя на Чудеса Америки из окна машины, созерцая Большой Каньон в лунном свете. История проездом. Мама хотела показать нам все те вершины и ущелья, которых никогда не видала сама, пока росла в плоском унылом городишке, затерявшемся на еще более плоской полоске желтой прерии.
А чего хотел отец? От чего убегал он все эти годы? Это-то я и собиралась выяснить здесь.
3
На следующее утро по пути в Азиатское общество я всю дорогу фотографировала разрушающиеся особняки эпохи британского владычества, а Ник извинялся за тот упадок, в котором находилась Калькутта. Судя по его поведению, родной город разочаровал его. Возможно, двадцать лет, проведенные в Англии, заставили его увидеть это место в новом свете, неожиданном для него самого.
– Мне кажется, это по-своему даже чудесно, Ник. В любом случае твоей вины тут нет.
– Да. Я знаю. Все же мне бы не хотелось, чтобы ты судила о моем городе так, как многие иностранцы. – И он заговорил, передразнивая интонации военного телерепортера, особенно напирая на убедительные баритонные нотки: – «Мы с вами стоим посреди руин некогда величественного города Калькутты, ставшего теперь неиссякаемым источником уродств, увязнувшего в крови и грязи, где жизнь ничего не стоит».
Подхватывая меня под руку, чтобы я не наступила на ухмыляющийся товар уличного торговца фальшивыми зубами, он добавил своим обычным голосом:
– Лавка древностей, в которую заглядывают ради захватывающих ощущений вроде тех, что дает порнография.
– Тогда объясни мне свою точку зрения.
Ник зашагал так быстро, что мне пришлось побежать трусцой, чтобы поспеть за ним.
– Я помню Индию страной, где все было в изобилии. Смерть, взятки, несправедливость – верно, но еще были и культура, семейные традиции. Никогда одно не шло без другого. Мы с тобой живем в стране, где крайности существуют отдельно друг от друга: гетто выживших из ума старушек, гетто богатых биржевых маклеров, ушедших на покой, гетто людей, увлекающихся мини-гольфом. В Индии крайности перетекают одна в другую. Здесь сложнее не обращать внимания на собственные неудачи.
К тому времени, как мы подошли к Азиатскому обществу, укрывшемуся за бесцветным фасадом на Парк-стрит, пот уже струился по мне ручьями, и оттого свежему ветерку кондиционера внутри полутемного помещения я обрадовалась даже больше, чем внушительной библиотеке справочных материалов. Служащий с постным лицом вежливо взглянул на нас, когда я осведомилась о Магде Флитвуд и ее муже Джозефе Айронстоуне.
– С чего вы хотите начать? – спросил он, и одна из линз его толстых очков вспыхнула, отразив свет узких ламп над головой. – У нас здесь почти целый лакх книг…
– Это сотня тысяч, – пробормотал Ник.
Секретарь кивнул.
– Включая часть оригинальной библиотеки Типу Султана.[34]34
Типу Султан (1750–1799) – правитель индийского княжества Майсур, возглавивший борьбу с английскими завоевателями в Южной Индии.
[Закрыть]
– О, вряд ли в моей семье были какие-нибудь султаны. Погодите… Магда родилась здесь и жила до тысяча восемьсот восемьдесят восьмого или тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, а потом вернулась в Англию и умерла там…
– Вы ошибаетесь. Магда Флитвуд не умирала в Англии.
– Простите, что вы сказали?
Выражение его лица оставалось неизменным.
– Магда Флитвуд умерла в тысяча девятьсот тридцать пятом году и была кремирована здесь, в Калькутте. В соответствии с ее собственными пожеланиями. В храме Калигхат установлена мемориальная доска в ее честь. Надпись, конечно, сделана на бенгальском языке, с которым, я полагаю, вы не знакомы.
– Я знаком, – сказал Ник.
Круглые очки служащего снова озарились вспышкой.
– Вторая мемориальная доска установлена на кладбище на Саут-Парк-стрит. – Он вынул ксерокопию плана центральных улиц Калькутты. – До храма Кали вы доедете на такси. До кладбища можно прогуляться пешком. Вот здесь. – Его костлявый палец скользнул от парка Майдан вниз по Парк-стрит до перекрестка с Чандра-Бос-роуд. – Кладбище построили в восемнадцатом веке, когда Парк-стрит еще называлась Кладбищенской дорогой и вела к тогдашней южной границе белого поселения – теперь это почти центр города. Спустя всего двадцать три года не осталось ни одного незанятого клочка земли, и больше там никого не хоронили, за исключением членов некоторых влиятельных семей, вроде Айронстоунов и Флитвудов, в чьих могилах еще оставалось место, несмотря на стесненные обстоятельства.
Я удивилась тому, что секретарь так хорошо осведомлен о Магде, но еще больше меня поразило, как много скрывал мой отец (и Джек: разве он не был в курсе, учитывая, сколько времени здесь провел?).
– Откуда вы знаете?
– Потому что могила Магды Флитвуд расположена неподалеку от великой пирамиды сэра Уильяма Джонса, основателя нашего общества. А что касается самой женщины, моя осведомленность объясняется ее участием в подъеме национально-освободительного движения, имевшем место в девятнадцатом веке; она была особенно известна под именем, которое выбрала себе после обращения, сестра Сарасвати.
– Обращения?
– В индуизм. – Наш тощий ученый муж сплел длинные пальцы. – На нее оказало большое влияние учение Свами Вивекананды, знаменитого ученика Рамакришны. – Мозгу служащего не хватало точных данных, и он добавил: – Который жил и работал с тысяча восемьсот тридцать четвертого до тысяча восемьсот восемьдесят шестого.
– Что-то вроде перевоплотившегося индуистского святого, – прошептал мне Ник.
Клерк слегка помотал головой из стороны в сторону, словно его череп недостаточно крепко присоединялся к позвоночнику, – очень индийский жест, который я видела только у Ника, когда он разговаривал со своим дедушкой.
– Монахи Свами учили о необходимом единстве всех путей к познанию сущего, – продолжал служащий, – и выражении духа в полезном деянии.
– Особенно в революционном деянии, – едко добавил Ник. – Похоже, сестра Сарасвати была вроде той ирландки – сестры Нибедиты, которая вдохновила множество борцов за независимость Бенгалии?
Клерк кивнул:
– Сама будучи вдовой, сестра Сарасвати делала все возможное для организации женского образования и помогала вдовам зарабатывать себе на жизнь. Она принимала участие в тех несчастных женщинах, которые были обречены на нищету из-за незаконности своих детей, чьи отцы – английские отцы, – он сурово поглядел на меня поверх своих очков, – чьи английские отцы бросили их на произвол судьбы. В последние годы жизни она завоевала уважение как ревностный общественный работник в храме Кали – вот почему в Калигхате есть памятная доска ей. Она способствовала тому, что бенгальцы приняли современную Кали, разрушительницу устаревших имперских институтов.
По просьбе Ника секретарь общества согласился просмотреть все документы и фотокопии, относившиеся к Айронстоунам и Флитвудам, ради любой крохи полезной информации.
– Спасибо, – сказала я, изумленная его неожиданным великодушием. На меня он произвел впечатление человека, у которого снега зимой не выпросишь. – Я и не знала, с чего начать поиски.
Выражение его лица говорило, что этой фразой я расписалась в своем невежестве.
– Та еще девица, эта твоя Магда, – сказал Ник, когда мы вышли на улицу; он беспечно шагал по разбитому тротуару, будто какой-то внутренний радар предупреждал его о бесконечных выбоинах, о которые я спотыкалась сразу же, стоило мне только поднять взгляд от дороги. – Сегодня она бы точно стала коммунистом, как и многие здешние чиновники.
Я была благодарна сутолоке улицы за то, что он снова взял меня за руку и, ловко маневрируя, повел сквозь толпу на кладбище Саут-Парк-стрит; от этого недолгого электризующего прикосновения у меня мурашки забегали в том месте, где соединились наши руки.
Всякому, кто привык к уюту и готическому очарованию викторианских погостов, где скорбь превратилась в сентиментальность с помощью плаксивых каменных ангелов и слащавой поэзии эпитафий, кладбище Саут-Парк-стрит показалось бы трагедией эпических размеров, неоклассическим городом, прямиком сошедшим с тех сюрреалистических полотен, на которых все древнеримские здания теснятся вместе в одной плоскости. Крыши вырастали из полов в немыслимой перспективе, миниатюрные парфеноны казались карликами рядом с необозримыми куполами, которые, в свою очередь, затмевались высившимися обелисками и исполинскими мраморными гробницами. Природа, не считавшаяся с мертвыми, испещрила угрюмые надгробия черновато-зелеными слезами муссона и граффити белых стенограмм птичьего помета, вытолкнула наверх кроваво-красные трубчатые венчики цветов, торчавшие из крыш палладианских вилл, словно неуместные перья на строгих фетровых шляпах. Скученность этого сада-некрополя создавала атмосферу мертвенности, которую еще больше усиливало отсутствие чувства меры. Все могилы были не ниже восьми футов, а большинство в два или три раза превышали мой рост. Перемешанные, словно коробка слишком больших и плохо подобранных шахмат, эти надгробные монументы состязались друг с другом в величии, и каждый из них служил памятником вере своего обитателя в то, что если нельзя забрать все с собой, то уж непременно надо отметить ту гавань, из которой отправляешься в последний путь.
Ник, неторопливо шагая вперед по главной аллее, бормотал себе под нос надписи, поразившие его воображение; голос моего друга доносился до меня, словно перекличка утопленников с корабля-призрака:
– «Эйвери, обретший свое последнее пристанище в возрасте восемнадцати лет, похоронен в Индийском океане…»
«Андерсон, угас, страдая от опасной болезни…»
«Сэвидж, которого, в расцвете молодости и всех подобающих мужчине добродетелей, поглотило пагубное расстройство…»
– Не говоря уже о женщине, которая умерла, объевшись ананасов, – прибавила я.
Обелиск Джонса мы увидели позади коровы, безмятежно щипавшей сорняки с поддельного греческого храма: «Сэр Уильям Джонс, умер 27 апреля 1794 года в возрасте 47 лет и 7 месяцев от роду». Думая о том времени, когда жизнь измерялась месяцами, я прочитала вслух:
– «Восстановлен Азиатским обществом первого января тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года». Надо полагать, это памятник был восстановлен, а не человек.
– Не знаю – это Индия, в конце концов. Все мы тут занимаемся перерождениями.
Айронстоуны размещались поблизости, в мавзолее с куполом, среди жасмина и вьюнков, этакой изящной беседке для мертвецов. Но мой глаз привлекла не надгробная плита Магды, а пространная эпитафия ее свекрови:
ПАМЯТИ ЭММЫ КОНГРИВ АЙРОНСТОУН,
27 лет от роду,
возлюбленной жены Лютера Айронстоуна,
которая рассталась с жизнью 31 октября 1857 года, мучась от воспаления мозга, случившегося после тяжелой и страшной осады Лакхнау.
Также памяти ХИЛЬДЫ МЭРИ, 10 месяцев от роду,
возлюбленной дочери Лютера Айронстоуна,
скончавшейся 21 августа 1857 года от полного отсутствия должного питания во время осады Лакхнау.
Эта плита воздвигнута безутешным мужем и отцом, а также его единственным выжившим сыном, Джозефом
– Джозеф Айронстоун, – произнесла я. Собиратель, фотограф, размер черепа которого идеально совпадал с моим. – Я не знала, что он в один год потерял сестру и мать.
– Из-за воспаления мозга, что бы это ни означало.
– Думаешь, она спятила, потеряв ребенка?
– Памятник Магды вон там, рядом с другими Айронстоунами, умершими от воспаления мозга. Неуравновешенная семейка. Джеку лучше следить за собой.
Мы вместе прочитали надпись:
ПАМЯТИ МАГДЫ ФЛИТВУД АЙРОНСТОУН,
родившейся в 1854 году:
возвращаясь домой от друга однажды вечером 1935 года, она была поражена внезапным припадком безумия и замертво упала с лошади, которая несла ее
Поражена, как и ее тисовое дерево, разве что не молнией.
Через узкий проход между колоннами пролетел мячик для крикета, вслед за ним прибежали несколько мальчишек в рваных шортах.
– Это ваша семья? – в один голос спросили они. – Простите, если мы тревожим их, мисс, но мы очень почтительны и не даем пройти плохим людям, а чтобы поиграть в крикет в другом месте, нам надо два часа ехать в автобусе.
Они ослепительно улыбнулись Нику.
– Сэр! Сэр! – загалдели они. – У вас быстрая подача, сэр?
Он поднял свою пластиковую руку.
– Больше нет.
– О, не повезло, сэр! – Лица этих детей, привыкших к несовершенству, вытянулись, но не сильно. Индия: здесь все ваше существо отражается на лице, без купюр.
Когда мы уходили, утреннее небо уже уступало свой свет не по сезону позднему муссонному облаку, и окружавшие кладбище высокие стены, вдоль которых выстроились надгробия, подобно безумной стоячей мостовой, еще больше затенялись огромными щитами, рекламировавшими новое кладбище «в американском стиле»: Роскошно! Просторно!
– Иногда я думаю, что Индия – это всего лишь памятник минувшим и надвигающимся империям, – сказал Ник, читая рекламные объявления. – Она никогда не будет принадлежать нам.
Он умолк и не раскрывал рта до тех пор, пока я не остановилась сфотографировать мертвую ворону, раздавленную неутомимым движением транспорта до такой степени, что она черной графической тенью впечаталась в красную дорожную пыль. Глядя, как я аккуратно записываю снимок в свою реестровую книгу, Ник заметил:
– Мой дедушка говорил, что каждый, кто приезжает на Восток в поисках чего-то, обязательно найдет искомое. Но то, что он найдет, будет отражением его самого.
Это прозвучало как философия моей мамы в шестидесятые, одно из тех изречений, что запекают в печенье для гадания: будь осторожен со своими мечтами, они могут сбыться. Слегка рассердившись, я ответила:
– Прямо сейчас я ищу такси с кондиционером, если, конечно, ты не против, Ник.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































