Текст книги "Рыба, кровь, кости"
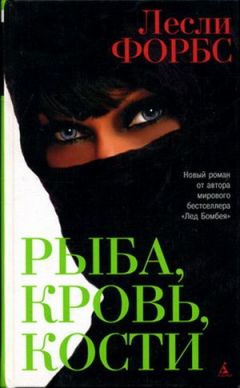
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
8
Я вскоре узнала, что Банерджи привык к тому, что люди на него пялятся: сперва на его буквально дух захватывающую красоту, а потом на его руку. У него были тонкие кости, как у тех, кто вырос на рыбе и зеленых овощах вместо мяса и молока, и кожа его отливала гладким, полупрозрачным блеском твердой карамели. Она даже казалась сладкой на вкус. На самом деле он весь казался съедобным, начиная лакрично-черными волосами до плеч и заканчивая правой рукой. Когда я протянула собственную руку для приветствия, его рот чуть скривился в неопределенной улыбке, а потом он со странным щелчком повернул запястье ладонью вверх. Не считая некоторого подобия формы, ничто не скрывало искусственность конечности. Она была ярко-розового цвета и плотностью напоминала ячменный сахар, создавая странный контраст с металлическими нитями, различимыми в пластиковой ладони. При виде моего замешательства лицо Банерджи расплылось в откровенной усмешке.
– Он вас смущает? – спросил он. – Мой протез, сделанный по последнему слову техники?
– Сочленение просто потрясающее, Ник-мм… – Я запнулась на его имени.
– Можете называть меня Ник. Меня здесь все так называют. – Он повернул запястье и согнул пальцы так, будто рассматривал новоприобретенное кухонное устройство.
– Какой она длины? – Он изумленно взглянул на меня. – Извините. Я просто интересуюсь внутренним строением, тем, как все работает.
Он покачал головой:
– Я ничего не имею против. Я тоже очарован этой своей фантомной конечностью. – Он закатал рукав и вытянул руку, ладонью вниз на этот раз, – жест принадлежащего к жреческой касте андроида, дарующего благословение.
Протез доходил почти до локтя.
– Я потерял ее – хотя, в общем-то, тут же обрел потерянное – в аварии. Мне полностью отрезало кисть сразу за запястьем, а лучевая кость – это та кость предплечья, которая идет от плечевой до большого пальца, – была так сильно раздроблена, что ее не смогли восстановить.
Он предложил пощупать мягкий пластик своей руки; напряжение мышц плеча придавало искусственному члену ощущение достоверности и управляемости.
– Скажите, – начала я и тут же смутилась, увидев, как он сузил глаза.
– Сказать – что? Пожалуйста, продолжайте.
– Вы сказали «фантомная конечность» – вы имеете в виду чувство, будто ваша старая рука все еще с вами?
Он снова улыбнулся:
– Да. Я вижу эту увеличенную руку или чувствую ее всякий раз, когда снимаю протез.
Фантомные боли не редкость среди людей, перенесших ампутацию конечностей, объяснил он мне. Многие калеки страдают от них.
– И многие доктора считают, что без этой фантомной памяти, этих «чувственных призраков», как их называют с девятнадцатого века, ни один калека не сможет пользоваться протезом. Так что, если мы теряем своих прежних призраков, мы должны воскресить их.
Хотя многие фантомные конечности казались меньше, чем заменяющие их искусственные, его собственный фантом был гораздо длиннее; он присоединялся к телу Ника с помощью длинных призрачных сухожилий розовой плоти, похожих на натянутые нити жевательной резинки. Ему сказали, что такое увеличение могло быть связано с тем несчастным случаем.
– Это произошло на оживленной калькуттской улице, когда мне было двенадцать.
Изможденный водитель-рикша, нагруженный пассажирами, не заметил отца Ника, ехавшего на мопеде с женой и сыном сзади, и врезался в них. Мальчик, падая, выставил правую руку, чтобы смягчить удар, – прямо под колеса проезжающего такси.
Машина затормозила, но было уже поздно.
– Я смотрел, как моя рука исчезает под ее передним колесом. Толчок автомобиля протащил меня вперед еще несколько футов, дробя кости. Я не помню боли, только странный смещенный вид руки, остающейся позади, больше не со мной.
Тем не менее каким-то чудом «скорая помощь» оказалась достаточно близко, чтобы не дать Нику умереть от потери крови, пока он отчаянно вопил о своей руке, затерявшейся среди ног прохожих.
– Поднялся крик, я помню это очень четко: «Рука! Рука! Найдите руку!» И толпа хлынула сначала в одну сторону, а потом в другую, а я все пытался поднять голову с носилок, уносивших меня в машину «скорой помощи». – Его голос слегка дрожал, но больше ничто не выдавало мучительность воспоминания. – Наконец они принесли мне руку. Я сперва не узнал ее, такой плоской и окровавленной она была, как выброшенная перчатка хирурга. Слишком грязная, чтобы ею можно было пользоваться. И все-таки, как ни странно, я по-прежнему ощущал ее частью себя, как будто она крепилась ко мне каким-то невидимым образом. В больнице ее положили в банку с формалином, и я поставил ее рядом с кроватью, чтобы наблюдать, как она плавает там, будто некое загадочное морское существо, и чувствовать одновременно ее отсутствие и присутствие на конце запястья, которое мне больше не принадлежало.
Невропатолог сказал ему, что фантомная конечность в конце концов может сократиться до размеров культи.
– Даже отсоединиться и отвалиться. Но мне кажется, я бы скучал по ней, по этой последней, слабой связи с местом, где я родился. Это звучит нелепо?
– Да нет, вполне разумно.
Я думала о Робине, который сбежал в Нью-Йорк, когда ему было шестнадцать, оставив маму с нетерпением ждать его возвращения. Мама тогда раздула важность Робина в нашей повседневной жизни, важность, утраченную с его уходом, пока он так и не остался навечно опоздавшим гостем к ужину, недостающим собеседником, историей о лучших временах. Когда мы нашли его снова, история уже была окончена. Лежа на больничной койке, он выглядел странно расплющенным, словно все поддерживающие кости были раздавлены, подобно руке Ника. Бескостный, как цыпленок для фаршировки.
– Похоже, что части нашего мозга, которые раньше получали входные данные от потерянного члена, продолжают работать, – сказал Ник. – Разъединенные клетки посылают ложную информацию, сообщая, что конечность все еще на своем месте. Вот мы и делаемся кривобокими.
Пока он говорил, я думала о Робине, но его следующий вопрос прервал мои мысли:
– А вы, Клер, по работе тоже интересуетесь устройством вещей?
Тут встряла Салли:
– Она фотографирует кости мертвецов.
Эта мелодраматическая реплика заставила Ника поднять брови.
– Я работаю вместе с судебным антропологом, – пояснила я. – Человеком, специализирующимся на изучении человеческой скелетной системы. Он консультирует всех, от патологоанатомов, проводящих вскрытие, до историков, исследующих заявления вроде того, что в безымянной могиле недалеко от Дели нашли останки Акбара.[19]19
Акбар Джелалъ-ад-дин (1542–1605) – могольский император Индии.
[Закрыть]
– Правда?
– Что?
– Что в безымянной могиле неподалеку от Дели нашли останки Акбара?
– Простите, я…
Меня завораживало то, как Ник пользуется своими руками, почти по-итальянски, или, скорее, пользовался, когда имел их две. Его правая рука все еще дирижировала, широкими неаполитанскими жестами, но теперь музыкальный ритм сбился, передавая колебание, записанное в партитуре. Длившееся не дольше вдоха (того придыхания, с которым он почти произносил «х» в «Дели»), оно волновало меня, как джазовая композиция, сыгранная в миноре.
Усилием воли я заставила себя вернуться к вопросу:
– А вы интересуетесь Акбаром?
– Я интересуюсь тем, что остается от вещей. Точнее, раньше интересовался.
– А теперь?
Он поднял палочку с земли и начертил в пыли четырехугольник, в каждом углу поставил букву «N», а посредине нарисовал круг – все это напоминало набросок райского сада Салли.
– Я перенес свою страсть на молекулу хлорофилла, – сказал он, подписывая круг буквами «Mg». – Здесь, в самом сердце, находится атом магния, легко отделяемый при значительном повышении температуры, – вот почему зеленые овощи желтеют, если их пережарить.
– Вы ученый?
Он помотал головой.
– Художник, интересующийся наукой. Что я отношу на счет этой моей руки. – Он отвернул свой правый рукав и показал металл внутри. – Как вы, вероятно, знаете, большая часть магния, который мы потребляем с пищей, содержится в наших костях. В моем же случае кости полностью сделаны из сплава магния.
Представляя себе, как он лепит скульптуры одной рукой, я спросила, в каком же виде искусства использовался хлорофилл. Он улыбнулся Салли.
– Наша садовница вам не рассказала? Я работаю с травой. Я художник, одержимый зеленым цветом.
– «Зеленый» художник.
Я пыталась не выдать свое разочарование. Сейчас он скажет мне, что его работа концептуальна – слово, к которому годы в художественной школе приучили меня относиться с недоверием.
– Вы должны посмотреть работы Ника, – сказала Салли.
– Мм, – отозвалась я. – Да, конечно. Как-нибудь…
– Пойдемте прямо сейчас. – Ник взял мою руку своей искусственной конечностью так крепко, что я заподозрила желание увидеть, как меня передернет.
Дом, где он жил со своим дедом, выглядел кукольным по сравнению с моим замком: четыре или пять крошечных комнат-кладовок, стены которых он превратил в галерею своих работ, сюрреалистических зеленых фотографий. Картины напоминали не то сделанную из травы Туринскую плащаницу, не то рентгенограмму лесного духа. Явно приведенный в действие нашими движениями, один рисунок издал странный пульсирующий ритм. Я покачала головой.
– Что это? Не могу разобрать.
– Фонограмма одной из моих инсталляций. Звук травы, пробивающейся сквозь почву, усиленный в десять тысяч раз. Эти картины – всего лишь бледное подражание настоящим работам, где трава выращивается вертикально в затемненной студии, а потом подвергается действию света – от этого возникают разные степени пигментации. Можно получить весь тональный ряд зеленого цвета, эквивалентный оттенкам серого, проявляющимся на черно-белых фотографиях. – Он указал на лицо человека, пожелтевшее от недостатка света. – Зеленый цвет исчезает, когда трава находится в неблагоприятных условиях. В конце концов растение умирает.
– Каким образом вы пришли к этой технике? – спросила я.
– Это все Салли. – Салли улыбнулась, довольная своим вкладом. – Она забыла лестницу на газоне, а когда убрала ее через несколько дней, то я заметил, что на траве осталась перевернутая тень, – там трава, страдавшая от отсутствия света, выцвела и лишилась зеленого пигмента. Я узнал, что растения, умирая, активизируют ген, который снижает содержание хлорофилла, так что они теряют цвет и чахнут, подобно людям.
Его картины травяных змей, богинь из дерна, индуистских монастырей из разбрызганной грязи, семена, выросшие в устремленные вверх зеленые коврики, – все они умрут, когда запас питательных веществ будет исчерпан, объяснил он. Его фотографии запечатлевали живые полотна, увядавшие со временем до серовато-коричневого и золотистого цветов позднего лета.
– Меня интересует тот миг, когда зеленый цвет растительности возникает из ничего, из тьмы, а потом снова исчезает, – продолжал Ник. – Узенький мостик между жизнью и смертью.
И как только ему удалось сказать такую фразу и не прозвучать напыщенно, будто вещает с кафедры?
– Вы пробовали краску?
– Краску – нет, – мягко ответил он. – Но я экспериментировал с грибком, красными клещами и пауками. Два года назад я вырастил ковер ячменя на полу дворца Шайо в Париже, а потом выпустил на него тысячу особей голодной саранчи.
– Нашествие саранчи, – отозвалась я. – Очень по-библейски. Сочувствую сторожу, который потом все это убирал.
Он нахмурился, но тут же пожалел об этом.
– Ну, стадия моего увлечения саранчой миновала. Теперь мне нужно что-нибудь более постоянное.
– Почему трава, если вы хотите, чтобы ваша работа сохранилась? Отчего не попробовать искусственное травяное покрытие?
Он считал, что одержимость травой, этой основой основ британского сада, коренится в его собственном происхождении: там, где он родился, большую часть года было слишком жарко и слишком сухо. Трава в Индии скорее бурая и зеленеет лишь короткое время, в сезон дождей, или же когда кто-то может позволить себе потратить драгоценную воду на ее орошение.
– В таком случае зеленый цвет становится еще более могущественным символом богатства и привилегированности.
Между тем в Британии и Штатах газон скорее служит зеленой гарантией безопасности, внушает своему хозяину чувство уверенности: мой участок; мой клочок земли; мой собственный кусок Аркадии. Еженедельный знак препинания, которого никогда не было у нас с Робином: день, когда папочка косит лужайку.
– Я работаю с генетиком Кристианом Гершелем, – продолжал Ник. – Он верит, что может отключить те гены, которые обычно активизируются, когда растения начинают умирать. Если он добьется этого, то сможет замедлить процесс старения растений. Или даже вовсе остановить его. Он называет свой новый сорт травы «Ева-грин», «вечнозеленая Ева».[20]20
В оригинале – игра слов: «Eva-green» произносится так же, как «evergreen» (вечнозеленый).
[Закрыть]
– Это редкость, наверное, – генетик, интересующийся фотографиями травы, – заметила я.
– Нас познакомил племянник Алекс, Джек Айронстоун. Джек и Кристиан занимаются исследованиями хлорофилла в ЮНИСЕНС, крупной фармацевтической компании. Часть денег на исследования поступает от гольф-клубов, теннисных клубов, комиссий по лугопастбищным хозяйствам. Остальным мы обязаны тому, что ЮНИСЕНС пускается в разные рискованные предприятия, чтобы изобрести новое лекарство, в состав которого входил бы хлорофилл, – его молекула, по их мнению, способна защитить иммунную систему. Моя работа – всего лишь ответвление от основных исследований.
– Что он собой представляет – Джек Айронстоун? – спросила я.
– Они родственники, – снова вмешалась Салли.
– Да, что-то вроде, – подтвердила я.
– Джек – интересный парень. Немного нелюдим.
В тот же день мне удалось выудить у Салли краткую биографию Джека Айронстоуна (Итон, Кембридж; биохимик по профессии и ботаник в свободное время). Впрочем, гораздо больше меня интересовало то, что Джек был связующим звеном, человеком, который мог заполнить кое-какие пробелы в моей семейной истории. Ник дал мне его домашний и рабочий телефоны, и несколько недель я оставляла ему сообщения, но он так и не перезвонил. Сначала секретарша Джека сказала мне, что он в Индии, проводит какие-то эксперименты с хлорофиллом. В другой раз он оказался в Бутане, где исследовал что-то, связанное с орхидеями. Целые месяцы человек, которого я считала ключом к прошлому моего отца, оставался «дальним родственником», мучительно неуловимым.
9
Пока не всплыло куда менее невинное объяснение дружбы Джека с Салли, я приписывала это ее умению все выращивать.
Она так же отлично ладила с людьми, как и с растениями. Мы часто заглядывали в домик, принадлежавший Мустафе, маленькому, подвижному человечку с бандитскими усами, который в первую же нашу встречу сообщил мне, что в обязанности Салли входит приносить мяту, нужную ему для чая по-турецки. Наблюдая за его женой, разливавшей ароматную жидкость из самовара в гравированные стаканы, я задумалась об окружавшей меня экзотике, о серебряном самоваре под рядом сделанных фотографий в сепии, изображавших виллы на Босфоре. Я никогда прежде не пила чай из стакана и не встречала служащих химчистки, подобных Мустафе, чья степенность вкупе с мудростью принадлежала не просто другому континенту, а иному веку, нежели мой.
В другой раз я заметила, что он, кажется, счастлив своей работой; на это Мустафа ответил, что счастьем обязан своим верованиям.
– Ислам? – спросила я, воображая, что все турки – мусульмане.
– Экзистенциализм. Мой отец был христианином, как большинство иноверцев в Турции. Почти все, что ни есть творческого, исходит от сектантов, диссидентов и редко от фундаменталистов, фанатиков. Я экзистенциалист, мисс Флитвуд. И потому счастлив в моей работе.
– Я понимаю.
Салли хихикнула. Она-то видела, что я притворяюсь.
– Я встал на сторону экзистенциализма с первой же страницы Камю.
– А… – Я отчаянно соображала, где здесь связь с химчисткой.
– Не следует, однако, путать экзистенциализм с нигилизмом, – добавил он.
– Нет, нет. Я постараюсь этого не делать.
Салли, желанный гость в большинстве приютов, вскоре ввела меня в местное общество. Она представила меня Толсте, у которого мы брали экзотические семена, и Артуру, старожилу Ист-Энда, давно разменявшему шестой десяток, – он попросил меня оставлять блюдечки с молоком для ежей. Гигантский домашний кролик Артура, Джордж, вселил в Рассела суеверный ужас. «Ты видела, какие яйца у этой крольчатины?» – прошептала Салли, когда мы уходили.
Но за все время, что я жила в Эдеме, моя подруга ни разу не пригласила меня в свой собственный дом. Разговоры на повышенных тонах, доносившиеся оттуда каждый вечер после закрытия пивных, служили достаточной тому причиной, а скрытность, которую она проявляла при расспросах, вскоре заставила меня понять: если надавить на нее слишком сильно, она просто закроется, как моллюск в раковине. Подобно жителям многих других закрытых сообществ, Салли неприязненно относилась к постороннему вмешательству в семейные дела. В душе она оставалась деревенской девушкой, готовой с радостью поделиться сведениями местного значения: лучшие пончики продаются в магазине на Коламбия-роуд, самый дешевый супермаркет – на Брик-лейн, Толстя подарил отменные семена конопли, а вон в ту забегаловку всегда ходят есть художники Гилберт и Джордж. Она даже показала мне «Лови на опарышей», принадлежавший Перси круглосуточный автомат по продаже червей, которым пользовались местные рыболовы, удившие рыбу в канале: они опускали монетку, а взамен получали живую наживку.
– Они что, так отчаянно нуждаются в опарышах? – поинтересовалась я. – Прямо двадцать четыре часа в сутки?
Она усмехнулась:
– На лежалого червя самую большую рыбу не подцепишь.
– Может, нам стоит составить им конкуренцию. В саду костей Вэла в опарышах нет недостатка. Но что они там делают весь день, эти черви? В смысле в автомате.
– Молятся, чтобы никто не пришел и не сунул туда эти пятьдесят пенсов, вот что.
Салли также водила дружбу с мистером Сильвером, с 1945 года управлявшим магазинчиком электроприборов на Коммершл-стрит: «Зачем лететь на Луну, если всю электротехнику вы можете приобрести у Сильвера?» Салли зарабатывала карманные деньги, помогая ему составлять рекламные надписи для замысловатых витрин, сделавших Сильвера местной знаменитостью (ручные мини-вентиляторы и карманная сигнализация, стальные замки, «Мощный шахтерский фонарик, можно носить на голове, можно использовать как настольную лампу», лампочки с разнообразными нитями накаливания, в форме крестов и звезд Давида). Не знаю, почему мне не показалось странным, что садовница-подросток сочиняла надписи в таком духе:
Преступление! Преступление! Преступление! Каждый день мы слышим множество историй об ограблениях и изнасилованиях, о жестоких нападениях в метро. Но нам никогда не рассказывают, что чувствуют жертвы этих нападений впоследствии. Должно быть, это тяжелые переживания на ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ время. Наша карманная сигнализация поможет вам в час беды!
Не считая этих маленьких вылазок, Салли интересовалась внешним миром лишь постольку, поскольку он касался растений. Она уговорила меня купить образцы гималайского голубого мака под названием Meconopsis baileyi, после того как долго надоедала сказками о его романтической истории. От нее я впервые услышала о полковнике Бейли, офицере британской разведки, который впервые обнаружил цветок в Восточном Тибете в 1913 году.
Охотники за растениями – то были кумиры Салли. Прочие девушки ее возраста сходили с ума по соло-гитаристам, она же теряла голову от искателей приключений и шпионов, бросивших вызов Гималаям в поисках редких цветов. В ее воображении раскинулся сад, полный утерянных растений: «незапамятный сад», как говорила она. Вожделенными трофеями моей подруги были не потные трусы или автографы ее героев, но нечто совсем противоположное: неподписанные ботанические акварели, копии, сделанные от руки с оригиналов, нарисованных неизвестными индийцами в Калькуттском ботаническом саду в девятнадцатом веке. Человек, собравший этот сад на бумаге, был сэр Уильям Роксбер, которого Салли величала «офигенный бог индийской ботаники».
– Эти картинки называются Акварели Роксбера. – Она написала оба слова с большой буквы, как будто это реликвии, рака – Королевский ботанический сад, Кью-Гарденз… – Когда наш класс ездил в Кью, смотритель разрешил их потрогать, – добавила она приглушенным голосом, обычно приберегавшимся для восхитительного торса Толсти. Великая мировая ботаническая сокровищница, все драгоценности в которой были на бумаге.
В прошлом январе мы совершили паломничество в Кью, чтобы взглянуть на эти реликвии, и меня по-настоящему потрясло, что герои Салли не подписывали свои работы – ни копии, ни оригинальные шедевры, которые по-прежнему хранятся в Калькутте. То был век систематики, время, когда широко применялась классификация Линнея, и все же индийские художники, авторы акварелей Роксбера, будто канули в Лету. Они скопировали все, до последнего водяного знака, до номера заводского оттиска, но не оставили ни имен, ни истории.
– Немного несуразно, правда? – спросила я хранителя ботанического сада в Кью. – Ученые, одержимые идеей расставить по полочкам все растения Индии, не позаботились сделать то же самое с людьми, теми, кто вел записи? – Этот вопрос волновал меня, ибо я питаю слабость ко всем, кто составляет списки.
Необычная увлеченность моей подруги первыми охотниками за растениями и художниками была воспитана ботанической библиотекой Магды Айронстоун. Там мы нашли схему фруктового сада, росшего в Эдеме первоначально. Потом Салли вырезала фотографии из каталогов луковиц и семян мистера Банерджи и, совместив их со списком понравившихся растений из Роксбера, собрала пестрый коллаж – наш собственный сад на бумаге. А однажды она прочитала книгу о старинных садах и вбила себе в голову, что еще можно найти призрачные следы того, что росло при Магде. Поэтому ночью она уговорила Толстю осветить фарами его автомобиля лужайку через задние ворота, а я в это время должна была фотографировать.
– Что за бред, детка! – сказал он. – Зачем мы это делаем?
– Выгоревшие пятна, появляющиеся на траве после засушливых периодов, дают ценную информацию о расположении ранних насаждений, – громко зачитала она. – Если взглянуть на них сверху, часто можно получить представление об общем рисунке потерянных садов.
На следующее утро я спросила Салли, чем она планирует заняться, когда уедет из дому, – я думала, вдруг она хочет стать ландшафтным архитектором, а может, мечтает пойти по следам ботаников вроде Роксбера. Она в это время стояла на коленях, продолжая наши вчерашние раскопки.
– Чем я хочу заняться? – эхом откликнулась Салли, садясь на пятки, будто этот вопрос никогда не приходил ей в голову.
– Да, заняться. Какие твои самые смелые мечты?
– Я бы хотела увидеть настоящие картинки Роксбера, ну, понимаешь, да? И узнать побольше о художниках. – Она задумалась на минуту. – Джек говорил, что в Индии на Айронстоунов работал некто Риверс, делал что-то, связанное с растениями. Он был доктором – так сказал Джек.
– Ах, вот как? – Отметив про себя Джека, я не стала говорить, что фамилию Риверс сложно назвать редкой. – И это все твои мечты? И ты не думаешь ни о профессии, ни о походах вглубь Гималаев за новыми растениями? – Я представила себе другую возможность. – А может, брак, дети, собственный дом?
– Собственный дом? – Она уставилась на вмятины, оставшиеся в грязи от ее коленей. – Мы всегда здесь жили. Семья мамы жила в номере втором. А папина – в номере первом. – Два отпечатка, история исходит из чресл.
– Что значит – всегда?
– Ну всегда – то есть целую вечность. – Она подняла горсть земли и протянула ее мне. Из темной почвы высунулся розовый червяк, выгнулся и упал обратно на землю. – Сначала это просто однородная бурая жижа, верно? Но если приглядишься, то увидишь там и кошачьи какашки, и опавшие листья, и желтую лондонскую глину, и старые кусочки битого заводского кирпича, и конский помет, и каких-то мертвых жуков, гниющие куриные кости, семена, которые могут прорасти лет через пятьдесят, пару цветочных луковиц, каштаны, которые закопали шустрые белки. Еще глубже ты найдешь маленькие осколки голубого и белого фарфора. Там земля совсем уже плотная и старая, может, ей уже лет сто – так говорит Артур, а его дед раньше ездил здесь на тележке, запряженной лошадью. – Она крепко стиснула пальцы, а потом разжала их – комок земли шлепнулся вниз. – Липко. Это глина. – Салли улыбнулась. – Я тоже прилипчивая. И не собираюсь уезжать отсюда, понимаешь?
Такая же самоучка, как и я, только ее пробелы в знаниях были куда шире; она гордилась тем, что первая познакомила меня с рисунками и дневниками Магды Айронстоун – записками длиной в целую жизнь. Мать Алекс нумеровала их только по месяцам и даже не ставила года, словно хотела стереть всякую разницу между одной весной и другой. Помню, как Салли перекатывала на языке латинские названия, точно гальку, сосредоточенно изучая картинку в одном из дневников:
– Elenium autamnale: народное название еленин цветок. Магда пишет, что его греческое имя прекрасно, «ибо объединяет в одно цветок и античную героиню, в то время как autamnale обозначает и время его цветения, и тоску своего открывателя по классической культуре».
– Helianthus exilis, – прочитала я через ее плечо. – Изгнанный подсолнечник.
Под тщательно выполненным карандашным наброском Магда приписала: «Сколько исследователей отдали жизнь и здоровье на службе нашей карте, сколько их пали жертвой одиночества и капризов климата? Даже непревзойденный Эверест[21]21
Эверест Джордж (1790–1866) – английский инженер-геодезист, руководивший тригонометрической съемкой в Восточной Индии в 1823–1843 гг. Первым определил высоту Джомолунгмы, которая и была названа его именем.
[Закрыть] в конце концов сломался, страдая от «нарыва в бедре и еще одного в шее, из которых неоднократно удаляли кусочки сгнивших костей»».
Не стану утверждать, что тогда я услышала ее голос – Магдин голос. Не стану утверждать потому, что всю свою жизнь я решительно отметала всякую возможность вмешательства в нашу жизнь сверхъестественного, которое так любили мои родители-наркоманы, предпочитавшие ясновидение ясности. Но ведь Сведенборг[22]22
Сведенборг Эммануил (1688–1772) – шведский ученый и богослов, основатель Церкви Нового Иерусалима.
[Закрыть] был ученым, но все же имел видения и подолгу беседовал с ангелами. Так ли необычно, что я слышу цвета, оттенки зеленого?
♦ ♦ ♦
Краска из ягод крушины: краска цвета морской волны, получаемая из неспелых ягод.
Обломки моего прошлого гниют во мне, как кости Эвереста. Я чувствую их, когда двигаюсь. Ты хочешь, чтобы я судил то, что ты совершила, снова говорит он, чтобы я был твоим судьей и судом присяжных, чтобы я проклял или простил твое деяние. Суди себя сама. Взвесь зеленый цвет, говорит он. Положи его на весы до и после того, как он увянет и превратится в желтый, измерь то, что исчезло. Даже ученые близоруки или дальнозорки, говорит он, мы страдаем от периферического зрения и цветовой слепоты. Как можем мы притязать на беспристрастность и всемогущество? Как исследовать то, чего нет? А ведь утраченный элемент, тот, что мы считаем само собой разумеющимся, отъятый, невидимый, может оказаться куда важнее всего, что видно и что есть.
Он изучал зеленый цвет так, как другие изучают классическую архитектуру, пытаясь разложить его на отдельные части задолго до появления приспособлений, достаточно чутких, чтобы различить столбики азота, цоколи углерода и таинственную центральную колонну магния.
Он был моей любовью, моей жизнью, моей зеленой мыслью в зеленой тени. Моим утраченным элементом.
♦
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































