Текст книги "Заслуженное счастье (сборник)"
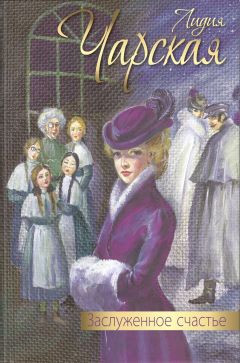
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Глава VIII
В сам день Ивана Купалы резко неожиданно изменилась погода. Стоявшая весь май и июнь жара, так дисгармонирующая с суровым климатом Финляндии, вдруг неожиданно сменилась хлынувшим сразу проливным дождем. Он затопил потоками землю; затемнили небо мрачно обложившие его серые тучи, мгновенно пропитались влагой глубокие зыбучие пески и зеленая хвоя молчаливых сосен.
Вчерашняя ночь на озере в связи с резкой переменой погоды самым печальным образом отразилась на здоровье Славушки.
Бледный, без кровинки в лице, с горящими лихорадочным огнем глазами, лежал он на своем диванчике, трясясь в ознобе. Напрасно Ия и доктор накрывали мальчика теплыми одеялами и тканями – ничто не помогало. Бедный ребенок трепетал, как птичка. Казалось, внутренний ледяной холод пронизывал его тело. Ия не находила себе покоя, глядя на мальчика. Ее преследовала мысль, что не кто иной, как она сама, виновна в остром переломе его болезни к худшему. Ведь это она устроила ночную прогулку к озеру, да еще сама отправилась веселиться, заставив мальчика дожидаться себя на сыром воздухе. Молодая девушка положительно не находила себе покоя от всех этих мыслей. Не находил ни минуты покоя и Алексей Алексеевич, видя страдания сына. Один только доктор Магнецов был, казалось, доволен таким состоянием своего маленького пациента.
– Тем лучше… Тем лучше… По крайней мере, мы имеем, что показать моему знаменитому коллеге, – говорил он. – Ничто так не дает возможности поставить верный диагноз, как острый пароксизм болезни, – утешал он Алексея Алексеевича и Ию.
Наконец теплые ватные одеяла и добрая порция малинового чая сделали свое дело и вызвали испарину на лицо и тело больного.
К двум часам ждали профессора Франка. Славушка, весь бледный и влажный, совершенно обессиленный, лежал, не будучи в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Только большие черные глаза его, эти всегда трогательно-прекрасные глаза, с кротким смирением смотрели на хлопотавших у его ложа отца, доктора, Ию… Он еще грезил вчерашней ночью, прекрасным темным озером, опоясанным огненной лентой костров, пляской, музыкой и весельем здоровых, сильных людей, которое ему, бедному Славушке, было уже давно недоступно.
Когда послышались звук бича и мягкое шуршание шин кабриолета, вся мыза засуетилась, как один человек. Быстрой, почти юношеской, походкой, так мало соответствующей его почтенному возрасту, профессор Франк миновал дорожку, ведущую от ворот к крыльцу дома, и так же по-юношески – живо и бодро – вошел в гостиную, где лежал маленький больной. Поздоровавшись с присутствующими, профессор подошел к мальчику, взял исхудалую ручонку Славушки и долго, слушая пульс, держал ее в своей руке.
Потом он вежливо попросил удалиться из комнаты самого Сорина и Ию, сказав встревоженному хозяину, что он позовет его тотчас же после осмотра ребенка и поставки диагноза.
Теперь в большой жарко натопленной несмотря на летнюю пору комнате у ложа больного мальчика остались только двое докторов.
Долго и обстоятельно выстукивал и выслушивал знаменитый профессор Славушку. Подробно осмотрел его, храня глубокое, мертвое молчание, и когда, наконец, усталый и тяжело дышавший от утомления мальчик сомкнул измученные глаза, старый ученый взял под руку молодого доктора и отвел его в соседнюю комнату. Здесь целым рядом латинских терминов и названий мировая знаменитость определила состояние и болезнь ребенка.
– Дитя слабо, почти безнадежно, это ясно, как день, – бросал он по-немецки общими фразами. – Но не от чахотки должен погибнуть мальчик, a от истощения, врожденного наследственного малокровия, которое излечимо разве одним только способом. Но на такой, новейший в науке, способ вряд ли пойдут его близкие. Я говорю об операции переливания крови. Тут доктор снова употребил латинский медицинский термин. – Я вижу в этом его единственное спасение… Если не влить в вены ребенка молодую, здоровую сильную кровь, то не долее как через несколько дней он засохнет и погибнет, как цветок, вследствие истощения. Болезнь, очевидно, прогрессирует, как вы сами должны были убедиться в этом, мой молодой коллега, – заключил профессор, обращаясь к доктору Магнецову, глядя ему в лицо сквозь круглые дымчатые очки.
Тот молча кивнул головой. Ему, лечившему Славушку, эта прогрессирующая к худшему болезнь была очевиднее, чем кому-либо другому. Сердце доброго доктора сжалось.
– Итак, ребенок должен неминуемо погибнуть… – начал он глухо.
– Несомненно, если не прибегнуть, повторяю, к операции, о которой я только что говорил и которая, несомненно, принесет ему пользу. Этот способ весьма часто был применяем мной в больницах Берлина и имел почти всегда блестящие результаты.
– Но кто согласится наполнить своей кровью вены ребенка… Что касается меня, то я бы сделал это без малейшего колебания, если бы не знал, как врач, что здоровье мое далеко не удовлетворительно. Я худосочен, мой глубокоуважаемый коллега, и не гожусь для подобной цели, – уныло произнес Магнецов.
– Несомненно. Ни вы, ни отец больного, я полагаю, не годитесь для этого. A вот и он сам, кстати, – и старый профессор-врач пошел навстречу профессору-ботанику, на ходу определяя ему состояние больного.
Ия, последовавшая сюда за отцом своего любимца, жадно вслушивалась в каждое слово, произносимое на немецком языке старым ученым, подробно характеризующим состояние здоровья Славы.
– Мальчик плох… Дело скверно… Дни жизни ребенка уже сочтены, – отрывисто бросал по-немецки знаменитый доктор. – Спасение может быть только в одном – в операции переливания крови, взятой у здорового человека и перелитой в вены больного, но я не вижу здесь кого-нибудь, кто бы мог пожертвовать мальчику фунтом, a может быть, и двумя, и тремя здоровой, молодой свежей крови…
Профессор обвел глазами присутствующих и остановил их на смертельно побледневшем лице Сорина. Страдальческая гримаса пробежала по губам Алексея Алексеевича. Судорожно сдвинулись эти губы… Так же судорожно передернулось все его лицо.
– Стало быть, мой Слава погиб… – произнес он глухим убитым голосом, – так как слишком очевидно то, что моя старая кровь не может сослужить ему пользы. Искать же теперь желающего передать свою кровь ребенку было бы безумием, так как, по вашим же словам, господин профессор, часы моего бедного мальчика сочтены.
– Он умрет тихо, заснет от слабости и незаметно перейдет в вечность, – словно желая успокоить несчастного отца последним утешением, подтвердил старый ученый.
Другой ученый заскрипел от бессильного отчаяния зубами. – Что делать? Что делать? – произнес он, ломая хрустнувшие в суставах пальцы.
– Я знаю, что надо делать, – неожиданно поразил всех молодой бодрый голос, и Ия, о присутствии которой совершенно забыли в эту минуту трое беседовавших здесь мужчин, неожиданно выступила вперед. – Я знаю, что надо делать, – бодрым, почти веселым голосом повторила молодая девушка, – и вы не помешаете мне в задуманном мной решении. Господин профессор, вы должны взять мою кровь и отдать ее Славушке… Вы говорите, что вам нужна здоровая, молодая кровь для этой цели… Возьмите же ее у меня… И, право же, вы дадите мне пережить самую большую, самую светлую радость в моей жизни, если я смогу быть хотя отчасти полезной бедному ребенку…
– Отчасти полезной, или вы шутите, фрейлейн? – пожал плечами старый ученый. – Или вы не поняли, что ваша великодушная готовность спасет ребенка от смерти?
– Тем лучше. Я готова пойти на это! – твердо произнесла девушка. Она хотела прибавить еще что-то, но неожиданно высокая, худая фигура Алексея Алексеевича Сорина метнулась к ней, его руки схватили ее пальцы, и дрогнувший, охрипший мгновенно от волнения голос произнес, с усилием выговаривая слова:
– Дитя мое… Дорогое дитя… Да благословит вас Бог за ваше великодушное решение, за ваш подвиг, Ия Аркадьевна… За спасение Славушки… Спасибо вам… Спасибо вам!
* * *
Письмо Ии к матери.
«Дорогая, ненаглядная моя старушка! Из письма Алексея Алексеевича Сорина вы знаете все, все подробности того, что должно произойти завтра. Родная моя мамочка, мне как-то дико и странно писать вам о самой себе и своем поступке, который люди превозносят почему-то до небес и который – для меня самой – вовсе не играет никакой роли. Голубушка мама, вы лучше чем кто-либо другой поймете меня, вашу большую благоразумную девочку. Помните, вы называли меня так постоянно с самого нежного возраста, с самого раннего детства? Дело в том, дорогая, что в моем решении нет ничего героического. Я просто безгранично привязалась к моему маленькому воспитаннику, и мысль потерять этого кроткого ангела, о котором я вам уже столько раз писала, кажется мне невозможной, чудовищной. И еще я ставлю вас на место его несчастного отца, вас, моя ненаглядная мама… Что было бы с вами, если бы я или Катя очутились бы в положении этого бедного маленького Славушки? A ведь нас двое у вас, мама, тогда как у несчастного отца он, этот больной ребенок, – единственный сын, единственная отрада и утешение, и если он умрет, этот мальчик, такой трогательный и нежный, с такой чуткой и прекрасной душой и телом, когда мы, окружающие его взрослые люди, можем спасти его, ведь я не найду себе покоя, поймите, мама! И вот почему я предложила себя, свои силы, свою кровь для спасения ребенка! Я полюбила его как моего маленького братишку, и мысль потерять его для меня невыносима. Не думайте, родная, что, предложив себя для спасения Славушки, я не подумала о вас… Я знаю, мамочка, что мне не грозит никакой опасности. Самое большее, что ждет меня после операции, это временная слабость, легкое истощение… Но я буду жива и здорова, я останусь жить для вас, для Кати, которых бесконечно люблю.
Целую ваши милые ручки, обнимаю Катю. Благословите своей любящей рукой вашу Ию и простите ее, что она, не предупредив вас, вызвалась на этот серьезный шаг, но времени осталось так мало и ребенок может погибнуть каждый час. Ия».
Письмо Алексея Алексеевича Сорина к Юлии Николаевне Баслановой.
«Милостивая государыня Юлия Николаевна, приношу вам свое глубокое извинение в том, что, не испросив предварительно вашего разрешения, я рискнул принять огромную жертву, принесенную нам вашей дочерью. Но Ия Аркадьевна предупредила меня о том, что вы единомышленны во всем с ней. По крайней мере, она сказала мне вчера так: “Я дочь своей матери. И хочу проводить через всю мою жизнь тот принцип, который проводила она: думать прежде всего о благе других и потом уже о своем собственном”. Так сказала мне эта прекрасная, благородная девушка и добавила тут же, что она чувствует и знает, что вы бы одобрили ее поступок, благословили на него. Из предыдущих писем вашей дочери вы уже знаете, милостивая государыня, о моем бедном, несчастном маленьком сыне и о его ужасном недуге. И вот теперь способ избавить моего мальчика от гибели найден и будет применен, благодаря благородству и великодушию вашей дочери. Ваша прекрасная, чуткая дочь предлагает воспользоваться частью ее крови для того, чтобы влить в вены моего умирающего мальчика и этим спасти его от смерти. Такой способ лечения весьма распространен теперь в цивилизованных странах света, и сам профессор Франк ручается за успех операции и за полную безопасность ее для здоровья вашей дочери. Теперь я должен написать вам о том, чего не должна знать до времени Ия Аркадьевна. Вы поймете меня, что нельзя оценивать материальными средствами лучший порыв души. И было бы кощунством отблагодарить таким образом великодушную девушку за ее самопожертвование, за подвиг. Но тем не менее нужно предусмотреть все. После операции переливания крови дочь ваша может временно ослабеть, утомиться, потерять энергию. Может быть, ей надо будет провести некоторое время на свободе, дома. И вот поэтому-то я прошу вас, милостивая государыня, принять от меня десять тысяч рублей, которые я перевожу тотчас же вам. Горячо прошу понять меня и не отвергнуть этой ничтожной для меня суммы, предназначенной для вашей дочери. Ее нельзя отклонять. В завещании моего сына, которое осталось бы после его смерти, эта сумма упоминается как ничтожный, маленький подарок Ие Аркадьевне по собственному желанию Славушки. И тогда бы, в случае Славиной смерти, Ия Аркадьевна не решилась бы отказаться от подарка мертвого. Так пусть же она так же великодушно примет этот скромный дар живого. По словам профессора Франка, мой мальчик после операции вернется ко мне здоровым, бодрым и сильным. И за это мы оба должны благословить вашу дочь.
Не гневайтесь же на меня, сударыня, за то, что я не нашел в себе силы оттолкнуть протянутую мне Ией Аркадьевной руку помощи, и не уничтожайте меня отказом в моей просьбе принять эти ничтожные деньги, которые могут сослужить хотя бы крошечную помощь вашей труженице дочери.
С искренним почтением Алексей Сорин».
Глава IX
– Такое прекрасное утро! Ия Аркадьевна, вы не чувствуете разве, что как будто само солнышко и вся природа хотят поддержать и подбодрить нас с вами? Вчера было так пасмурно, так сыро, дождливо и неуютно, a сейчас… Смотрите, смотрите! Как-то особенно зелены и пышны после вчерашнего дождя эти сосны! Какими чистенькими и промытыми кажутся пески!.. – и Славушка устремил свои лихорадочно горящие глаза в сад через открытое окно комнаты.
Ия, в белом полотняном халате, лежала на широкой скамейке, покрытой белой же ослепительно чистой простыней, уже подготовленная к операции. Рядом с ней на такой же скамейке лежал одетый в беленький же халатик Славушка. В соседней комнате возились доктора. Слышался плеск воды и характерный говор профессора Франка, изредка бросавшего немецкими фразами. Алексей Алексеевич Сорин стоял подле сына, держал его крошечную ручонку одной рукой, другой гладил его нежную голову.
Но глаза его смотрели на Ию… И сколько глубокой благодарности читала девушка в этих признательных глазах!..
– Вам не страшно, вам не жутко, Ия Аркадьевна? – спрашивал Алексей Алексеевич девушку. – Еще не поздно, подумайте, дорогое дитя.
– Я думаю о том, чтобы как можно скорее произошла эта операция, в сущности, такая ничтожная и пустая для меня, что о ней не следует и говорить. Не понимаю, что медлят доктора? – пожала плечами девушка.
– Ия Аркадьевна, пожалуйста, можно я кое-что у вас попрошу, и не сочтите это большой, большой дерзостью с моей стороны, – прозвучал подле нее милый голос мальчика.
– Да, Славушка, да, голубчик, заранее соглашаюсь на все, – произнесла Ия, поворачивая голову в его сторону.
– Благодарю вас… – подхватил мальчик, – и прошу вас очень-очень называть меня своим маленьким братишкой и говорить мне «ты»… Ведь вы же сами сказали, что через несколько минуток мы сделаемся друг другу «кровными», близкими. Точно брат и сестра, так вот если можно…
– Да, да… Я буду говорить тебе ты, Славушка, и называть тебя моим братишкой. Тебе же разрешаю называть меня Ией и сестрой. A теперь протяни мне твою ручонку, Славушка, и будь настоящим, смелым маленьким мужчиной. Ведь ты, надеюсь, не боишься того, что нам сейчас предстоит?
– Когда около меня папа и сестричка Ия, я ничего, ровно ничего и никого не боюсь в целом мире, – твердо произнес мальчик и пожал протянутую ему Ией руку.
Сорин наклонился к сыну, нежно коснулся его влажного лобика… Потом перекрестил мальчика и почтительно поднес к губам руку Ии.
– Доктора готовы. Будь мужествен, мой Славушка. Господь с тобой… Храни вас Господь, Ия Аркадьевна, – шепнул он дрогнувшим голосом.
Вошли доктора в белых халатах. В комнате постепенно запахло удушливым запахом эфира… Сорин отошел от сына и Ии… На его месте очутился со своим помощником профессор Франк.
* * *
Никогда за всю свою дальнейшую жизнь не забудет, конечно, Ия того странного ощущения, которое охватило ее, когда, сделав глубокий надрез на ее руке чуть пониже локтя и впустив в обнаженную вену наконечник гуттаперчевой трубки, профессор приказал ей считать до ста. Сам он в это время что-то быстро и суетливо делал над рукой Славушки. Другую руку Ии у пульса держал доктор Магнецов…
Ия видела сквозь прикрытое окно гостиной голубое небо, все обрызганное золотом солнечного сияния… Видела пышные зеленые сосны… Видела убегающие вдаль мохнатые холмы…
– Раз… два… три… – считала она вначале спокойно и раздельно, довольно громким голосом.
Потянулись бесконечные минуты, казавшиеся вечностью… И вот, постепенно, с удивительной точностью стала замечать Ия какой-то странный процесс, происходящий в ее организме. Точно кто-то беспощадно и настойчиво тянул ей жилу из той руки, в которой находился наконечник каучуковой трубки… И одновременно с этим какая-то чудовищная слабость охватывала все тело молодой девушки… Мутилась мысль в голове, все слабее и тише выстукивало сердце, и зеленые сосны в окне казались сейчас какими-то чудовищными, страшными, мохнатыми великанами… И золотое солнце почудилось усталому мозгу каким-то жутко волшебным, сказочно страшным чародеем. Вихрем пронзила последняя сознательная мысль мозг Ии, и, собрав все силы, она прошептала слабо, чуть слышно:
– Я умираю!.. Я, кажется, умираю! Что же, тем лучше… Славушка спасен… Алексей Алексеевич, не оставьте моей матери…
И, полумертвая от слабости, Ия, потеряв сознание, точно провалилась в какую-то глубокую, темную пропасть…
Глава X
– Все у тебя готово, Катюша?
– Все, мамочка!.. Решительно все…
– И холодных цыплят поставила? И пирожки тоже?
– И цыплят, и пирожки, и коржики, и лепешки с вареньем… Ах да, еще надо сказать Ульяне варенец принести с ледника…
– Сама скажи, Катюша… Меня ноги не слушаются что-то… Ведь подумать только, Катенька!.. Едет она, едет радость наша, солнышко наше… Ведь год не видались, Катюша, целый год. Шутка ли сказать.
– A вы все-таки не плачьте, мамочка… Не волнуйтесь вы ради Бога… Лучше пойдем еще раз и посмотрим, как Ульяна комнату для гостей наших приготовила, понравится ли им она… Если и не особенно с комфортом, пусть не взыщут… Здесь не город, a глушь… Да и сам профессор не избалованный такой, простой, и важности в нем ни чуточки, Ия писала – помните?
– Да, да… Катюша… Мальчуганчика его мне посмотреть ужасно хочется. Веришь ли, Катя, во сне его видела не раз. Ведь Июшкой нашей спасен этот мальчик – поневоле стал он мне дорог, как родной.
– Ну, мамочка, вы не очень, a то я ревновать буду. Довольно Ии и меня у вас. Вы лучше подумайте, как сообщить Ие о тех десяти тысячах, которые подарены нам профессором. Ведь она и не подозревает даже о них. Я знаю нашу гордую Ию. Воображаю, как она возмутится, начнет протестовать, сердиться, отказываться. Уж увидите…
– A если я скажу ей, Катюша, что грех отказываться от посильного дара тех людей, которым сама она принесла такую огромную, такую неоценимую жертву… Что из-за ложного самолюбия нельзя обижать тех, кто ей предан всей душой… Что, наконец, как писал в своем письме ко мне профессор, она бы не отказалась от этих денег, если бы их завещал ей после своей смерти Славушка, так почему же не принять их от спасенного благодаря ей малютки и его отца. А! Что ты на это скажешь, Катюша?
– Уж я не знаю, мамочка, поступайте, как знаете. Уговаривайте, как сумеете, нашу милую гордячку, a я так просто-напросто сказала бы ей: «Вот что, Июшка, намыкалась ты по чужим людям, пора тебе и отдохнуть. Я (то есть это вы, мамочка) устаю одна хозяйничать, молодая моя помощница (а это уже я, как видите, мамочка) должна снова в свой пансион ехать, запасаться книжной премудростью… A одна я скучаю и хочу быть с тобой, Июшка». Вот и все, мамочка. Так я скажите… Она же безумно любит вас, наша благоразумная Иечка, растает и останется непременно.
– Останется, ты говоришь, Катюша? Да?
– Всенепременно, мамочка. Это так же верно, как зовут меня Екатериной Аркадьевной Баслановой. A сейчас, простите, бегу взглянуть, положила ли Ульяна малину в вазочку…
– Иди, иди, моя стрекоза! Милая! – с любовной улыбкой бросила дочери Юлия Николаевна.
И Катя, удивительно возмужавшая и еще более поздоровевшая за это лето, выпорхнула за дверь на балкон, где был приготовлен исключительно парадный в этот вечер чай и ужин. Тихие, короткие августовские сумерки сгущались над Яблоньками. Солнце давно уже село за деревьями старого чародея леса. И в уютном фруктовом саду Яблонек затихали постепенно последние дневные шорохи и шумы.
Юлия Николаевна подошла к раскрытому окну своего крошечного деревенского домика, да так и замерла подле него, не отрывая жадных глаз с дороги, по которой должна была приехать ее старшая дочь вместе с отцом и сыном Сориными, пожелавшими доставить сюда Ию и, кстати, нанести еще визит.
Около двух месяцев прошло с того памятного дня, когда бесчувственную от потери крови и слабости Ию приводил в себя знаменитый профессор Франк. И в продолжение этих двух месяцев из далекой суровой Финляндии в тихий уголок степного берега Волги то и дело летели депеши и письма о состоянии здоровья обоих больных.
Неожиданная сильная слабость овладела после операции молодой девушкой… Нечего и говорить, что профессор Франк совместно с доктором Магнецовым приложили все свои старания, применяли все, что было нового в медицине, чтобы восстановить утерянные силы ослабевшей Ии.
И достигли самых лучших результатов, a уход и забота окружающих дополнили остальное.
В какие-нибудь две-три недели щеки Ии покрылись легким румянцем, глаза приобрели прежний яркий блеск. Профессор Франк уехал лишь только тогда, когда убедился окончательно в благополучном исходе операции, произведенной им над Ией, поручив дальнейший уход за девушкой домашнему врачу Сориных.
Что же касается самого виновника всех этих хлопот и волнений – Славушки, то сделанная ему операция вливания чужой крови в его вены отразилась самым блестящим образом на здоровье малютки.
Меньше чем через неделю ребенка нельзя было узнать. Куда девались его слабость, анемия, его прозрачная худоба и бледность и периодичная лихорадка с неизбежным спутником ее, жаром. Правда, порозовел и окреп Славушка не сразу… Но каждый день можно было наблюдать все улучшавшиеся симптомы возвращающегося к нему здоровья, лихорадка и жар покинули его, a слабость исчезла. Появился желанный аппетит, и не позже как через месяц малютка уже ходил по дому и саду, чего не делал за последний год, a еще через некоторое время на диво окрепший и порозовевший Славушка с веселым смехом бегал наперегонки с работницей Идой.
Теперь доктору Магнецову уже нечего было делать в семье Сориных. Признаки чахотки не грозили его маленькому клиенту, а зловещий недуг, так ошибочно принятый за нее – острое малокровие, – от которого должен был неминуемо погибнуть малютка, казался теперь давно развеявшимся темным кошмаром. За уехавшим на новое место доктором Магнецовым стали собираться в дальнюю дорогу и Сорины. Алексей Алексеевич вез теперь сына учиться за границу, где давно уже мечтал дать образование Славушке. Он трогательно упрашивал Ию отправиться туда же вместе с ними, чтобы занять место постоянной наставницы мальчика, но молодая девушка отказалась наотрез. Она предпочла искать себе другое место, отлично сознавая, что ее роль воспитательницы при больном ребенке уже пришла к концу. Теперь Славушка был здоров и силен и нуждался больше в обществе учителей и товарищей, нежели в заботах наставницы и сиделки. Ия предпочла искать себе другую службу, о которой и решила переговорить с матерью. Все это знала Юлия Николаевна Басланова из писем дочери. Нынче же она увидит и саму Ию, и ее друзей, решивших перед заграничной поездкой посетить их медвежий уголок.
Сердце матери начинало биться сильнее от одной мысли о предстоящем свидании со старшей дочерью. Старушка взглянула на часы. Теперь ее волнение достигло крайних пределов. По расчету времени они несколько часов назад отъехали от пароходной пристани и должны были быть с минуты на минуту здесь… Чу? Не топот ли лошадей послышался там вдали.
– Так и есть… Они, кажется… Катя! Катюша, никак едут? – взволнованно крикнула по направлению двери Юлия Николаевна.
– Едут, мамочка, едут! – не своим голосом завизжала Катя и опрометью, как пуля, кинулась с крылечка в сад.
* * *
– Июшка!
Все помутилось, все заволоклось туманом в глазах старушки Баслановой, когда неожиданно быстро выросла перед ней тонкая, высокая фигура ее старшей дочери. Ия, похудевшая, слегка осунувшаяся за этот год трудовой самостоятельной жизни, в дорожном костюме, с сумкой через плечо, бросилась в объятия матери.
– Мамочка! Мамулечка! Старушка ненаглядная моя!
И тесные объятия сжимали теперь небольшую, по-старчески согнувшуюся фигуру Юлии Николаевны, и град поцелуев сыпался на ее лицо. Ия вся преобразилась в эти мгновения. Трудно было бы узнать в этой взволнованной, потрясенной радостью встречи плачущей девушке прежнюю уравновешенную, спокойно-сдержанную молодую особу. Радость свидания совсем изменила ее.
– Мамочка, мамулечка моя, – лепетала новая Ия, целуя и обнимая мать и смешивая свои слезы со слезами старушки. – Наконец-то я вас вижу, наконец-то, роднуля моя!
Пока длилась первая радость встречи матери с дочерью, Катя успела поздороваться с Сориными, терпеливо дожидавшимися на пороге своей очереди быть представленными старшей Баслановой.
– Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать! – тоном настоящей хозяйки приветствовала она гостей. – A и прелесть же какая этот ваш Славушка! Можно мне поцеловать тебя, маленький человек? – непроизвольно вырвалось у нее при виде очаровательного крошечного мужчины, с его золотистыми локонами и черными звездами вместо глаз, неузнаваемо переменившимися за последнее время.
Слава вскинул на девочку свои лучезарные глазки.
– Разумеется, можно, – тоном взрослого человека произнес он, – разумеется, можно, так как я – маленький братишка большой сестры Ии, a ведь вы тоже ее сестра? – и, приподнявшись на цыпочки, он подставил Кате свою свежую, загорелую розовую щечку.
A получасом позже хозяева и гости уютно устроились за чайным столом, оживленно и задушевно беседуя.
Алексей Алексеевич Сорин и его маленький Славушка чувствовали себя так просто и хорошо среди этой крошечной дружной семьи. С завтрашним ранним поездом они должны были пуститься в дальнейший путь, сейчас же, оживленный и довольный, как никогда, профессор спешил передать Юлии Николаевне все подробности операции, на которую так самоотверженно решилась ее дочь.
Потом после ужина, Катя подхватила Славушку и помчалась с ним показывать мальчику все несложное крошечное хозяйство их родного гнездышка. Они обошли двор, сад, заглянули в Катин шалашик и понеслись было на опушку осматривать княжеский дом, пришедший теперь в полное запустение, но Ия решительно запротестовала, указывая на необходимость покоя Славушке перед дальнейшим долгим путем. И веселые, оживленные дети снова вернулись к чайному столу.
* * *
Ночь… Тихая, чуть прохладная августовская ночь медленно опустилась над Яблоньками. Черным флером затянулись степи и лес… Жуткими призраками зачернели дальние степные курганы… Месяц выплыл из-за причудливо разорванных облаков и робко скользнул по небу… Еще причудливее стали небесные дворцы, храмы и памятники – там высоко-высоко, среди горных холмов и долин, эффектно освещенные лунным сиянием.
В самой лучшей комнате маленького домика, отведенной гостям, уже давно спал профессор Сорин с сыном, уставшим с дороги до полусмерти. Спала и Катя, утомившаяся хлопотами по приему дорогих гостей. Единственный огонек светился теперь в окне спальни самой хозяйки.
Юлия Николаевна не спала. Она тихо беседовала с Ией. Девушка подробно и обстоятельно передавала матери все случившееся с ней за этот долгий, богатый событиями год ее жизни, проведенный вдали от родного гнезда.
Все эти случаи и события знала из писем дочери старая мать; но теперь, держа в объятиях Ию, Юлия Николаевна все-таки жадно вслушивалась в подробности и детали, передаваемые ей Ией. Когда девушка закончила свою исповедь и прильнула к плечу матери белокурой головкой, тогда заговорила ее старая мать.
Нежно-нежно, чутко-чутко коснулась Юлия Николаевна вопроса о подарке Сориных Ие… Вся осторожность, вся деликатность материнского сердца вылилась в немногих словах.
Да, она, Юлия Николаевна Басланова, хочет, чтобы Ия приняла эти деньги. Она хочет, чтобы ее дочь, ненаглядная Июшка, победила свою гордость и дала возможность хорошим, честным людям доставить ей некоторое удовольствие, крошечную радость, которая, конечно же, не сможет покрыть и сотой части той жертвы, которую принесла им в свою очередь Ия…
Деньги… Ни на какие деньги нельзя перевести человеческую жизнь!.. И она, ее разумная, славная Ия, поймет это… Но и в радости даяния нельзя отказывать людям… Это – гордость и ложный стыд. A потом… Ия должна знать, что если она примет этот подарок, то им не придется уже расставаться… Ей не придется больше покидать родного гнезда и лишать старую мать последней радости видеть подле себя свою большую, благоразумную девочку под конец ее старой жизни. Ие не надо будет уезжать снова отсюда, чтобы служить. Зарабатывать хлеб…
И еще долго, долго говорила старушка Басланова, и слезы текли у нее из глаз, смачивая прильнувшую к ее щеке нежную щечку дочери.
Так застал их рассвет, обнявшихся и тихо плачущих в объятиях друг друга…
Эти благодарные слезы решили дело. Что-то дрогнуло и растаяло в гордом, благородном сердечке Ии… Огромная любовь к матери, счастливая перспектива не разлучаться с ней, возможность счастья поселиться снова под крылышком ее обожаемой старушки – все это показалось таким бесконечно радостным, таким желанным для Ии, что молодая девушка уже не могла протестовать.
Быстро соскользнула она с низенького диванчика, на котором просидела ночь, к ногам старой матери, обняла эти милые ноги и, с лицом, освещенным сейчас бесконечно детской любовью, прошептала чуть слышно, закрепляя поцелуями свои слова:
– Да… Да… Моя родная… Да, я согласна, я принимаю этот подарок… Потому что он даст мне возможность остаться жить с вами долго-долго… Всегда…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































