Текст книги "Здесь и сейчас"
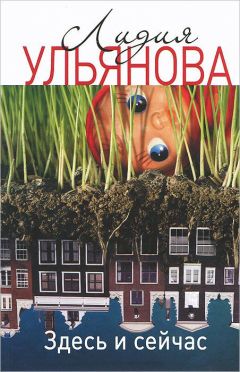
Автор книги: Лидия Ульянова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Не могла сказать, что мне чего-то или кого-то не хватало, в своем растительном существовании я была абсолютно самодостаточна.
Неизвестно, сколько все это могло продолжаться и как скоро надоело бы, но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Ведь те сны мне не снились уже давно.
Мы на даче – я, Надя и Любомир.
То есть не так: мы с Надеждой приехали сюда, чтобы забрать Любомира, окопавшегося на природе, подальше от посторонних глаз.
Брат съехал сюда где-то с месяц назад, вдрызг разругавшись с нами, «тупыми бабами». Разумеется, мы не выдержали после того, как неожиданно исчезли из шкатулки отложенные на хозяйство деньги. Кстати, это странным образом совпало с появлением денег у брата. Если в одном месте убыло, то в другом непременно должно прибыть – закон классической физики справедлив и в переложении на финансово-экономический мотив. Мы дружно принялись обвинять Любчика, взывать к его совести, он же отпирался до последнего, пока не протрезвел настолько, что почувствовал в себе силы добраться до дачи.
Кирочка волновалась, что он спьяну спалит дом, но мы успокаивали, что на дворе лето и печку топить он вряд ли станет. Подумаешь, даже если упадет и заснет, только проветрит голову среди грядок. Но Кира все равно тайком от нас ездила и проверяла. Заодно отвозила Любомиру немного подхарчиться. Иногда возвращалась вполне довольная, говорила, что брат ловит рыбу и загорает, а другой раз приезжала мрачная и ничего не говорила.
Так могло бы продолжаться до осени – Любомир не приспособлен к деревенской жизни в холодное время года, – но на днях должны были приехать мама с папой, а к этому времени мы обязаны были водворить брата в родное гнездо и реанимировать настолько, чтобы родители не испугались.
Маме с папой еще предстояло узнать, что желтая майка лидера никогда не достанется их сыну, – тренер категорически отказался иметь с Любомиром дело. Каким-то чудом брат сдал весеннюю сессию в институте, на тройки, без стипендии, – это все, чем он мог похвастаться перед нами.
Мы с Надькой даже не поругались с самого утра ни разу, она была со мной последнее время непривычно заботлива и внимательна. Сама нервная, осунувшаяся, серые круги под глазами – из обрывков телефонных разговоров я поняла, что у нее на работе завал и какие-то неприятности, – а меня старалась морально поддерживать. Я вначале ждала, что сестра бросится вправлять мне мозги насчет замужества, ведь от моего решения зависело и ее дальнейшее благополучие: где же возьмешь молодого и красивого канадского миллионера, если я не пойду за Уолтера? Но Надежда держалась стойко и неприятными разговорами не досаждала. А на все осторожные вопросы о ее проблемах только отмахивалась, отвечала «ерунда, выкрутимся как-нибудь», но во взгляде сестры временами мелькала несвойственная ей, какая-то новая жесткость, от которой у меня по спине даже пробегали мурашки. Временами мне начинало казаться, что я ее такую боюсь, и всякое желание расспрашивать тут же пропадало. Но я была ей благодарна за поддержку – жизнь моя, казалось, окончательно дала трещину.
После ссоры с Давидом случилась новая напасть – внезапно заболела моя любимица Ласка. Она лежала на подстилке, свернувшись комком мгновенно свалявшейся шерсти, и вставала только для того, чтобы добрести, пошатываясь, до входной двери, где ее мучительно рвало желчью с кровью. Приходил ветеринар, но ничего обнадеживающего не сказал: похоже на отравление, наверно, съела на улице какую-то гадость. Врач ставил ей капельницы, делал уколы, но от прогноза тактично уклонялся. Я жалела, что не успела к этому времени сама стать ветеринаром, не могла ничем помочь – только ревела. От моей истерики Ласке становилось еще хуже, она принималась нервничать, и рвота открывалась с новой силой. Через два дня ее не стало. Мы с Надькой похоронили ее за домом на газоне, собственноручно под покровом ночи выкопав яму под молодой березкой.
Я проревела еще пару дней, поминутно натыкаясь взглядом на поводок, миску для воды, ненужные больше собачьи лекарства, – мои глаза выхватывали из окружающей обстановки именно эти предметы, и слезы градом катились по щекам.
Кира, тоже убитая горем после смерти собаки, с сердечным приступом лежала у себя в комнате, теперь уже мы вызывали врача для нее. И ей делали уколы, измеряли давление и уклончиво отвечали, что все должно быть хорошо.
Надежда носилась между нами с Кирой, стараясь быть одновременно нянькой и жилеткой. Она даже забросила работу, на несколько дней отпросившись у Наума. Надя варила для нас куриный бульон, ездила на Кузнечный рынок за творогом и сметаной и, чтобы как-то поднять настроение, привозила из «Севера» фирменные «корзиночки».
Уолтер должен был приехать через каких-то девять дней, вскоре после родительского возвращения. Он даже позвонил во внеурочный день и сообщил, что заказал билет на самолет. Я покорно пообещала встретить.
Все это время я ждала, что объявится Давид, но он, казалось, и не собирался этого делать. Я даже наступила на горло собственной гордости и поехала к нему сама. Долго звонила в дверь нашим условным звонком, но никто не открыл. Тогда я нагнулась и заглянула под коврик у двери – ключа не было. Выйдя на улицу, я посмотрела на его окна – там горел свет. Давид просто не хотел меня видеть. На смену банальной обиде пришло ощущение жгучей несправедливости. Всю ночь я терзалась сомнениями и раздиралась противоречиями. Что ж, я подумала-подумала и к утру решила выйти замуж: все будут рады и всем будет хорошо. А я? Что я, стерпится – слюбится, так люди говорят? Первой, кому я сообщила о судьбоносном решении, была сестра – хотелось хоть немного ее порадовать, – но Надежда, к моему удивлению, отреагировала как-то вяло, занятая собственными проблемами.
И идея ехать за Любомиром тоже принадлежала Наде, я чувствовала и вела себя словно амеба, абсолютно не способная на поступки и решения, просто плыла по течению, будто снулая рыба. Кирочка, правда, возражала, говорила, чтобы мы оставили брата в покое, незачем отцу с матерью с порога такой подарок преподносить – разящего перегаром сынулю. Надежда же закусила удила, уверенная, что сможет привести Любика в божеский вид до приезда папы с мамой. Они даже повздорили с Кирой из-за этого: Кира хотела ехать с нами, Надя возмущалась, что она считает нас маленькими; Кира просила хоть меня остаться дома, Надька возражала, что одна не справится. Положа руку на сердце, мне ехать на дачу совершенно не хотелось, но их перебранка грозила затянуться, и я согласилась, только чтобы побыстрее развести спорщиц в разные стороны. У Кирочки же сердце, ей нельзя ругаться. Я накапала Кире капель и уложила на диван, укрыв ноги канадским пледом, пообещала проследить, чтобы все было пристойно, и брат с сестрой не поубивали друг дружку.
Мы с Надей нашли Любомира в плачевном состоянии: он мучился жестоким похмельем, а денег на поправку здоровья не было. Был наш братец зол на весь свет, что мы моментально ощутили на собственной шкуре. «Че приперлись, шмары?» – было самым ласковым из того, что мы услышали. Мне не хотелось верить, что это грязное, воняющее перегаром, хамящее быдло – наш добряк-брат. Он требовал и клянчил у нас денег, чтобы сбегать в магазин за портвейном, но мы твердо стояли на своем и не давали. Закончилась перепалка тем, что Любомир ушел, бросив нас одних. Когда же через некоторое время вернулся, мы ясно поняли, что добрая душа все же нашлась, – брат еле волочил ноги, но настроение его заметно улучшилось. Он даже отпустил пару смешных хохм, прежде чем ничком упасть на диван на веранде.
– Что делать будем? – Я от досады поморщилась.
– Подождем, пока проспится. – Надя сердито пожала плечами в ответ. – Он часа через три очнется, дадим ему остограммиться, чтобы до электрички дошел. Пообещаем дома еще налить.
– Ты уверена?
– На все сто. У нас на работе тоже такой есть, я насмотрелась.
– А где мы возьмем ему налить?
– Ну что, придется в магазин бежать.
Я сделала страдальческое лицо, Надька пошла навстречу:
– Ладно, ты не ходи, если не хочешь. Сиди, карауль. Да не бойся ты, никуда он не денется. Я же говорю, время есть, еще позагорать успеем. А лучше всего ляг и поспи, а то опять ночью не спала – я видела, как у тебя до двух часов свет горел. Не бойся, Любка никуда теперь не денется.
Надежда пошла в магазин, а я в одиночестве пощипала мелкий крыжовник с куста, собрала в кучу пустые бутылки, налила воды в умывальник. Августовское солнце грело мягко, расслабляюще. Я, плохо спавшая ночью, начала зевать во весь рот и пристроилась подремать на одеяле в гамаке, накрывшись от мух старым Кириным халатом из пестрого ситца. От высаженных Кирой еще в прошлом году цветов исходил легкий аромат, да, усевшись на яблоне, на разные лады свистела неугомонная птица. Сторож брата из меня вышел плохой – я моментально провалилась в сон.
Сквозь небытие я слабо слышала, как вернулась из лавки Надежда. Слышала голоса, женский и мужской, на повышенных тонах. Это спорили мои брат с сестрой, как водится, Любомир требовал, а Надька отказывала. Потом Надька что-то требовала, а он отказывался выполнять. Страшно не хотелось принимать участие в этих разборках, да я и спорщик никакой, поэтому ничего не оставалось, как стараться не обращать внимания и спать дальше. Надо будет – Надька меня толкнет. Голоса приближались и удалялись, затем вовсе стихли. Только на заднем плане не прекращала петь птица, а на дороге трезвонил велосипедный звонок, сопровождаемый тонкими детскими выкриками.
Я проснулась в тишине от странного чувства тревоги. А может быть, неудобства? Байковое одеяло съехало вбок, и сетка гамака больно врезалась в плечо.
Я приоткрыла глаза и неясно увидела прямо перед собой что-то непонятное – два ровных, темных полукружия. Послеобеденное солнце светило в глаза, слепило, мешало разглядеть. Пожмурившись и поморгав, я во второй раз открыла глаза в надежде, что мне привиделось и теперь все будет иначе, правильно. Полукружия не исчезли, более того, приняли четкие очертания. И никакие не полукружия, а пара идеально ровных, ладно пригнанных друг к дружке маленьких темных кругов, за которыми, если проследить взглядом, виднелась пара таких же темного металла труб с выступами на другом конце, переходящих в гладкую, фигурную древесину. Металл и дерево тускло блестели на солнце, еще больше притягивая взгляд. И еще бледные руки, одна из которых лежала на деревяшке, а другая придерживала снизу металлическую часть. Ох, ну почему я забыла дома солнечные очки!
До меня вдруг дошло, что это за предмет, и я внутренне возмутилась тупой и опасной шутке: папа никому не позволял даже прикасаться к этой его исключительно личной вещи. И откуда здесь это вообще взялось? Я раскрыла рот, чтобы решительно потребовать прекратить опасные забавы…
И все. И ничего больше. Дальше – только чернота, будто оборвалась пленка старого фильма. Исчез свет, исчез звук, даже не слышно треска испорченного кинопроектора…
Я не могла понять, какое сейчас время: час, месяц, год, век. Не понимала, где нахожусь, кто я и зачем.
В полной темноте я тряслась, будто в приступе малярии. Каким-то интуитивным, привычным, чисто механическим движением я зажгла ночник, и окружающее пространство озарилось робким, мягким светом: моя собственная спальня, прежде служившая спальней моим родителям, а еще раньше кому-то другому, мне неизвестному, должно быть тоже ныне почившему. В клетчатой фланелевой пижаме, поджав под себя одну ногу, я сидела посередине кровати на бывшей «маминой половине» – часть кровати, принадлежавшая когда-то отцу, вот уже несколько лет холодна и идеально ровна по утрам – и окружают меня до боли знакомые предметы. Дубовый шкаф, надежно стерегущий вещи. Туалетный столик, на котором с годами средства макияжа решительно вытесняются средствами по уходу – еще пара десятков лет, и они сами будут безжалостно замещены аптечными пузырьками. На столике сундучок, обтянутый кожей, традиционно покоящий внутри документы и нужные бумаги. Допотопное кресло с вытершейся обивкой – надо бы выбросить, да жалко. Пушистый ковер – единственное, что приобрела лично я.
Все такое домашнее и родное, привычное настолько, что даже перестаешь замечать, как не замечаешь собственную руку или ногу. Но отчего эти «домашние и родные» столь враждебны ко мне? Шкаф видится хранилищем скелетов, сундучок напоминает гробик, кресло похоже на доисторического ящера с кривыми ногами, и даже светлый меланжевый ковер таит угрозу?
Может быть, все оттого, что меня только что убили?
Я поняла, что не могу больше здесь находиться, сорвалась с кровати, выскочила босиком на лестницу и понеслась вниз, на первый этаж.
Я включила свет во всем доме – даже в кладовке! – но дом был настроен решительно и воинственно, он отвергал мою персону, хотел вышвырнуть наружу.
Такое бывало со мной пару раз после больницы, когда только-только начинали сниться парадоксальные сны. В таком случае я шла в комнату Оливера, тихонько ложилась на самый краешек кровати и успокаивалась, глядя на торчащие в разные стороны вихры сына, вдыхая его запах, слушая ровное мерное дыхание. Так я поступила и сейчас. Но волшебное средство не подействовало: Оливера не было, а без него неуемная дрожь да леденящий холод в босых ногах не проходили.
Я укрылась на кухне и решила прибегнуть к последнему средству – бутылке виски. Давно им не пользовалась, с тех самых пор, как познакомилась с Маркусом Шульцем. Спиртное обожгло горло, но не успокоило нервы – вторую порцию я все так же наливала дрожащими руками, горлышко бутылки дробью звякало о стакан. После третьей у меня хватило сил надеть на закоченевшие ноги колючие шерстяные носки. Лучше не становилось, наоборот – чем больше я пила, тем выше вырастали тени в углах, сильней хотелось вырваться из дома. Оставаться одна я была не в силах.
Как все-таки неправильно не иметь подруг и любовников: идти мне было некуда, а звонить и жаловаться некому. Всех остальных не хотелось беспокоить.
Безумной Офелией бродя по дому с бутылкой виски в одной руке и стаканом в другой, я старательно гнала от себя воспоминания о пережитом, пытаясь задушить их впечатлениями повседневной жизни, и внезапно вспомнила о человеке, который мог бы понять и помочь. Сегодня, в субботу, он должен был быть здесь, в Бремерхафене.
И с чего я взяла, что ему захочется понимать и помогать? Нет, все-таки виски не тот напиток, что нужен слабому женскому организму.
Я нашла свой телефон, а в его памяти обнаружила номер, по которому никогда не звонила.
– Фрау Миттель?.. – Он сразу взял трубку, несмотря на ночное время. В голосе слышались одновременно удивление, тревога и досада. Должно быть, мой номер тоже был забит в его телефон.
Я растерялась и, силясь выдавить хоть слово, молча сопела в трубку.
– Фрау Миттель?! – строже повторил он. – Что вы молчите? Что-то случилось? Оливер?..
– Оливера нет дома, все в порядке, – «успокоила» я сообщением, что маленький мальчик не ночует дома. – Приезжайте ко мне…
Я осеклась. Даже на мой нетрезвый взгляд получалось как-то неприлично: среди ночи позвать к себе мужчину, подтвердив, что дома никого больше нет.
– Фрау Таня, что случилось? С вами все в порядке? – Похоже, насчет порядка со мной он сомневался – прозвучало неуверенно.
– В меня сейчас стреляли… – Я хотела сообщить об этом как-то невзначай, чтобы не нагнетать обстановку, но запнулась и икнула. – Ик! Я боюсь здесь оставаться…
– К вам в дом ворвался преступник? – Он профессионально подошел к делу. – Вы ранены?
– Я убита… Ик!
Женский голос, сонный и крайне недовольный, опередил его ответ на мое сообщение:
– Милый, что произошло? Кто это звонит среди ночи? Это с работы?.. Возвращайся скорее, мне холодно!
Такого поворота я не ожидала. Хотя почему? Все логично. Мой затуманенный алкоголем мозг понял, что звонок был не к месту.
– Извините, я пошутила… – Я браво хихикнула и отсоединилась, нажав на кнопку. Более того, я отключила телефон, чтобы не было соблазна позвонить кому-либо еще.
Что было делать дальше?
Я с трудом впихнула в угги ноги в толстых носках, набросила на плечи куртку и вышла на улицу. Было тихо-тихо, только падали редкие, мелкие снежинки. Они лежали на перилах крыльца, похожие на слой сахарной пудры поверх сдобного берлинера. Я собрала их на палец и положила в рот, ощутив приятный холодок. Спустившись с крыльца, зашла за дом, чтобы посмотреть на соседские окна. Моя соседка Герда та еще полуночница, и к ней, в принципе, можно было зайти на огонек. Конечно, ее изумил бы мой визит: мы встречаемся только по делу, и только после предварительного телефонного звонка. Окна были темны, Герда спала. Спал весь город.
Я подошла к качелям, ладонью счистила снег с сиденья и собрала в тугой комок, присела, мгновенно почувствовав пятой точкой холодную влагу. Отхлебнула виски из бутылки и закусила снежком. Удивительное ощущение: обжигающе горячий виски и обжигающе холодный снег, надо запомнить. Повторить и запомнить.
Все же как хорошо на улице! Много лучше, чем в доме. Я прислонилась головой к цепочке качелей и закрыла глаза…
– Она здесь! Я нашел ее! – Голос низкий и громкий, командный нарушил тишину, все испортил.
А было так замечательно, мне привиделось что-то неуловимо нежное, удивительно приятное.
– Ребята, сюда! – Кто-то гаркнул мне прямо в ухо, разрушая идиллию. Чтобы окончательно все разрушить, этот кто-то принялся трясти меня за руки, и каждое движение болью отдавалось в голове. Руки незнакомца были жесткими и равнодушными.
– Доктор! Она здесь! – раздался выкрик чуть дальше. – Идемте, кажется, все в порядке.
Зачем здесь какой-то доктор? Они зовут доктора. Зачем мне доктор, если я не больна? И будет ли он оплачиваться из моей больничной кассы? Если нет, то я не согласна.
– Не нужно никакого доктора! – попыталась решительно заявить я, но не получилось.
– Что с ней? Почему она стонет? Кровь есть? – Этот голос я уже слышала когда-то раньше, только тогда он был не таким взволнованным.
– Не волнуйтесь доктор, она не ранена. Должно быть, ложная тревога. В доме все в порядке, следов незаконного проникновения нет.
– Тогда почему она сидит тут в одной пижаме?
– Она жива, – тот, что тряс, наконец-то оставил меня в покое и даже рассмеялся. – Жива, только мертвецки пьяна.
Интересно, «мертвецки пьяна» это про кого? И еще смеется – вот сукин сын!
– Посмотрите сами, в бутылке виски на донышке.
– О, Боже, Таня!.. Ребята, простите меня, я думал… Она сказала, что ее убили, и я… Вот черт! – Знакомый голос оправдывался.
Кто сказал, что убили? Я? Это кому это я такое сказала? От возмущения я открыла глаза и попыталась возразить, но вырвался странный, утробный звук. Я почувствовала, что меня сейчас стошнит.
Меня окружили двое в полицейской форме и один в штатском. Те, что в форме, дружно хохотали, а один из них панибратски ударил штатского по плечу:
– Не берите в голову, доктор, такое бывает. Лучше так, чем наоборот. Я рад, что все обошлось с вашей знакомой. Мы поехали, раз в нас нет нужды, а вы отведите ее в дом и уложите спать.
Тут я узнала того, в штатском, и радостно поприветствовала:
– О, это же Тиль Швайгер! Красавчик.
– Вот видите, доктор, она вас узнала! – грохнули полицейские. – На всякий случай неплохо было бы отвезти ее в больницу и сделать промывание желудка.
– Спасибо вам, парни, – еще раз поблагодарил тот, что в штатском, с которым я знакома, – дальше я сам управлюсь.
Полицейские ушли, и мы остались вдвоем. Какой куртуаз на пленере: ночь, снег, он и я – о таком можно лишь мечтать. Мне послышалась музыка, медленная и лирическая.
– Давайте потанцуем, – предложила я. Пришлось предлагать самой, ведь он бы не догадался.
– С удовольствием, – с готовностью согласился он и подхватил меня на руки.
Но как-то неудачно подхватил, я оказалась лицом вниз у него за спиной – кружиться в вальсе таким образом было очень неудобно. Что-то упало. Это был мой сапог, свалившийся с ноги.
– Э-эй! – возмущенно окликнула я.
– Синдерелла, вы потеряли хрустальную туфельку, – невозмутимо заметил мой принц, не останавливаясь, продвигаясь в сторону дома, – ничего, потом я ее найду.
Попав в дом, я вдруг почувствовала, что замерзла. Прямо-таки продрогла до костей. Меня начал бить озноб, и я что-то такое припомнила, вроде бы от подобной дрожи я и спасалась на улице. Я сделала попытку снова пойти во двор, но он не пустил. И танцевать больше не хотелось. Тогда я, борясь с тошнотой, дотащила бренное тело до дивана и упала лицом в подушку. Последнее, что я помню, – что безуспешно воевала с путающимся в ногах одеялом. После были еще какие-то впечатления, невнятные: то ли плыву, то ли лечу, руки на теле, смех и причитания надо мной…
Опять открываю глаза – осторожно, будто слегка приподнимаю шторку, – каждое движение отдается болью в голове и спазмом в желудке. Навожу резкость: ничего страшного, в окно моей спальни просачивается тусклый зимний рассвет. Все на своих местах. Я прислушиваюсь к звукам, доносящимся из глубины дома, и тишина напоминает мне о том, что Оливер у отца, я одна. Нужно встать, умыться, спуститься вниз и включить телевизор – его звуки помогают справляться с одиночеством. Тем более нужно встать, что смертельно хочется пить.
Нужно встать, но так уютно и тепло лежится. Я вынуждена экономить электроэнергию, особенно нынче, зимой, когда вместе с теплом вылетают в трубу немалые деньги, поэтому ставлю обогреватель в спальне на самый минимум – дешевле надеть теплую пижаму и носки. По утрам бывает зябко вылезать из-под одеяла, да и под одеялом не тропики, но только не сейчас. Сегодня мне непривычно тепло, а спину подпирает нечто большое, жаркое – как в одном из моих видений.
Я аккуратно опускаю глаза вниз, скользя взглядом по одеялу… Ох, Пресвятая Матерь Божья!.. На одеяле лежит рука, и она определенно не моя, если только за одну ночь я не превратилась в мужчину, как в глупых американских комедиях. Крупная рука с короткострижеными ногтями густо покрыта короткими волосками, на запястье дорогие часы на металлическом браслете. «Омега» – читаю я на циферблате. Это опять же повторяет мой сон, где Вера впервые оказывается в постели с Давидом. Только все неправильно, неестественно: я точно знаю, что у простого парня в Советском Союзе не могло быть таких часов.
Я вытаскиваю из-под одеяла руку, чтобы поднести часы поближе к глазам, рассмотреть, и обнаруживаю другую странность: моя собственная рука обнажена до самого плеча. Да что там странность, вопиющая катастрофа – на мне нет пижамы, что абсолютно противоестественно, учитывая холода. Да вот же она, скомкана и брошена греться на конвекторе. Может быть, я превратилась в лунатика? Брожу по ночам по дому, на ходу раздеваясь? Впрочем, здесь попахивает не лунатизмом, а нимфоманией. Боже, еще и мужская рука на моем одеяле – тут речь идет уже о чем-то более существенном. Я что-то пропустила?
Затаив дыхание, я отодвигаю чужую руку, приподнимаю край одеяла и заглядываю внутрь. Трусы на месте. Даже не могу сказать, успокоило ли меня их присутствие в свете соседства с мужской кистью. А вдруг это маньяк? Сексуальный маньяк, проникший среди ночи в дом, а сейчас сопящий за моей спиной?
И тут я вспомнила, как ночью звонила доктору Амелунгу и просила того приехать. Вот ужас! И часы у него «Омега» на металлическом браслете, я точно помню. Это что же получается? Он бросил очередную «девчонку», с которой проводил время, и из одной постели перекочевал в другую? Я права, настоящий сексуальный маньяк! Но почему тогда я не помню ничего больше? Ой-ой-ой, Таня, что же теперь делать?
Я рывком села на постели, повернулась в сторону «папиной половины»: так и есть, на моей кровати спал собственной персоной доктор Клаус Амелунг. Он не проснулся, даже не пошевелился, смотрел сны, укрытый почему-то одеялом моего сына. Я могу простить покушение на мою девичью честь, но брать вещи ребенка!..
– Эй, ну-ка просыпайтесь! Что вы здесь делаете? – Я начала трясти его за плечо, не в силах сдержать гнева. В голове принялся утюжить мозговое вещество асфальтовый каток.
Он что-то забормотал, заворочался и открыл глаза:
– Доброе утро, фрау Таня! – вежливо поприветствовал меня доктор. Вменяемо и членораздельно, как и не спал. – Вы уже проснулись? Как вы себя чувствуете?
– Что вы делаете в моей кровати, черт вас побери?
– Сплю. Странно, сам не заметил, как заснул… – Он разговаривал так спокойно, словно не происходило ничего из ряда вон выходящего.
– Не вздумайте сказать, что вам больше негде.
– И не подумаю. Просто вы стонали во сне, и я не решился оставить вас одну, а спать в кресле неудобно. Да и холодно у вас, вот, пришлось даже одеяло взять.
Он кивнул на одеяло сына, и я отметила про себя, что теперь нужно будет поменять постельное белье.
– Фрау Таня, вы что, в самом деле ничего не помните?
– Все я прекрасно помню! Я позвонила вам и пригласила к себе, да? Признаю, я совершила ошибку…
– Понятно, не помните. Еще бы, выпить одной бутылку виски! И выглядите вы неважно. Давайте идите в душ, а я пока сварю кофе.
Подумать только! После одной ночи он решил, что может хозяйничать в моем доме и командовать мной? И какое ему дело, когда и сколько я пью?
– Ну вот что, доктор… – Я вскочила с кровати и внезапно осознала, что стою посредине комнаты в одних трусах. Не хватало, чтобы он разглядывал, насколько «неважна» я вся, целиком. Лихорадочным движением сдернула с постели одеяло и прикрылась, заливаясь краской.
– А, да! Я снял с вас пижаму, потому что она была мокрой от снега. Вы не в обиде, надеюсь? – Снова это убийственное спокойствие. – Поверьте, ничего личного, только врачебная забота: я не мог допустить, чтобы вы заболели.
Что значит «ничего личного»? Стоило в кои веки раз проснуться голой рядом с мужчиной, чтобы услышать «ничего личного»? И означает ли это «ничего личного», что между нами не было секса? Тогда чего ради ему валяться в моей постели? Или «ничего личного» – своего рода щит, надежно защищающий его свободу, предупреждающий, что ни о каком продолжении не может быть и речи?
Он отбросил в сторону одеяло и тоже поднялся с кровати. На нем были светлые джинсы с ремнем, над которым слегка нависал живот и белоснежная майка, обтягивающая немного рыхлый торс. Что ж, приятно сознавать, что не я одна далека от совершенства.
– Пошел варить кофе, – сообщил он, проходя мимо.
Когда я умытая и одетая вышла на кухню, он ждал меня с двумя полными чашками. Внизу тоже было не жарко, и доктор облачился в теплый джемпер, тщательно скрывающий недостатки фигуры. Я, несмотря на принятый душ, чувствовала себя отвратительно. Каток в голове не останавливался ни на минуту, укатывая очередной километр асфальта. Желудок свело судорогой и не хотелось ничего, даже кофе, но доктор авторитарно выставил передо мной чашку, а я не посмела отказаться. Мне было ужасно неудобно и досадно: пока мылась, я в общих чертах припомнила все, что произошло накануне.
Я вздохнула, не поднимая глаз, старательно разглядывая пенку в чашке: сейчас он начнет приставать ко мне с вопросами, а отвечать не было ни сил, ни желания.
– Фрау Таня, – он как будто услышал меня, – я не буду донимать вас расспросами. Сейчас не буду. Вы сами расскажете, когда захотите. Если вам стало лучше, то я поеду домой. Или вы хотите, чтобы я еще остался?
Мне хотелось, чтобы он побыл рядом еще какое-то время, но я не забыла, что своим звонком разрушила планы доктора – где-то там его ждала женщина с недовольным голосом. Интересно, она все еще мерзнет или уже согрелась?
– Что вы, поезжайте. Простите, я испортила вам уик-энд.
– Ничего, я наверстаю.
Кто бы сомневался! А впрочем, какое мне до этого дело?
– Спасибо вам, доктор Амелунг. – Я нашла в себе силы взглянуть ему в глаза. Действительно была переполнена благодарности, главным образом за то, что он не стал ничего выпытывать.
Он не отвел взгляда.
– Не за что. Я ведь чувствую свою ответственность за вас: это я познакомил вас с Маркусом.
– Не принимайте близко к сердцу. Вашей вины тут нет. – Я попыталась улыбнуться. Должно быть, получилось кривенько, потому что он не ответил.
На прощание Клаус Амелунг вдруг остановился на пороге, задорно рассмеялся и загадочно пообещал, впервые назвав меня запросто:
– Таня, я не забыл – за мной танец.
Какой танец? При чем здесь танцы? Или я все-таки что-то пропустила?..
Я хотела ответить тем же и даже поцеловать его в знак признательности, но в последний момент не решилась:
– Еще раз спасибо… доктор Амелунг.
Он посмотрел на меня внимательно, как будто профессионально оценивал вероятность повторения прошлой ночи, неуверенно хмыкнул и ушел.
Для человека, пережившего собственную смерть – я имею в виду посттравматическую кому, и ничего больше, – не существует непреодолимых препятствий. Все постепенно становилось на свои места.
Вернулся домой обласканный и задаренный подарками Оливер. Юрген прислал мне внушительную сумму денег в качестве компенсации за то, что больше года входила в его ситуацию и не ждала материальной поддержки, пообещал и впредь не обделять сына.
Гюнтер, как мог, залечил свои болячки и вернулся под бок к Профессору. Эрика проводила брата с семьей и присоединилась ко мне, ежедневно изводя новостями из глянцевых изданий.
Наташа вернулась из России, привезла нам с Оли русских сувениров и непривычных на вкус деликатесов, самым убийственным из которых, на взгляд моего сына, оказался квас – русская кока-кола, подобие недоделанного уксуса.
Объявился перепуганный профессор Маркус Шульц – похоже, его здорово вздрючил доктор Амелунг. Я считаю – поделом: именно после этих научных экспериментов я чуть не отдала богу душу. Если бы тогда Амелунг не появился в моем дворе в сопровождении полицейских, я легко могла насмерть замерзнуть на качелях, и мой сын остался бы сиротой.
Профессор Шульц объяснил, что виной всему, вероятно, было нарушение режима сеансов: после занятий дважды в неделю мы на время прервали совместную работу, а делать этого не следовало. Мой мозг, видимо, недостаточно восстановился после травмы и, если можно так выразиться, пошел вразнос. Маркус Шульц, правда, совершенно не был уверен, что Веру убили, пытался объяснить мне, что такое возможно, – просто внезапное пробуждение, вызванное каким-то внешним воздействием, шумом. Он старался доказать, что мое восприятие сна может не совпадать с настоящим ходом событий, предлагал мне возобновить сеансы. Хотя бы для того, чтобы попробовать разглядеть убийцу Веры – думал, я соглашусь из любопытства, но я отказалась. Мне казалось, что профессор выглядел удрученным не из-за меня – он опоздал на самую развязку гипнотического спектакля, на последнее действие. Так сказать, задержался в антракте в буфете и пропустил главное. Я же была уверена в своих ощущениях и переживать такое второй раз не имела ни малейшего желания. У меня, в конце концов, маленький ребенок, и я не собраюсь расставаться с энным количеством нервных клеток просто ради удовлетворения чужих псевдонаучных амбиций. Меня больше это не интересовало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































