Текст книги "Здесь и сейчас"
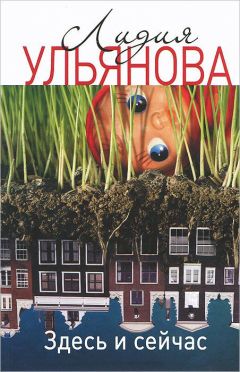
Автор книги: Лидия Ульянова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
На мой взгляд, этого супа хватило бы большой семье на неделю.
– Ай, молодцы! – похвалила нас Фатя, забирая пустые тарелки. – Несу, несу долму.
Долмой оказались такие маленькие штуковинки из виноградных листьев, в которые было завернуто сочное рубленое мясо. Я, уверенная, что не могу больше есть, осилила целых четыре, до того было вкусно. Может быть, меня просто подвергали изощренной пытке обжорством? Но совместная трапеза странным образом сблизила меня с Надеждой, я перестала видеть в ней врага.
– А кофе давай пойдем в библиотеке попьем, – предложила Надя. – Там тепло, можно камин зажечь. Ты пьешь кофе на ночь?
Я не пью, но ведь я не собиралась ложиться спать. Да и разница во времени делала свое дело, в России я засыпала очень поздно.
– У меня есть чудный коньяк. Хочешь немного?
От коньяка я решительно отказалась, даже от чудного – мне необходимо было сохранять трезвую голову.
Мы перебрались в библиотеку, такую же мрачную, как и остальной дом, тоже холодную. Тепло исходило лишь от ярко горящего камина, поэтому мы устроились поближе к огню. Здесь же на ковре улеглась спать накормленная Фатей Буська. Чтобы не молчать, я отметила:
– У вас интересный дом.
– Дом? – эхом переспросила Надежда. – Этот дом остался мне от мужа, построен еще до моего появления. Видишь, муж сплыл, а дом остался. Раньше дом казался мне жутким страшилищем, нелепым и безвкусным, казалось, будь моя воля, я бы все здесь переделала. Теперь же есть возможность переделать, так я привыкла, жалко разрушать.
Совершенно верно, это был типично мужской дом, брутальный и основательный. Линии в нем казались исключительно параллельными и перпендикулярными, без малейшего намека на изгиб. Но трудно было представить, чтобы та Надька, с которой я была знакома виртуально, – любительница рисовать красочных птиц и умопомрачительных тропических бабочек, – ничего не попыталась изменить в столь унылом жилище.
Надя налила себе на два пальца коньяка, Фатя принесла поднос с кофе и была вежливо спроважена спать.
– Ты больше сегодня не нужна, Фатя, спасибо. Иди к себе, дальше мы сами.
– Тогда я кошака вашего заберу. А то оставите без присмотра, а он углы обгадит, мне ж потом убирать.
– Что ты хотела узнать? – задала Надежда главный вопрос, когда ворчливая Фатима удалилась с котенком под мышкой. Мне показалось, она слегка волнуется, рука с бокалом чуть заметно подрагивала.
Вот оно, то, для чего я здесь. Вот оно, время «Ч».
– Я хочу знать, почему вы стали Верой? – Мой голос дрогнул в унисон с ее рукой.
– Знаешь, говори мне «ты», – вместо ответа попросила Надя. – Раз уж так сложилось, что когда-то мы были сестрами, мне неудобно, когда ты «выкаешь».
Мне тоже было неудобно – неудобно обращаться как к ровеснице к незнакомой женщине, годящейся мне в матери. Но на что не пойдешь ради тайны?
– Я хочу знать, почему ты стала Верой, – прилежно повторила я.
– А ты как думаешь? У тебя же должна быть собственная версия? – Она пристально разглядывала меня с улыбкой Джоконды. Казалось, она не собирается отвечать. Так, играет, рассматривая меня сквозь янтарную призму коньяка в бокале.
И в этой едкой иронии, в том, как она с упоением препарирует меня, я тоже узнала настоящую Надю.
– Да, есть. Только ты поправь, если я ошибусь. Мне кажется, что ты просто воспользовалась ситуацией, когда Любомир выстрелил в Веру. Тебе слишком хотелось уехать из страны, тебе хотелось жить в благополучной Канаде, а с Вериной смертью это стало много труднее. Только не понимаю, почему ты все-таки оказалась здесь? Не сложилось с Уолтером?
Она усмехнулась, склонив набок голову:
– Молодец, хорошая сказка…
Зазвонил телефон, отвлекая от разговора. Надя поглядела на дисплей, определяя звонившего, и поморщилась.
– Легок на помине, – с неприязнью заметила она. – Хочешь послушать?
Она включила громкую связь и ответила на звонок.
– Ну что, лахудра, скажешь? Надуть вздумала, сестренка? – Я узнала дребезжащий голос со скандальными нотками, который уже имела счастье слышать утром. – Думаешь, управы на тебя не найдется?
– Что ты хочешь? – ровно и спокойно, будто работник социальной службы, поинтересовалась Надежда.
– Что ты хочешь? – передразнил противный старикашка. – Что ты хочешь? А то не знаешь. Мне сказали, что деваха какая-то сегодня меня искала, из Канады приехала, родственница. Меня не дождалась и к тебе поехала. Что, все прикарманить решила?
– Что я решила прикарманить? – Надо отдать должное, терпению ее можно было позавидовать.
– Как что? Бабки канадские завсегда чемоданами подарки везли, да еще и доллары давали. Зашухарить решила? Так не выйдет, я все узнал. Так что давай делись.
– А нечего делить, Любомир. Ты вон бабок вспомнил, а они, покойницы, сколько уж лет как в могилах лежат. Ошибка это, никто ниоткуда не приехал. Ко мне приходила женщина, но она из Германии и по делу, так что спи спокойно, делить нечего.
Вздорный Любомир не поверил, требовал денег, пытался скандалить, но Надежда твердо завершила разговор. Положила телефон и вопросительно взглянула на меня.
– Прости, пожалуйста, я не хотела ставить тебя в неудобное положение…
– Не бери в голову, это его обычное поведение. Звонит, кричит, денег требует. Я помногу не даю, все равно пропьет.
– Но ты же не обязана ему давать, он сам еще мог бы работать…
– Я обязана, – тихо, но уверенно перебила Надя. – Я тоже виновата в том, что у него не сложилась жизнь. Он же совсем один, никому не нужен. Три раза в тюрьме сидел, семьей не обзавелся. Были раньше какие-то женщины, тоже пропойцы, да сбежали. А последний раз на свободу вышел, так совсем один живет.
Она о чем-то задумалась, что-то вспомнила:
– Ты знаешь, я тогда думала, что мама после случившегося его из жизни вычеркнет, заставит себя забыть. Мы же всегда считали, что мама должна нами гордиться. А мама единственная, кто его не бросил. Она даже в Египет не вернулась и осталась здесь. Папа вернулся – у него там хорошая должность была, а мама осталась. Все время, что Любомир сидел, передачи возила, на свидания ездила. Никогда ни словом его не упрекнула, ни разу не напомнила, что он сделал. На фабрику ее обратно не взяли на прежнюю должность, потому что она контракт с Египтом разорвала, так она устроилась на работу в химчистку. Там был график работы довольно свободный, а ей нужно было время, чтобы к сыну ездить. Ты себе не представляешь, сколько она часов в очередях провела, чтобы передачи передавать. Мне казалось, что она и про меня забыла совсем, жила только передачами и свиданиями. Да еще на кладбище часто ходила.
– Неужели мама не заметила подмены? Неужели не увидела, что ты не Вера?
Надежда пожала плечами:
– Не знаю, иногда мне казалось, что она все видит, но молчит. Сначала, наверно, в самом деле не замечала – столько всего сразу навалилось. Похороны Нади, да еще сын в тюрьме и Кира в больнице. У Киры, когда узнала, сердце не выдержало, ее на следующий день с инфарктом в больницу увезли, а через две недели мы и ее хоронили. Страшно вспомнить, что у нас дома тогда было. Мама с папой ведь только через два дня прилетели, я им даже позвонить боялась, не знала, как сказать. Представляешь, я их одна встречаю в аэропорту, жду и слова придумываю. А слов никаких не понадобилось, мама, когда меня увидела, сразу поняла, что беда случилась. Да и я зареванная, с распухшим лицом, ноги подкашиваются – разве разберешь толком, кто из дочерей перед тобой? А потом…
Она замолчала, ушла в себя, как в раковину.
– А как умерла Марина? – спросила я, запнувшись на имени. Хотела сначала назвать ее мамой, но почувствовала, что не могу. Не имею права. Ведь моей матерью была совершенно другая женщина, и, отчего она умерла, мне ли не знать.
– Мама? – то ли уточнила, то ли поправила меня Надежда. – Она ездила на свидание в тюрьму и на обратном пути попала под машину. Это было перед самым Любкиным освобождением. Должно быть, была сильно расстроена, задумалась и шагнула на проезжую часть вне перехода. Водитель самосвала не успел затормозить.
– А Николай, ее муж? Где сейчас ваш отец, тоже умер?
Я снова не сказала «наш отец». Ваш.
– О, у него, я надеюсь, все хорошо, – грустно усмехнулась Надя. – Вернувшись в Египет, он нашел там дамочку из русских сотрудниц и по возвращении в Советский Союз прямо к ней переехал. Дамочка из русских при ближайшем рассмотрении оказалась из еврейских, и, когда мама погибла, наш вдовец официально оформил отношения, вместе с женой отправился на ПМЖ в Америку. Тогда как раз выпускали. Видишь, хоть кто-то в нашей семье сумел приобщиться к великой американской мечте.
Она снова покрутила тонкими пальцами пузатый бокал, поболтала содержимое, задумчиво наблюдая за плеском коньяка. В ее голосе отсутствовали какие бы то ни было интонации, никакой эмоциональной окраски, голая констатация. Она встала, подбросила дров в камин, кочергой поворошила угли.
– Странная штука жизнь, да? – заметила, сидя на корточках, спиной ко мне. – Именно папа, который всегда горой стоял за нашу родину, взял и соскочил. Он сначала звонил мне часто, потом реже, а теперь совсем редко.
Она внезапно коротко рассмеялась, вставая, и этот негромкий механический смех неприятно резанул мои уши.
– Но почему же этого не сделала ты? Ты же мечтала, ты для этого стала Верой?..
– Ты имеешь в виду Уолтера? Ну, для меня накрылся медным тазом наш завидный жених. Забыла, я же, в отличие от тебя, по-английски еле-еле два слова могла связать? Как раз Уолтер представлял для меня реальную опасность.
– Ох, и как же ты выкрутилась?
– Пришлось сослаться на душевное потрясение, сильный стресс, вызванный смертью сестры и семейными проблемами, невозможность оставить маму одну. Я с ним даже по телефону отказалась разговаривать, мама сама с ним объяснялась, передала мой отказ, просила не приезжать. Я, кстати, и с музыкой разделалась раз и навсегда тем же способом – сказала, что не могу себя заставить сесть за пианино, даже инструмент продала. – Надя внезапно оживилась, словно припомнила что-то особенное. – Да, кстати, тебе же тогда звонил Давид, просил встретиться и поговорить. Думаю, он хотел вернуть ваши отношения.
Мне казалось, что я полностью владею собой, что я, наконец, заставила себя отделиться от Веры, научилась смотреть со стороны. Но известие о Давиде, о том, что он не бросил тогда меня – или Веру? – наполнило радостью сердце. Словно с моей нынешней, настоящей души упал массивный груз, словно я – именно теперешняя я! – прочувствовала внезапно собственную женскую неотразимость.
– Представляешь, он просит прощения, уговаривает приехать, а я банально посылаю его к черту. – Мне показалось, что это какое-то нездоровое оживление. – Я, влюбленная в твоего Давидика как кошка, готовая от ревности выцарапать тебе глаза, спокойно так высылаю его подальше и кладу трубку. Он ведь художник, он бы моментально заметил подмену. А по телефону, удивительное дело, не заметил, голос твой от моего не отличил. Должно быть, для этого нужно было быть композитором, да?
Вот так. Хотела получить все, все и потеряла. Ради чего же тогда было огород городить, чужую жизнь на себя примерять?
– Хочешь спросить, зачем я выдала себя за Веру? – Надя прочитала молчаливый вопрос по моему лицу. – Тогда мне казалось, что так будет для меня лучше…
Невнятное объяснение. Неужели мне придется им довольствоваться?
Надежда взяла чашечку тонкого фарфора, сделала маленький глоток и поморщилась – что может быть хуже остывшего кофе? Она встала, неспешно прошла к окну вдоль книжных шкафов, по дороге бережно касаясь пальцами стекол, хранивших старые подписные издания так же надежно, как и она хранила семейные тайны. Она отодвинула занавеску, выглянула на улицу – там не обнаружилось ничего интересного. Или она просто собиралась с духом? Моей прежней сестре Надьке никогда не требовалось время, чтобы собраться с духом, она ныряла в жизнь, словно в омут.
– Я тогда попала в очень неприятную историю. – Надо думать, она решилась на разговор, потому что обернулась от окна ко мне. – Ты наверняка ничего не слышала о Михаиле Монастырском? Ну да, откуда тебе в своей Германии. Да это и неважно, тогда он был просто Моней. Моня сколотил команду, и мы занимались тем, что подделывали Фаберже. То есть мы не делали копий с авторских работ, нет, мы делали собственные и выдавали их за неизвестные произведения знаменитого ювелирного дома. Я, например, рисовала и лепила из воска. Моня доставал дореволюционное золото, серебро и камни – они ведь отличались от современных. Знаешь, замечательные были работы, мне за них до сих пор не стыдно. Мы их клеймили настоящими клеймами, которые тоже где-то раздобыл Моня, и сбывали за очень солидные деньги. Я была у них бессловесной пигалицей, но и мне хорошо платили, так что про других говорить? Нашего Фаберже, представляешь, даже музеи покупали, мы все экспертизы на ура проходили. Но и на нас, умных, нашелся еще больший умник. Один раз на таможне какой-то вундеркинд заметил, что изделие наше выдается за работу мастера Перхина, который в России работал, а клеймо стоит такое, какие только в Польше ставили. Представляешь, таможенник все научные экспертизы переплюнул! И пошло-поехало. Завели уголовное дело. Моня, чтобы малой кровью отделаться, должен был кого-то из своих сдать, ну я была первой в списке, как самая молодая и дурная. Вот тут я и испугалась по-настоящему.
– Но это же в самом деле противозаконно, – возразила я.
– Да какая разница! Это меня мало интересовало. Поперву элементарно хотелось денег, чтобы не считать копейки, как то постоянно в семье происходило. А потом денег стало достаточно, а потом их стало даже много. Так много, что невозможно было никому признаться – откуда у восемнадцатилетней необразованной девчонки такие заработки? Даже дома не могла похвастаться, Кира и так подозревала, что я занимаюсь чем-то нехорошим. А после, когда закрутилось уголовное дело, мне нестерпима была мысль, что я окажусь за решеткой. Повторяю, мы же все дома думали, что наша мама никогда не простит, если с нами что-то подобное случится, отречется раз и навсегда. Как мне тогда страшно было! Еще бы, позор семьи. Я же не знала, что она в трудную минуту все возможное для собственного ребенка сделает. Как для Любомира сделала, несмотря на то что он ее родную дочь застрелил. Я подумала, что Вере уже все равно, а я еще для себя могу что-то поправить.
– Но это ведь ужасно!
– Конечно, ужасно. – Надежда по-своему поняла мои слова. – Думаешь, просто было перестроиться? Это мне только казалось, что все будет легко, и никто ничего не заметит. Я почти все заработанные у Мони деньги потратила на то, чтобы превратиться в тебя.
Мне показалось, что в эту минуту Надя пыталась обвинить в чем-то Веру. В моем лице обвинить. И я снова увидела в исповедующейся передо мной чужой женщине ту, прежнюю, настоящую Надьку.
– Я на одних чертовых преподавателей сколько спустила! Мне же нужны были самые лучшие, меня время поджимало. Английский, чтобы уметь говорить, как Вера. Всякие другие, чтобы в этом чертовом ветеринарном институте учиться, в который ты поступила. Я этот твой кошко-собачий институт поначалу ненавидела, по ночам в подушку ревела, а потом ничего, привыкла. Даже заставила себя полюбить. Видишь, теперь я зато классный специалист, ко мне со всего города на прием едут. «Ох, Верочка Николаевна, только вы нам можете помочь!» И бизнес с нуля подняла одна, никто не помогал.
Она невесело усмехнулась. Да, совершенно точно, о другом она мечтала в юности.
– А помнишь, как мама резала хлеб? – внезапно обратилась она ко мне с вопросом. Вероятно, просто хотела разрядить напряжение.
Это было такое милое детское воспоминание, что я ответила ей легкой, понимающей улыбкой:
– Конечно! Мы еще всегда смеялись над ней за эту привычку.
Дело в том, что Марина Львовна, вышедшая корнями из белорусского села, всю жизнь старалась казаться настоящей ленинградкой, воспитанной и интеллигентной. Она научилась чисто говорить, правильно себя вести, со вкусом одеваться, разбираться в книжно-театральных новинках и только до самой смерти хлеб резала по-деревенски, на весу. Так делал ее отец, так делала мать, так резали хлеб ее предки, этот хлеб вырастившие и выпекшие. Огромный свежеиспеченный в печи каравай с румяной корочкой укладывали на левую руку, в локтевой сгиб, прижимали к груди и нарезали толстыми, мягкими ломтями, в самом конце отламывая рукой, чтобы ломоть не упал на пол. Оттого хлеб, порезанный к столу Мариной, всегда имел непрезентабельный вид – большие, неровные куски, а на срезе буханки обязательно оставался обломанный хвостик. Это тебе не тонюсенькие, идеально ровные кусочки пережившей блокаду Киры – те были нарезаны на специальной хлебной доске острым ножом, а немногочисленные крошки собраны Кирой в ладонь и отправлены в рот.
– Как я злилась на маму за этот хлеб! – призналась Надежда. – Как не возьмешь буханку, обязательно сикось-накось отрезано, кусок колбасы ровно не положишь. А теперь так не хватает того хлеба с «хвостиком».
Мне показалось, что еще немного таких воспоминаний, даже самых безобидных, и она не выдержит, заплачет. И тогда я зареву вместе с ней. А зачем? Зачем мне становиться свидетельницей чужого душевного стриптиза? Я все узнала, я перевернула последнюю страницу…
Что? Остался еще эпилог? Нет, я не хочу больше ничего знать, мне пора возвращаться в собственный мир.
– Надежда, уже совсем поздно. Можете вызвать мне такси? Я и так злоупотребила вашим гостеприимством…
– Такси?.. – Мне показалось, что она растерялась. Будто что-то мешало ей отпустить меня с миром. – Не уверена, что это возможно, но сейчас попробуем…
Она куда-то позвонила, о чем-то побеседовала – мне было плохо слышно, она отошла в глубь просторной библиотеки.
– Увы, ничего не выходит, – заявила Надя, возвращаясь ко мне.
Я насторожилась: трудно себе представить, чтобы в огромном городе нельзя было вызвать машину, пусть и поздним вечером.
– Не волнуйся, просто неудачное стечение обстоятельств, – успокоила она, прочитав беспокойство по моему лицу, – ночью была метель, сильный ветер, и старый тополь упал на дорогу. Да не просто упал, а повалил столб и оборвал провода. Мы все уже почти сутки на генераторах сидим, поэтому и в доме холодно, Фатя почти все батареи отключила. А подъезд к поселку до сих пор не освободили. Если ты заметила, то я тебя сюда кружным путем везла, туда ни одно такси не сунется, только внедорожники. Я бы сама отвезла, но, видишь, коньяка хряпнула, не рискну. Слушай, оставайся ночевать, а? У меня чудная комната для гостей есть. А утром я тебя в лучшем виде сама отвезу в город, идет? Тебе к какому часу?
Меня, по правде сказать, ничто не ограничивало: завтра последний день симпозиума, и доктор Амелунг заранее предупредил, что не собирается появляться на заседании, а проведет время в лаборатории у Павла. Мне нужно было с ними встретиться только после обеда, перед отъездом в аэропорт. И объяснение Надежды выглядело убедительным: я сама не сажусь за руль, если выпью.
Но отчего тогда мне тревожно? Что не дает покоя?
– Не знаю, как-то неловко…
– Не глупи, я же сама предлагаю. Дом большой, а гости у меня бывают редко. Я ведь люблю гостей, забыла? Люблю, когда шумно, весело… Раньше любила. А мы с тобой еще на ночь чайку попьем с плюшками. По-русски так, на кухне, а?
Мне это было несвойственно, я дома пью кофе и минеральную воду, а чай из ромашки завариваю только когда простужаюсь. И плюшки на ночь я не ем. Странно, почему я согласилась?
Надя проводила меня в гостевую комнату, вопреки ожиданиям нисколько не мрачную, ситцево-светлую, приятно теплую. На кровати стопка аккуратно сложенных полотенец и махровый халат, пахнущий лавандой. У меня возникло чувство, что комнату заранее предупредительно нагрели и подготовили в предчувствии того, что она этой ночью понадобится.
– Принимай ванну, надевай халат и приходи на кухню, – распорядилась хозяйка и, резко развернувшись, вышла.
Оставшись в одиночестве, я почувствовала смертельную усталость. Усталость и озноб, смыть которые могло лишь отменное количество горячей воды. Без такой помощи я была способна только рухнуть на кровать и моментально отключиться.
Собрав остатки сил, подобрав с постели банные принадлежности, я направилась в ванную, которая тоже, казалось, только меня и ждала: батареи горячие, воды в водонагревателе вдоволь, шампунь и гель для душа новехонькие, а пробники с хорошими кремами в изобилии.
Скинув с себя одежду, я быстро шмыгнула под горячие струйки душа и уже минуту спустя ощутила, как вода смывает с тела усталость, та скользит по коже, собираясь вокруг пальцев ног, и утекает, закручиваясь на прощание хилым водоворотом. Отменные парфюмерно-косметическое средства тоже сделали свое дело в поднятии настроения, и в халат я заворачивалась вполне бодрая и довольная жизнью. Как мало нужно человеку для счастья – толику горячей воды, немного ароматных пенных пузырьков и насколько метров махрового хлопка.
По-видимому, с Надеждой в это время происходила аналогичная трансформация – когда я прошаркала шлепанцами на кухню, она уже хлопотала над чайником, тоже в халате и с мокрыми волосами, и выглядела вполне отдохнувшей. Поставила на стол большие чашки с «кобальтовой сеточкой» – я знала, что они называются именно так, – и плетеную корзинку с самыми обыкновенными пряниками и маковыми сушками. Я не удержалась и, не дожидаясь чая, быстро цапнула сушечку, ловко расколола ее в кулаке, четвертинку бросила в рот. Хм, откуда я знаю, что с сушками нужно поступать именно так? У нас в Бремерхафене не продают сушек. Вот что нужно завтра обязательно сделать – купить для Оливера русских сушек.
В пузатом «кобальтовом» чайнике Надя заварила чай из рассыпной заварки, густо-коньячного цвета, терпкий, пахнущий духами. Я даже не стала спрашивать, отчего он пахнет парфюмом – помнила, что Кирочка часто бросала в чайник ложечку сухих цветков черемухи. Эту черемуху по весне собирали на даче и сушили, рассыпав на листе оберточной бумаги. И хранилась сушеная черемуха в старой жестянке с надписью «Чай № 36». Где были предыдущие тридцать пять чаев, никто никогда не задавался вопросом.
Чай мы пили в молчании, словно боясь испортить момент опасными разговорами, и молчание это не было тягостным. Словно мы знали все друг про дружку и ни к чему слова. Когда-то так чаевничали вечерами на кухне повзрослевшие Вера с Надей: присутствовали и банные халаты – прежде фланелевые, – и свежая заварка, и сушки, и пряники. Если присоединялась Кира, то девчонки трещали наперебой, рассказывая ей о дневных событиях, впечатлениях, переживаниях. Кира была отменной слушательницей и советчицей.
Теперь Киры не было, и мы молчали.
После чая Надежда сложила посуду в посудомоечную машину, протерла стол и пожелала мне спокойной ночи, пообещав утром разбудить и доставить в отель.
Я отправилась в свою ситцевую комнату, выключила свет и забралась под теплое одеяло.
Должно быть, виной всему крепкий чай, потому что сон никак не шел. В темноте я поминутно ворочалась с боку на бок, вяло шевелила мозгами, пытаясь что-то проанализировать и осмыслить. Что-то категорически не устраивало меня в сложившейся ситуации, что-то не складывалось. Какая-то важная деталь никак не находила своего места, а без нее отказывался правильно работать весь механизм. Я осознавала, что необходимо сделать всего один маленький шаг, чтобы дотянуться до истины, но в какую сторону должно было шагать? Вера Арихина, переставшая в последнее время терзать мое сознание, вновь ожила внутри и настойчиво требовала внимания.
Мне становилось жарко, и я скидывала с себя одеяло, мерзли плечи и ноги – вновь натягивала одеяло до ушей. Я переворачивала подушку, укладываясь щекой на прохладную сторону, но ничто не помогало. Окончательно измучившись, я скукожилась в эмбриональной позе и заставила себя замереть, чтобы не сойти с ума.
Я крепко зажмурилась, пытаясь взять себя в руки, и в этот самый миг проснувшаяся внутри меня Вера словно вырвалась наружу, дернув за собой.
Я вдруг ясно ощутила себя лежащей в гамаке в тот злосчастный день, пригреваемая солнцем, накрытая старым Кириным халатом.
…я открываю сонные, подслеповатые глаза и в лучах бьющего в лицо света вижу нечто странное – два идеально ровных темных кружка. С удивлением скольжу взглядом дальше и вижу, что странные круги – окончание чего-то, представляющего собой гладкие, впритык друг к дружке трубки темного металла, вторым концом проросшие в кусок отполированного дерева. Это стволы, стволы папиного охотничьего ружья. Ружье крепко сжимают две бледные руки – гладкая кожа и короткостриженые аккуратные ноготки, покрытые бесцветным перламутровым лаком, пальцы напряжены, словно сведены судорогой. Руки знакомы мне не хуже собственных. Руки моей сестры…
Вот оно! Вот та самая мелочь, что никак не давала покоя. Если бы я была повнимательнее, если бы старательно не гнала от себя гнетущее последнее видение из последнего сна, то не оказалась бы сейчас в этом доме, в столь опасном соседстве. Я должна была, обязана сообразить раньше, когда впервые увидела во сне эти руки: они были слишком бледны, незагорелы, слишком женственны и не могли принадлежать Любомиру, который пол-лета провел на даче и покрылся темным, въевшимся в кожу загаром.
Что же теперь делать?
Я чувствовала себя мышью, бездумно нырнувшей в мышеловку за кусочком сыра. И как та глупая мышка, в испуге замерла, забившись в угол кровати, к самой стенке, по-животному трясясь от страха. Как я могла совершенно потерять бдительность, приехать сюда с сомнительной теткой? Нужно было сразу идти в полицию, нужно было рассказать все Клаусу и Павлу – они бы нашли оптимальный, законный выход, раз уж у меня ум за разум зашел. А теперь что? Делать вид, что ничего не понимаю? Как там у русских: «Я не я и хата не моя»? Постараться сохранить хладнокровие, утром найти в себе силы спокойно смотреть убийце в глаза, побыстрее добраться до гостиницы и унести ноги из этой страны. Сомневаюсь, что летом меня удастся заманить сюда снова, тем более с ребенком. А пока следовало просто терпеливо дождаться утра – о сне речи быть не могло. Часы показывали два ночи.
В сложившейся ситуации вопрос «Зачем?» даже не всплывал в моей голове. Как же так получилось? Зачем Надежда все это подстроила?
От тревожных мыслей меня оторвали доносившиеся с улицы звуки. Показалось, что хлопнула дверь, послышалось мерное урчание, похожее на звук работающего мотора. Я избрала для себя хлипкую защиту – закуталась в одеяло и в таком виде прокралась к окну, осторожно выглянула во двор. Мне не почудилось – около входной двери выпускал дым из выхлопной трубы черный внедорожник, он мигнул мне фарами и стремительно вылетел в распахнутые ворота. Но я все же успела рассмотреть водителя – Надежду Арихину, уносящуюся в неизвестном направлении, несмотря на заверения в том, что не садится выпившей за руль. Куда она спешила в столь поздний час по занесенной снегом проселочной дороге?
Придерживая рукой мантией волочащееся одеяло, я, уподобившись давешней мыши, принялась в панике метаться по мышеловке – выскочила из комнаты и забегала по чужому жилищу, бесцеремонно распахивая все попадающиеся на пути двери. Спальня с не успевшим выветриться запахом хозяйки, холодный кабинет, мерно гудящая бойлерная, санузел, пустой гараж, несколько кладовок, доверха забитых бытовой химией, бумажными полотенцами, запасными постельными принадлежностями, домашними заготовками и спиртным, – в этом доме я смогла бы автономно просуществовать долгое время. Только вот отведено ли мне это время? Да я и не собиралась здесь оставаться.
Дом словно вымер – ни души, исчезла даже Фатя, даже Буська. Впрочем, на помощь последней рассчитывать не приходилось: что мог сделать для меня голосистый комок теплой шерсти? Но куда они делись-то? Входная дверь – массивная и крепкая – оказалась запертой и нисколько не поддалась моему натиску. Я лишь ушибла плечо и отбила пятку. Окна первого этажа оказались забранными снаружи металлическими решетками, а окна второго были слишком высоко, чтобы прыгать. Да и что я стану делать, оказавшись на морозе? Мне не под силу вернуться в дом, вскарабкавшись по стене до второго этажа. Внезапно на глаза попался телефонный аппарат, я обрадованно схватила его, принялась тыкать в кнопки. Аппарат работал, но русских номеров я не знала, а с немецкими проклятое устройство не хотело меня соединять.
Издалека почудился мелодичный звук, что-то отдаленно знакомое. Я не сразу сообразила, что это требует ответа мой внезапно оживший телефон, брошенный на тумбочке у кровати. Путаясь в одеяле, спотыкаясь, бросилась в свое ситцевое пристанище, дрожащей рукой нажала кнопку вызова и услышала такой родной, сердитый голос:
– Таня, куда ты пропала? Я ищу тебя весь вечер. Ты на часы смотрела? Не советовал бы тебе ночью ходить здесь одной.
– Но я думала, что не понадоблюсь. Вы же сказали, что сегодня баня, и я могу быть свободна… – принялась оправдываться я, вместо того чтобы молить о помощи. Видать, вспомнила, что приехала-то в эту страну по другому поводу.
– Ай, ничего интересного, я рано ушел. – Доктор сменил недовольство на равнодушие. – Думал провести вечер с тобой, а ты испарилась.
Эх, в другой раз слушала бы и слушала! Пусть даже он говорит это так, словно ему все равно. Я заспешила с объяснениями:
– Я хотела позвонить, но деньги закончились.
– Я так и понял. Позвонил Курту, и он пополнил твой счет – это быстрее, чем пополнять его здесь. Ну, где ты? Подозреваю, что не угомонилась и дальше копаешь под ту русскую семью? – Видимо, он досадовал на меня за то, что разрушила его планы.
– Клаус, спаси меня! – закричала я. Очень не хотелось признаваться ему в собственной глупости, но было не до сантиментов. – Меня заперли в чужом доме, одну. Я нашла убийцу, и, кажется, она настроена весьма решительно. Она уехала на машине, заперев меня в доме…
– Тебе угрожали? Было какое-нибудь насилие? – Его голос зазвучал обеспокоенно, и я поймала себя на мысли, что рада этому. Что ж, моя ситуация не предполагала иных радостей. – Ты можешь назвать адрес?
– Нет, понятия не имею где я. Только знаю, что это где-то за городом, какой-то поселок сплошь в высоких заборах.
– Таня, это не ориентир. У русских многие строят такие заборы. Успокойся и постарайся вспомнить что-нибудь приметное. Что ты видела, когда вы ехали? Тебе не завязывали глаза?
– Нет, никакого насилия. Я была около станции метро «Озерки», а оттуда езды примерно полчаса на машине, даже меньше. Мы как будто ехали от города в противоположную сторону. Ох, вспомнила! Хозяйку дома зовут Вера Николаевна Арихина.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































