Текст книги "Шестая жена короля Генриха VIII"
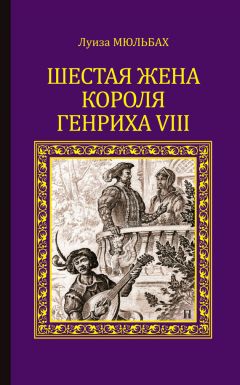
Автор книги: Луиза Мюльбах
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
В это время со двора донеслись звук охотничьего рога и топот лошадиных ног.
– Ее величество возвращается, – сказал Джон Гейвуд с радостно сияющим лицом, причем его злорадно-насмешливый взор обратился на леди Джейн… – Вам, миледи, не остается ничего более, как исполнить свой долг и идти на парадную лестницу встречать вашу повелительницу, так как, по вашим недавним мудрым словам, королева еще жива.
Не ожидая ответа, Джон Гейвуд стремительно бросился через залы к лестнице навстречу королеве. Леди Джейн посмотрела ему вслед мрачным злобным взором, а когда медленно повернулась к двери, чтобы идти встречать королеву, тихо прошептала сквозь стиснутые губы:
– Шут должен умереть, так как он – друг Екатерины.
VII
Верный друг
В это время королева подымалась по ступеням большой парадной лестницы и, приветливо улыбнувшись, поздоровалась с Джоном Гейвудом.
– Ваше величество, – громко сказал он, – от имени его величества короля я должен сообщить вам несколько секретных слов.
– Секретных слов? – повторила Екатерина, остановившись на площадке дворцовой лестницы. – В таком случае я попрошу мою свиту отступить; мы должны принять секретного посла.
Королевская свита молча и почтительно отступила назад, а королева и Джон Гейвуд остались стоять на площадке.
– Теперь говорите, Джон! – сказала Екатерина.
– Ваше величество, обратите внимание на мои слова и глубоко запечатлейте их в вашей памяти! Против вас составлен заговор, и через неделю, в день большого придворного праздника, он созреет для исполнения. Поэтому обращайте внимание на каждое произносимое вами слово, даже на каждую вашу мысль. Опасайтесь каждого неосторожного шага, так как вы можете быть уверены, что вас всегда подслушают. А если бы вам для чего-нибудь понадобился верный друг, не доверяйтесь никому, кроме меня. Поверьте, большая опасность грозит вам, и только умом и осмотрительностью вы можете избавиться от нее!..
На этот раз королева не рассмеялась над предостерегающим голосом друга. Она стала серьезна и даже задрожала.
– В чем состоит этот заговор? – с трепетом спросила она.
– Я еще не знаю этого; я знаю только, что он существует, – ответил шут. – Но я допытаюсь, и если ваши враги тайно подсматривают за вами, то и я сделаюсь шпионом, чтобы наблюдать за ними.
– Против меня ли одной направлен этот заговор? – спросила Екатерина.
– Против вас и против вашего друга, ваше величество!
Екатерина, вздрогнув, спросила:
– Против какого друга, Джон?
– Архиепископа Кранмера.
– Ах, архиепископа Кранмера? – повторила королева с облегчением. – И это все? Только его и меня преследуют наши враги?
– Только вас двоих, – печально ответил шут, очень хорошо понявший вздох облегчения королевы и догадавшийся, что она опасалась за другого. – Но помните, ваше величество, что гибель Кранмера будет и вашей гибелью; если вы защищаете архиепископа, то и он защищает вас пред королем – вас, ваше величество, и ваших друзей.
Королева слегка дрожала, и краска на ее щеках стала ярче.
– Я всегда буду помнить это и всегда буду верным другом ему и вам, так как вы оба – не правда ли? – мои единственные друзья.
– Нет, ваше величество, я говорил вам еще о третьем – о Томасе Сеймуре.
– О, он! – воскликнула Екатерина с прелестной улыбкой, а затем вдруг заговорила тихо и быстро: – Вы сказали, что я никому не должна доверять здесь; хорошо! Я хочу дать вам доказательство моего доверия. Ждите меня сегодня ночью около двенадцати часов в зеленом зале, прилегающем к саду. Вы будете моим спутником в опасном похождении. Есть ли в вас достаточно мужества, Джон?
– Настолько, чтобы умереть за вас, ваше величество!
– Тогда приходите, но возьмите с собой оружие!
– Слушаю! И это все, что вы прикажете мне на сегодня?
– Все, Джон. Вот что еще, – добавила Екатерина нерешительно, слегка покраснев. – Если вы случайно встретите графа Сэдлея, то можете передать ему поклон от моего имени.
– О! – печально вздохнул Джон Гейвуд.
– Он сегодня был моим спасителем, Джон, – добавила королева, словно извиняясь, – и вполне понятно, что я могу выказать ему благодарность, – и, приветливо кивнув шуту головой, она направилась к главному входу дворца.
Джон печально опустил голову на грудь. Но вдруг он услышал позади себя голос, тихо назвавший его по имени, а когда он обернулся, то увидел молодую принцессу Елизавету, поспешными шагами приближавшуюся к нему.
Теперь, стоя пред Джоном, она казалась не гордой, повелительной принцессой, а только робкой, краснеющей девушкой, колеблющейся доверить чужому слуху свою первую девичью тайну.
– Джон Гейвуд, – сказала она, – вы часто говорили, что любите меня, и я знаю, как моя бедная, несчастная мать доверяла вам, даже призывая вас в свидетели своей невиновности. Тогда вы не могли спасти мою мать; не хотите ли теперь послужить дочери Анны Болейн, быть ей верным другом?
– Я хочу этого всем сердцем, – торжественно произнес Гейвуд, – и клянусь Господом Богом, что вы никогда не найдете во мне изменника!..
– Я верю вам, Джон, я знаю, что могу довериться вашему слову! – воскликнула принцесса Елизавета. – Итак, слушайте, я скажу вам свою тайну – тайну, которой, кроме Бога, никто не знает и раскрытие которой могло бы привести меня к эшафоту. Поклянитесь мне, что никогда, никому, ни под каким предлогом, ни из-за каких соображений вы не скажете о ней ни слова, даже на своем смертном одре и на исповеди.
– Клянусь вам, принцесса, клянусь памятью вашей матери, никогда не выдать ни одного слова из того, что вы мне скажете!
– Благодарю вас, Джон. Теперь наклонитесь ближе ко мне, чтобы воздух как-нибудь не подхватил моих слов и не отнес их дальше. Джон, я люблю! – Она увидела полуудивленную, полунедоверчивую улыбку, заигравшую на губах Джона Гейвуда, а затем продолжала с большим одушевлением: – Ах, вы не верите мне? Вы думаете о моих четырнадцати годах и полагаете, что дитя еще ничего не знает о чувствах молодой девушки? Но вспомните, Джон, что молодые девушки, вырастающие под жгучими лучами южного солнца, рано созревают и становятся женщинами и матерями, когда должны бы быть еще невинными детьми. Я также дочь юга, но только мое сердце созрело не под влиянием лучей счастья, а под действием страдания и горя. Поверьте мне, Джон, я люблю. Жгучее, всепожирающее пламя бушует во мне, это мое наслаждение и в то же время мое страдание, мое счастье и моя будущность. Король отнял у меня блестящую и славную будущность, так я хочу сохранить право по крайней мере на счастливую жизнь. Так как я никогда не буду королевой, я стремлюсь быть хотя бы счастливой и любимой женщиной. И если мне суждено жить во мраке и неизвестности, то мне не должны препятствовать украсить цветами это бесславное существование и осветить его звездами, блистающими ярче, чем королевская корона.
– О, вы заблуждаетесь насчет самой себя, – печально сказал Джон Гейвуд. – Вы выбираете одно только потому, что другое вам недоступно; вы хотите только любить, потому что не можете властвовать, а так как ваше сердце, жаждущее славы и почестей, не находит другого удовлетворения, то вы хотите утолить его жажду другим напитком, хотите предложить ему любовь вместо опиума, которым оно успокоило бы жгучие страдания. Поверьте мне, принцесса, вы еще сами не познали себя. Вы не родились, чтобы быть только любящей супругой; ваш лоб слишком высок и горд, чтобы носить лишь миртовый венец. Обдумайте хорошенько свои поступки, принцесса!.. Не поддавайтесь влиянию страстной крови вашего отца, бушующей также и в ваших жилах!.. Сообразите все, прежде чем действовать. Ваша нога еще стоит на одной из ступеней трона; так удержите свое место! Тогда следующий шаг подвинет вас еще на ступень вперед. Не отказывайтесь добровольно от своих законных прав, но выжидайте с терпением для возмездия и правосудия. Нет ничего невозможного в том, что тогда вы получите блестящее и полное удовлетворение. Вы, принцесса Елизавета, можете еще когда-нибудь сделаться королевой, конечно, если вы не перемените своего имени на менее славное и высокое.
– Джон Гейвуд, – сказала она с очаровательной улыбкой, – ведь я говорю вам, что люблю его.
– Ну, так любите его, но делайте это в тишине, не говорите ему ничего и учитесь скрывать свои чувства!
– Джон, он уже знает об этом!..
– Ах, бедная принцесса, вы еще ребенок, с улыбкой храбро хватающийся за огонь и обжигающий себе руки, так как он не знает, что огонь горит.
– Пусть он горит, Джон, и пусть его пламя перебрасывается через мою голову. Лучше сгореть в огне, чем медленно угасать среди ужасающего смертельного холода. Говорю вам, я люблю его и он знает об этом.
– Ну так любите его, но, по крайней мере, не выходите за него замуж, – недовольным тоном воскликнул Джон Гейвуд.
– Выйти замуж? – с удивлением переспросила принцесса. – Боже мой, об этом я вовсе еще не думала!..
Она опустила голову на грудь и стояла молча, задумавшись.
– Я боюсь, что сделал глупость, – пробормотал Джон Гейвуд, – я внушил ей новую мысль. Ах, ах, его величество король Генрих прекрасно поступил, взяв меня в свои шуты. Именно тогда, когда мы мним себя особенно мудрыми, мы совершаем наиглупейшие поступки.
– Джон, – сказала Елизавета, снова подымая голову и с улыбкой смотря на шута сияющими глазами, – вы совершенно правы; когда люди любят друг друга, они должны соединиться узами брака.
– Но я сказал как раз противоположное, принцесса!
– Хорошо! – решительно воскликнула она. – Все это относится к будущему, теперь же мы займемся настоящим. Я назначила моему возлюбленному свидание.
– Свидание? – с удивлением воскликнул Джон Гейвуд. – Надеюсь, вы не будете настолько безумно смелы, чтобы исполнить свое обещание.
– Джон Гейвуд, – серьезно возразила Елизавета, – дочь короля Генриха никогда не дает обещания, которого она не исполнила бы. В хорошем и дурном я всегда буду держать данное слово, даже если бы это грозило мне гибелью или большим несчастьем.
Джон Гейвуд не осмеливался противоречить далее. В этот момент во всей фигуре Елизаветы было нечто особенное, гордое, истинно королевское, что вселяло ему почтение и пред чем он должен был преклониться.
– Я обещала ему свидание, так как он пожелал этого, – продолжала принцесса, – но я должна сознаться вам, Джон, что к этому склонялось и мое собственное сердце. Не пытайтесь убедить меня отказаться от моего решения, оно непоколебимо, как скала. Но, если вы не хотите помочь мне, – скажите, я поищу другого друга, который любит меня настолько, чтобы заставить замолчать все свои сомнения.
– И который, быть может, выдаст вас, принцесса. Нет, нет, раз вы уже решились и не измените своего решения, никто, кроме меня, не должен быть вашим поверенным! – воскликнул шут. – Скажите же мне, что я должен делать, и я буду повиноваться вам.
– Вы знаете, Джон, что мои покои расположены в том флигеле, который граничит с садом. В моей уборной, за одной из больших картин, я открыла дверь, которая ведет в уединенный, темный коридор; из этого коридора можно проникнуть в башню, которая пустынна и необитаема; никому никогда не приходит в голову зайти в эту часть дворца; там в комнатах царит гробовая тишина, но тем не менее они убраны с чисто королевской роскошью. Там я хочу принять моего возлюбленного.
– Но как он попадет туда?
– О, будьте покойны, я уже давно все обдумала и, пока отказывала моему возлюбленному в его мольбе о свидании, в тиши подготовляла все к тому, чтобы когда-нибудь дать ему мое согласие. Сегодня эта цель достигнута, и сегодня я наконец исполнила его желание, совершенно добровольно и без новой просьбы с его стороны, так как видела, что он уже не имел мужества молить снова. Теперь слушайте! От башни витая лестница ведет вниз, к маленькой двери, через которую можно пройти в сад. У меня ключ от этой двери, вот он. Имея этот ключ, мой возлюбленный должен только вечером не покидать дворца, а остаться в парке; с помощью этого ключа он пройдет ко мне, так как я буду ждать его в большой башенной комнате, расположенной против лестницы. Возьмите ключ, передайте ему, а затем повторите ему все, что я вам сказала!
– Хорошо, принцесса! Остается только назначить час, в который вы пожелаете принять его там.
– Час? – сказала Елизавета, отворачивая свое покрасневшее лицо. – Вы понимаете, Джон, что немыслимо принять его там днем, так как днем за мной все время наблюдают.
– Значит, вы примете его ночью, – печально заметил Гейвуд. – В котором часу?
– В полночь. Теперь вы знаете все; прошу вас, Джон, поспешите и передайте моему возлюбленному мое поручение! Видите, солнце клонится к закату, и вскоре наступит темнота.
Она приветливо улыбнулась шуту и повернулась, чтобы уйти.
– Принцесса, вы позабыли главное, вы еще не назвали мне его имени! – сказал Джон.
– Боже! и вы не догадываетесь? Джон Гейвуд, имеющий столь зоркие глаза, не видит, что при этом дворе есть только один-единственный человек, заслуживающий быть любимым дочерью короля!..
– А как же зовут этого «единственного»?
– Томас Сеймур, граф Сэдлей, – прошептала Елизавета, быстро отвернулась и вошла во дворец.
– О, Томас Сеймур?! – произнес пораженный Джон Гейвуд. Словно оцепенев от страха, он стоял неподвижно, устремив взор к небу и постоянно повторяя: – Томас Сеймур! Томас Сеймур! Не волшебник ли он, расточающий любовный напиток всем женщинам и сводящий их с ума своим красивым, задорным лицом? Королева любит его, принцесса любит его, и тут еще эта герцогиня Ричмонд, желающая непременно сделаться его женою. Одно только верно, что он – изменник, обманывающий обеих, так как обеим он сделал любовные признания. И тут же вмешивается судьба, делающая меня поверенным обеих женщин. Но я остерегусь исполнить оба поручения. Если бы этот волшебник сделался супругом принцессы, быть может, это было бы вернейшим средством избавить королеву от опасной любви. – Он замолк и в раздумье устремил неподвижный взор к небу. – Да, – сказал он затем с радостью, – так оно и будет! Я хочу побороть одну любовь другой. Для королевы опасно любить Сеймура. Я поведу дело так, что она возненавидит его. Я останусь ее поверенным, буду принимать от нее письма и приказания, но письма сжигать, а приказания не исполнять. Я не смею сказать ей об измене Томаса Сеймура, так как дал слово принцессе не выдавать ее тайны и должен сдержать это слово. Итак, королева, радуйся и люби, продолжай лелеять сладкую любовную мечту! Я оберегаю тебя, королева; я проведу мимо тебя эту темную тучу. Быть может, она поразит твое сердце, но не посмеет коснуться твоей гордой, красивой головы!..
Вдруг чья-то рука опустилась на плечо шута и раздался голос:
– Ну что же вы уставились на небо, точно читаете там новую эпиграмму, которою собираетесь распотешить короля и привести в ярость попов?
Джон Гейвуд не обернулся и не изменил своей позы, продолжая пристально смотреть на небо. Он сразу узнал голос человека, заговорившего с ним, и отлично понял, что к нему приблизился не кто иной, как безумно-отважный чародей, которого он только что проклинал в глубине души, не кто иной, как Томас Сеймур, граф Сэдлей.
– Скажите, Джон, действительно ли это эпиграмма? – допытывался между тем граф Сеймур. – Неужели это эпиграмма на лицемерный, похотливый и ханжеский поповский сброд, который с богохульным лукавством вертит лисьим хвостом вокруг короля и вечно изыскивает средство, как бы поставить хитрую западню кому-нибудь из нас, честных и храбрых людей? Не таково ли откровение, сходящее на вас с неба?
– Нет, милорд, я просто смотрю на коршуна, реющего вон там, в облаках. Я видел, как он поднимался, и, представьте себе, граф, какое диво: в каждой лапе у него было по голубке. Две голубки на одного коршуна! Не слишком ли это много и не противно ли это природе и закону?
Граф бросил на Джона пронзительный, испытующий взгляд.
Однако Джон Гейвуд остался невозмутимо спокоен и как ни в чем не бывало, продолжал смотреть на медленно плывущие по небу облака.
– Как глуп, однако, подобный хищник, – сказал он, – и как сильно вредит его жадность ему самому! Ведь, держа в когтях двух голубок сразу, он не может сожрать ни одну из них за неимением свободной лапы, чтобы растерзать свою добычу. Как только он захочет приняться за одну из птичек, другая тотчас вырвется у него и улетит прочь, и, таким образом, в конце концов коршун останется ни при чем, потому что он был чересчур жаден и хотел иметь больше, чем ему было нужно.
– Так за этим коршуном следите вы в поднебесье? Но, может быть, вы ошибаетесь, и тот, кого вы ищете, совсем не там, в вышине, а здесь, внизу, и, пожалуй, даже вблизи вас? – многозначительно спросил Томас Сеймур, внимательно посмотрев на собеседника.
Однако Джон Гейвуд прикинулся непонимающим.
– Да нет же! – возразил он. – Хищник еще летает, но это будет недолго продолжаться, потому что я видел уже хозяина голубятни, с которой коршун похитил обеих голубок. При нем было оружие, и этому коршуну – будьте уверены! – ни за что несдобровать; он будет убит хозяином за то, что похитил у него любимых голубок.
– Довольно, довольно! – с нетерпением воскликнул граф. – Вы хотите дать мне урок, но знайте, что я не послушаюсь дурака, хотя бы его совет и был мудрейшим.
– Правильно поступаете, милорд, потому что одни дураки настолько глупы, чтобы внимать голосу мудрости. Впрочем, каждый сам кует свое счастье! А теперь, мой мудрый господин, я дам вам ключ, который вы сами выковали для себя и за которым кроется ваше счастье. Вот, берите его, и когда вы сегодня в полночь будете пробираться по саду вон к той башне, то этот ключ откроет вам вход в нее, после чего вы можете спокойно взбежать по винтовой лестнице и отворить дверь на верхней площадке. За этой дверью найдете вы свое счастье, которое сами выковали для себя, господин кузнец, и которое будет приветствовать вас жаркими устами и мягкими ручками. Итак, с Богом, милорд, а мне надо спешить домой, чтобы обдумать веселую комедию, заказанную королем.
– Но вы даже не сказали, кто дал вам это поручение, – возразил граф Сэдлей, удерживая шута. – Вы приглашаете меня на свидание и даете мне ключ, а я совсем не знаю, кто будет ожидать меня там, в башне.
– Неужели не знаете? Так, значит, не одна могла бы ожидать вас там? Ну тогда это самая младшая и самая маленькая из двух голубок посылает вам ключ.
– Принцесса Елизавета?
– Вы назвали ее, не я! – промолвил Джон Гейвуд, освободившись от руки графа и поспешно направляясь к себе на квартиру.
Томас Сеймур проводил его мрачным взором, после чего медленно перевел взор на ключ, полученный им от Гейвуда и тихо произнес:
– Итак, принцесса ожидает меня!.. Ах, кто мог бы знать, в какую сторону покатится королевская корона, свалившись с головы Генриха! Я люблю Екатерину, но честолюбие еще дороже мне, и если оно потребует, то я должен пожертвовать ради него своим сердцем.
VIII
Леди Джейн
Все спало во дворце Уайтхол. Даже слуги короля, скучавшие в прихожей королевской опочивальни, давно заснули, потому что король храпел уже несколько часов и этот величественный храп был радостною вестью для дворцовых обитателей; он удостоверял их в том, что они избавлены на целую ночь от службы и могут чувствовать себя свободными людьми.
Королева также давно удалилась в свои покои и непривычно рано отпустила своих дам. Она жаловалась на усталость после охоты и говорила, что сильно нуждается в отдыхе. Поэтому никто не должен был беспокоить ее, разве только по приказу короля. Но Генрих VIII, как было уже упомянуто выше, крепко спал, и королеве ввиду этого нечего было опасаться ночного беспокойства с его стороны.
Глубокое молчание царило во дворце. Пусты и безмолвны были коридоры, безмолвны все комнаты.
Вдруг в слабо освещенном коридоре показалась таинственная фигура: кто-то крался по нему тихо и осторожно, как тень. «Тень» была закутана в черный плащ, а густая вуаль скрывала ее лицо.
Едва касаясь ногами ступеней, она спустилась по лесенке. Тут она остановилась и стала прислушиваться. Все было тихо, нигде ни звука.
Значит, можно было идти дальше!
«Тень» ускорила шаг, потому что здесь было безопасное место, где никто не мог услышать ее. Это был необитаемый флигель замка Уайтхол; тут некому было подсматривать за ней.
Итак, «тень» двинулась дальше, по другому коридору, по следующей лестнице вниз. Тут она остановилась пред дверью зала, выходившего в сад, приникла ухом к этой двери и стала слушать, после чего трижды хлопнула в ладоши.
В ответ за дверью тоже хлопнули три раза.
– О, он там, он там! – воскликнула «тень». – Прочь все тревоги, страдания и слезы!.. Он там! Я снова буду с ним! – И она распахнула дверь.
В комнате было темно, но она… она увидела находившегося в комнате мужчину, потому что взор любви пронизывает мрак; если же она и не видела его, то почувствовала его близость.
Она покоилась теперь на его сердце; он крепко прижал ее к груди. Прильнув друг к другу, они стали осторожно пробираться ощупью вперед по темной, пустынной комнате до дивана у стены и, в блаженном объятии, поспешили опуститься на подушки.
– Наконец ты снова со мною! – горячо произнес он. – И мои руки опять обвивают твой божественный стан, а мои уста прижимаются к этим румяным губкам! О, моя возлюбленная, какая то была бесконечно долгая разлука!.. Шесть дней! шесть мучительных, долгих ночей! Разве не чувствовала ты, как моя душа рвалась к тебе и томилась страхом, как я простирал в темноту руки и снова опускал их в отчаянии, содрогаясь от горя, потому что они ловили только пустоту, лишь холодный воздух ночи?! Разве не слыхала ты, моя дорогая, как я призывал тебя своими вздохами и слезами, изливая в пылких дифирамбах свою тоску, любовь и восторг? А ты, ты, жестокая, вечно оставалась холодной и улыбающейся. Твои глаза всегда сияли гордостью и величием Юноны, розы твоих ланит не побледнели даже на самую малость. Нет, ты не тосковала по мне, твое сердце не испытывало этого мучительного, блаженного томления; ты – прежде всего гордая, холодная королева и только потом… потом уже влюбленная!
– Как ты несправедлив и как ты жесток, мой Генри! – тихонько прошептала женская фигура. – Ах, я также страдала, и, пожалуй, мои страдания были ужаснее и горше твоих, потому что мне приходилось таить их в себе, и они точили мне сердце, как скрытый червь. Ты мог изливать свою муку, мог простирать ко мне свои руки, облегчать себя стонами и вздохами. Ты не обречен, как я, улыбаться, шутить и с притворным вниманием выслушивать избитые, надоевшие фразы моих придворных, пропитанные льстивыми похвалами, лицемерным обожанием. У тебя, по крайней мере, есть свобода страдать. У меня же ее нет! Правда, я улыбалась, но – подавляя смертельную муку; правда, мои щеки не побледнели, но румяна были покровом, который я наложила на их бледность. А затем, Генри, в моем горе и тоске мне служили сладкой отрадой твои письма, твои стихи, освежающие мою страждущую душу, как небесною росою, и приносившие ей исцеление для новых мучений и новых надежд. О, как я люблю эти стихи!.. Каким благородным и чарующим языком говорят они мне о твоей любви и наших страданиях!.. Как рвется всегда им навстречу моя душа, когда я получаю их! Тысячекратно подношу я к губам бумагу, с которой как будто несутся ко мне твое дыхание, твои вздохи! Как люблю я добрую, верную Джейн, молчаливую посредницу нашей любви!.. Когда она входит ко мне в комнату с этим белым листком в руке, то кажется голубкой с масличною ветвью, вестницею мира и счастья, и я кидаюсь к ней навстречу, прижимаю ее к своей груди, осыпаю ее всеми поцелуями, которыми хотела бы осыпать тебя, и чувствую, как я бедна и бессильна, потому что не могу заплатить ей за счастье, доставленное ею. Ах, Генри, какою благодарностью обязаны мы с тобою бедной Джейн!..
– Почему называешь ты ее бедной, раз она может постоянно быть при тебе, всегда видеть и слышать тебя?
– Я называю ее бедной потому, что она несчастлива! Ведь она любит, Генри, любит до отчаяния, до сумасшествия; она изнывает от горя и страдания, кусая до крови руки в невыразимых страданиях. Разве ты не заметил, как она бледна и как ее глаза тускнеют с каждым днем?
– Нет, я не заметил, потому что не вижу ничего, кроме тебя, и леди Джейн для меня – мертва, как все остальные женщины… Что с тобой? Ты дрожишь и твой стан судорожно трепещет в моих объятиях? Что это значит? Ты плачешь?
– О, я плачу потому, что я крайне счастлива, плачу при мысли о том, как ужасно должен страдать тот, кто отдал все свое сердце и не получил ничего взамен, ничего, кроме смерти! Бедная Джейн!
– Что нам за дело до нее! Ведь мы… мы любим друг друга! Постой, дорогая, дай мне стереть поцелуями слезы с твоих ланит, дай мне упиться этим нектаром, чтобы он воодушевил меня до божественного просветления. Перестань плакать! Прошу тебя! Или же если ты непременно этого хочешь, то пусть твои слезы льются только от избытка восторга и от того, что человеческое слово слишком бедно, а в человеческой груди слишком тесно, чтобы они могли вместить все это блаженство!
– Да, да, будем ликовать от счастья! – воскликнула женщина, бросаясь с безумным порывом на грудь любимого человека.
Они оба смолкли и отдыхали, прильнув один к другому в сладостном безмолвии.
О, как отрадна была эта тишина, как восхитительна эта немая, блаженная ночь! Как шелестели и шумели за окном деревья, точно убаюкивали влюбленных небесной колыбельной песнью! Как любопытно заглядывал бледный серп луны сквозь оконные стекла, точно отыскивая счастливую чету, которой он служил молчаливым поверенным.
Но счастье мимолетно, а время мчится слишком быстро, когда его спутницей бывает любовь.
Молодые люди должны были разлучиться, для них опять наступила минута прощания.
– Еще рано, моя дорогая! – воскликнул Говард. – Не спеши! Видишь, пока стоит глухая ночь; слышишь, на башне замка бой часов возвещает только второй час утра. Нет, не уходи, помедли немного!
– Я должна, Генри, должна! Миновали часы, когда я могу предаваться счастью.
– О, холодная, гордая душа! Неужели твоя голова снова жаждет короны и ты не можешь дождаться, когда пурпур опять облечет твои плечи? Постой, дай мне расцеловать их и тогда вообрази, моя радость, что мои ярко-алые губы – также царственный пурпур.
– Да, пурпур, за который я с восторгом отдала бы свою корону и жизнь! – в пылу воодушевления воскликнула молодая женщина, заключая в объятия своего друга.
– Так ты меня любишь? Действительно ли ты любишь меня?
– Да, я тебя люблю!
– Можешь ли ты мне поклясться, что ты никого не любишь – никого, кроме меня?
– Я могу поклясться тебе в том; это так же верно, как то, что над нами есть Бог, который слышит мою клятву.
– Будь же благословенна за то, моя бесценная, единственная!.. О, как же мне только назвать тебя – тебя, имя которой я не смею произносить! Знаешь ли ты, что жестоко не иметь права назвать по имени свою подругу? Сними с меня этот запрет, удостой меня мучительно-сладкого счастья назвать тебя твоим именем!
– Нет, – сказала женщина, содрогаясь, – разве ты не знаешь, что лунатики просыпаются от своего забытья, когда их окликнут по имени? Я – такой лунатик, храброй улыбкой парящий на головокружительных высотах; окликни меня по имени, и я проснусь и, содрогнувшись от ужаса, оборвусь в пропасть! Ах, Генри, я ненавижу свое имя за то, что оно произносится чужими устами вместо твоих! Для тебя я не хочу называться так, как зовут меня другие люди; окрести меня, Генри, другим именем, и пусть оно будет нашей тайной, не известной никому, кроме нас двоих!
– Тогда я назову тебя Джеральдиной и под именем Джеральдины стану воспевать тебя перед целым светом и назло всем шпионам и наушникам беспрестанно повторять тебе, что я тебя люблю. Тогда никто, даже сам король, не посмеет воспретить мне это.
– Молчи, – содрогаясь, остановила его собеседница, – не говори мне о нем! О, заклинаю тебя, Генри, будь осторожен!.. Вспомни, что ты поклялся мне всегда думать об опасности, которая грозит нам обоим и без сомнения раздавит нас, если ты хотя бы единым звуком, взглядом, улыбкой выдашь сладостную тайну, соединяющую нас. Ты не забыл, в чем клялся мне?
– Я хорошо помню! Но это противоестественный, драконовский закон. Как, даже наедине с тобою я должен относиться к тебе с тем глубоким почтением и сдержанностью, какие подобают слугам королевы? Неужели даже тогда, когда никто не может подслушать нас, мне не дозволено ни единым словом, ни малейшим намеком напоминать тебе о моей любви?
– Нет, нет, не делай этого! Ведь в здешнем дворце повсюду глаза и уши, и тут везде соглядатаи и шпионы; они прячутся за стенными обоями, за драпировками, чтобы подстерегать каждый жест, каждую улыбку, ловить каждое слово и придавать им подозрительный смысл. Нет, нет, Генри, поклянись мне нашей любовью, что никогда и нигде, кроме как здесь, в этой комнате, не будешь говорить со мной иначе, как со своей королевой! Поклянись, что при дворе ты будешь для меня только почтительным слугою своей государыни, а вместе с тем гордым графом и лордом, о котором идет молва, что еще ни одной женщине не удавалось тронуть его сердце. Поклянись мне, что ты ни единым взглядом, ни единой улыбкой, ни самым легким пожатием руки не выдашь того, что вне этой комнаты является преступлением для нас обоих. Пускай эта комната будет храмом нашей любви; но, перешагнув за ее порог, мы не станем осквернять сладкую мистерию нашего счастья, дозволив хотя одному из его лучей блеснуть пред непосвященными очами! Будет ли все это исполнено, Генри?
– Хорошо, пусть будет так! – сказал Говард смущенным тоном. – Хотя я должен тебе признаться, что этот страшный обман по временам терзает меня до смерти. О, Джеральдина, когда я вижу тебя среди твоего царственного блеска, когда замечаю, каким холодным, равнодушным взором встречаешь ты мой взор, – мое сердце судорожно сжимается, и я невольно говорю себе: «Это не моя возлюбленная, не та нежная, страстная женщина, которую я заключаю порою в объятия под покровом ночной темноты; это королева Екатерина, но не моя возлюбленная. Женщина не может так притворяться, искусство не может зайти так далеко, чтобы с его помощью человек был в состоянии отрешиться от своей природы, от своего внутреннего бытия и характера». Да, бывали часы, жуткие, ужасные часы, когда мне казалось, что все это лишь обман, мистификация, что какой-то злой демон принимает по ночам образ королевы и морочит меня, бедного, безумного мечтателя, мнимым счастьем, которое существует только в моем воображении! При этой мысли я чувствую безумную ярость, впадаю в убийственное отчаяние и готов, вопреки своей клятве и пренебрегая даже грозящей тебе опасностью, броситься к твоим ногам и спросить тебя пред всем этим придворным сбродом, даже в присутствии самого короля: на самом ли деле ты то, чем кажешься? Точно ли ты – Екатерина Парр, супруга короля Генриха, и только, и не более того? Или же ты – моя возлюбленная женщина, которая принадлежит мне каждым своим помыслом, каждым вздохом, которая поклялась мне в вечной любви и непоколебимой верности и которую я, назло целому свету и королю, прижимаю к своему сердцу, как мою собственность?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































