Текст книги "Шестая жена короля Генриха VIII"
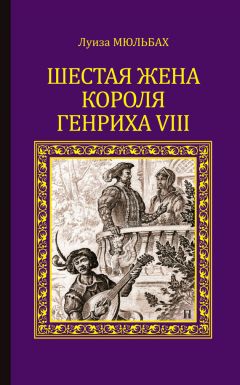
Автор книги: Луиза Мюльбах
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
VII
Разочарование
Парламент, который давно уже не осмеливался идти наперекор воле короля, вынес свой приговор: он обвинил графа Сэррея в государственной измене и, основываясь на единственном показании его матери и сестры; признал графа виновным в оскорблении величества и в государственной измене. Герцогиня Ричмонд в своих обвинениях против брата могла указать лишь кое-какие его слова досады на недостаток повышения по службе да кое-какие жалобы на множество казней, наводнявших человеческой кровью землю Англии; что касается его матери, герцогини Норфолк, то она была в состоянии подтвердить лишь то, что граф Сэррей, по примеру своего отца, носил герб английских королей. Однако, несмотря на слабость такого рода обвинений, парламент все же приговорил Генри Говарда, графа Сэррея, к смертной казни, и король подписал этот приговор.
Ранним утром на следующий день была назначена казнь, и во дворе Тауэра рабочие уже занимались возведением эшафота, на котором должна была пасть голова благородного графа.
Генри Говард сидел одиноко в своей темнице. Он мысленно покончил с жизнью и со всем земным. Он распорядился своими делами и составил духовное завещание; он написал матери и сестре, что прощает им их лжесвидетельство, и обратился к отцу с письмом, в котором в благодарных и трогательных словах увещевал его оставаться стойким и спокойным, просил не плакать о нем, потому что смерть была для него желанной, а могила – единственным убежищем, манившим его к себе. Жизнь не могла уже дать ему ничего более, а смерть соединяла несчастного осужденного с его возлюбленной. И он приветствовал смерть, как своего друга и избавителя, как священника, которому предстояло сочетать его узами брака с Джеральдиной.
Узник слышал бой больших башенных часов в тюрьме, возвещавших время гулкими ударами, и с радостным биением сердца приветствовал каждый протекший час.
Наступил вечер, и глубокий мрак опустился на землю. То была последняя ночь, остававшаяся еще в распоряжении Говарда, последняя ночь, разлучавшая его с Джеральдиной.
Сторож отворил дверь, чтобы принести графу фонарь и спросить, что он прикажет. До сих пор, по особому распоряжению короля, Говард был лишен света в своей темнице и провел шесть длинных вечеров и ночей заточения в потемках. Но накануне ему осветили тюрьму и готовы были разрешить все, чего он мог еще пожелать. Жизнь, которую ему предстояло покинуть через несколько часов, должна была еще раз одарить его всеми прелестями и всеми наслаждениями, которые он вздумал бы потребовать от нее.
Однако Говард потребовал для своей последней ночи, чтобы его только оставили одного и без огня.
Тюремщик загасил огонь и вышел, но не заложил дверей тяжелым железным засовом, не запер их на большой замок, а лишь притворил тихонько, не захлопнув на защелку.
Генри Говард не обратил на это внимания; он совсем не интересовался, заперта ли его дверь, потому что не жаждал более жизни и не рвался на свободу.
Он откинулся назад на своем стуле и предался грезам с открытыми глазами.
Все его помыслы, чувства и желания обращались к Джеральдине, вся его душа сосредоточилась на мысли о ней. Ему казалось, что он может заставить свой ум видеть ее, а своими чувствами ощущать ее присутствие. Да, она была тут, он ощущал и сознавал это. Он снова лежал у ее ног, прислонялся головой к ее коленям и прислушивался опять к обворожительным откровениям ее любви.
Совершенно отрешившись от настоящего и от своего бытия, граф Сэррей видел и чувствовал только ее. Таинство любви совершилось, и под покровом ночи Джеральдина снова спустилась к нему, и они были вместе.
Блаженная улыбка играла на губах графа, бормотавших восторженные слова привета. Опьяненный дивными галлюцинациями он увидал приближавшуюся к нему возлюбленную, простер руки, чтобы обнять ее, и не очнулся от своего экстаза, даже когда почувствовал вместо близости Джеральдины лишь холодную пустоту.
– Зачем, – тихонько спросил он, – ты опять ускользаешь от меня, Джеральдина, чтоб кружиться с виллисами в танце смерти? Приди, Джеральдина, приди! Моя душа томится по тебе, мое сердце зовет тебя своим последним останавливающимся биением. Приди, Джеральдина, о, приди!
Что это такое? Дверь как будто отворилась и снова заперлась на защелку; чья-то нога словно скользила по полу, а тень человеческой фигуры заслонила мерцающее отражение света, дрожавшее на стенах.
Генри Говард не видел этого. Он не видел ничего, кроме своей Джеральдины, которую призывал к себе с жаром и томлением. Он открыл объятия и звал возлюбленную со всем пылом, со всем восторгом влюбленного.
Вдруг у него вырвался возглас восхищения. Его мольба любви была услышана; сон обратился в действительность. Его руки уже не охватывали пустоты, но прижимали к груди женщину, которую он любил и ради которой должен был умереть. Он прильнул устами к ее устам и отвечал на ее лобзания; он обвил руками ее стан, и она крепко-крепко прижала его к своей груди.
Была ли то действительность или безумие, которое подкралось к нему, и овладело его мозгом, и обманывало его такими чарующими фантазиями?
Генри Говард содрогнулся при этой мысли и, кинувшись на колени, воскликнул робким голосом, дрожавшим от страха и любви:
– Джеральдина, сжалься надо мною! Скажи мне, что это не сон, что я не сошел с ума, что это действительно ты, Джеральдина, ты, супруга короля, ты, чьи колена обнимаю я сейчас!
– Да, это я, – тихонько прошептала женщина. – Я – Джеральдина, та самая, которую ты любишь и которой ты поклялся в вечной верности и вечной любви! Генри Говард, мой возлюбленный, напоминаю тебе теперь о твоей клятве. Твоя жизнь принадлежит мне, ты посвятил ее мне и теперь я пришла требовать от тебя свою собственность.
– Да, моя жизнь принадлежит тебе, Джеральдина, но это – жалкая, плачевная собственность, и ее ты будешь называть своею лишь несколько часов.
Женщина крепко обняла его за шею, привлекла к своему сердцу и стала целовать его в губы и глаза. Граф Сэррей чувствовал, как ее слезы, словно горячие ручьи, орошали его лицо; он слышал ее вздохи, вырывавшиеся из ее груди, точно предсмертные стоны.
– Ты не должен умереть, – шептала она, заливаясь слезами. – Нет, Генри, ты должен жить, чтобы и я могла жить, чтобы мне не сойти с ума с горя и тоски по тебе! О Генри, Генри!.. разве ты не чувствуешь, как я люблю тебя? Разве не знаешь, что твоя жизнь – моя жизнь, а твоя смерть – моя смерть?
Граф приник головою к ее плечу и, упоенный счастьем, почти не слышал, что она говорила.
Его Джеральдина была снова тут. Какое было ему дело до всего остального?
– Джеральдина, – тихонько прошептал он, – помнишь, как мы встретились в первый раз, как наши сердца слились в одном биении, а наши губы – в поцелуе? Джеральдина, жена моя, моя возлюбленная, мы поклялись тогда друг другу, что нас не может разлучить ничто, что наша любовь должна продолжаться и за могилой! Джеральдина, помнишь ли ты еще все это?
– Я помню, мой Генри! Но тебе еще рано умирать, и не за могилой, а в жизни должна выказаться предо мною твоя любовь. Да, мы будем жить, жить! И твоя жизнь должна быть моей жизнью, и где будешь ты, там буду и я! Помнишь ли, Генри, что ты торжественно поклялся мне в этом?
– Я помню, но не могу сдержать свое слово!.. Слышишь, как там внизу пилят и стучат молотками? Знаешь ли ты, что это значит, бесценная?
– Знаю, Генри! Там строят кровавый помост, да, кровавый помост для тебя и для меня. Ведь я также умру, Генри, если ты не захочешь остаться в живых, и топор, предназначенный для твоей головы, должен поразить и меня, если ты не хочешь, чтобы мы оба жили!
– О, я хочу этого! Но как мы сумеем спастись, дорогая?
– Сумеем, Генри, сумеем! Все готово к бегству, все устроено, все подготовлено! Кольцо с королевской печатью открыло мне ворота Тауэра, а всемогущество золота расположило ко мне тюремщика. Он не заметит, как вместо одного человека двое покинут тюрьму. Мы невредимыми покинем Тауэр через потайные коридоры и лестницы и сядем в ту лодку, которая стоит у берега наготове, чтобы перевезти нас на корабль, стоящий под парусами в гавани. Как только мы взойдем на его борт, он поднимет якорь и выйдет в открытое море. Пойдем, Генри, пойдем! Возьми меня под руку и покинем скорее эту тюрьму!..
Женщина обвила руками шею графа и потянула его вперед. Он крепко прижал ее к своему сердцу и прошептал:
– Да, пойдем, пойдем, моя возлюбленная! Бежим! Тебе принадлежит моя жизнь, тебе одной!
Затем Говард схватил ее на руки и побежал с нею к дверям; он поспешно распахнул их ударом ноги и кинулся вдоль по коридору. Но, достигнув первого поворота, узник с ужасом отшатнулся назад: пред дверями стояли солдаты с ружьями на плечо, рядом с ними комендант Тауэра, а позади него – двое служителей с зажженными светильниками.
Женщина вскрикнула и с боязливой поспешностью закуталась в густую вуаль, соскользнувшую с ее головы.
Генри Говард также вскрикнул, но не при виде солдат и неудачи своего бегства. Широко раскрытые глаза узника были устремлены на закутанную теперь фигуру женщины, стоявшей с ним рядом. Ему показалось, что подобно призраку, пред ним мелькнуло чужое лицо, как будто у него на плече покоилась голова другой женщины, а не его возлюбленной королевы. Лишь как неуловимое видение, как сон, мелькнули пред ним те черты, но Говард был вполне уверен, что это не милый образ его Джеральдины.
Комендант Тауэра кивнул своим слугам, и они внесли зажженные свечи в темницу графа. После того он подал Генри Говарду руку и отвел его обратно в одиночную камеру.
Говард без сопротивления последовал за ним, но его рука не выпускала руки Джеральдины и он увлек ее за собою. Его испытующий взор не отрывался от нее и как будто угрожал ей.
Они снова очутились в комнате, которую только что покинули с такими блаженными надеждами.
Комендант Тауэра подал знак слугам удалиться, после чего с торжественной серьезностью обратился к графу Сэррею.
– Милорд, – сказал он, – я принес вам эти свечи по распоряжению короля. Его величество знал обо всем, что происходило здесь сегодня ночью. Он знал, что был составлен заговор спасти вас, и люди, думавшие обмануть его, вдались сами в обман. С помощью всяких хитростей одному из лордов удалось выманить у короля его перстень с печатью. Но государь был предупрежден заранее и уже знал, что не мужчина, как его уверяли, но женщина придет сюда, и не для того, чтобы проститься с вами, но чтобы освободить вас из заточения. Миледи! Тюремщик, которого вы вздумали подкупить, был верным слугою короля; он выдал мне ваш план, и я сам приказал ему сделать вид, будто он благоприятствует вашему замыслу. Вам не удастся спасти графа Сэррея, но если вы прикажете, то я сам провожу вас до корабля, стоящего наготове под парусами в гавани. Никто не помешает вам, миледи, подняться на его борт. Только вы должны уехать одна, так как графу Сэррею не дозволено сопровождать вас!.. Милорд, ночь скоро минует, и вы знаете, что это будет ваша последняя ночь. Король приказал, чтобы я не препятствовал этой даме, если она пожелает остаться до утра при вас в вашей комнате, но лишь при том условии, чтобы здесь горели свечи. Таково точное распоряжение его величества, а вот его подлинные слова: «Скажите графу Сэррею, что я позволяю ему любить его Джеральдину, но пусть он откроет глаза, чтобы видеть. Для того, чтобы это было возможно, вы дадите ему огня, и я приказываю ему не гасить свечей, пока Джеральдина будет при нем. Иначе он рискует перепутать ее с другою женщиной, потому что в потемках можно не отличить даже комедиантки от королевы». Теперь от вас зависит, милорд, должна ли эта дама остаться здесь или уйти, после чего вы можете потушить свечи.
– Она должна остаться со мною, и мне очень нужен свет! – сказал граф Сэррей, не отрывая своего пронзительного взора от закутанной фигуры, которая затряслась, как в лихорадке, при его словах.
Комендант поклонился и вышел.
Теперь граф и женщина снова остались одни и стояли молча друг против друга. Слышны были бурное биение их сердец и боязливые вздохи, вырывавшиеся из трепещущих уст «Джеральдины».
То была страшная, ужасная пауза. «Джеральдина» с радостью пожертвовала бы жизнью ради того, чтобы ей позволили погасить этот свет и окутаться непроницаемым мраком.
Но граф Сэррей хотел видеть. Он подошел к женщине с гневным, гордым взором, и, когда поднял в повелительном жесте руку, «Джеральдина» содрогнулась и смиренно потупила голову.
– Открой свое лицо! – произнес граф тоном властелина.
«Джеральдина» не двигалась; она лишь бормотала молитву. Но потом она простерла сложенные руки к графу и тихо простонала:
– Пощадите! Пощадите!
Он протянул руку и схватил покрывало.
– Сжальтесь, – повторила женщина еще более умоляющим, еще более боязливым голосом.
Но Говард был неумолим. Он сорвал вуаль с ее лица и в тот же миг с диким воплем отшатнулся назад, закрыв лицо руками.
Джейн Дуглас – это была именно она – не смела ни дрогнуть, ни пошевелиться. Она была бледна, как мрамор; ее большие горящие глаза обратили свой последний, полный невыразимой мольбы взор на возлюбленного, который стоял пред нею, убитый горем, не отнимая рук от своего лица. Она любила его больше своей жизни, больше спасения своей души, а между тем она же сама доставила ему этот мучительный час.
Наконец граф Сэррей открыл лицо и резким движением смахнул слезы со своих ресниц.
Когда он взглянул на Джейн Дуглас, та совершенно невольно упала пред ним на колена и, с мольбой простерши к нему руки, тихо прошептала:
– Генри Говард! Ведь это я, твоя Джеральдина! Ведь это меня ты любил, мои письма читал с восторгом и часто клялся мне, что еще больше любишь мой ум, чем мою наружность. И часто мое сердце наполнялось восторгом, когда ты говорил мне, что будешь любить меня, несмотря ни на какую перемену в моем лице, несмотря на то, какие бы опустошения ни произвели в моих чертах старость или болезнь. Помнишь ли ты, Генри, как я спросила тебя однажды, разлюбил ли бы ты меня, если бы Господь внезапно наложил маску мне на лицо и сделал мои черты неузнаваемыми? Ты ответил мне: «Я все-таки обожал бы и любил бы тебя, потому что меня восхищают в тебе не твое лицо, но ты сама со своим чудным умом и характером, твоя душа и твое сердце, которые никогда не могут перемениться и которые сияют и светят предо мною, как раскрытая священная книга». Так ответил ты мне тогда, давая мне клятву вечно любить меня. Генри Говард, я напоминаю тебе теперь о твоей клятве. Я – твоя Джеральдина; это тот же ум, то же сердце, только Бог наложил мне маску на лицо.
Граф Сэррей слушал ее с напряженным вниманием и возраставшим ужасом.
– Это она! Неужели она? – воскликнул он, когда леди Джейн замолкла. – Это Джеральдина?
И, совершенно подавленный, онемевший от горя, он опустился на свою скамью.
«Джеральдина» кинулась к нему, свернулась клубочком у его ног, схватила его повисшую руку и покрыла ее поцелуями. Заливаясь слезами, прерывающимся от рыданий голосом рассказала она ему печальную и злополучную историю своей любви, открыла пред ним все сплетение хитрости и обмана, которым ее отец опутал их обоих. Девушка без утайки открыла пред ним все свое сердце, говорила ему о своей любви, о своих мучениях, о своем честолюбии и упреках совести. Она обвиняла себя, но тут же и оправдывалась своей любовью и, обнимая его колена, вся в слезах, молила Говарда сжалиться над ней и простить ее.
Он свирепо оттолкнул ее прочь и встал, избегая ее прикосновения. Его благородное лицо горело гневом, глаза метали молнии; его длинные, волнистые волосы развевались вокруг высокого лба и лица, как темное покрывало. Говард был прекрасен в своем гневе, как архангел, поражающий дракона, которого топчет его конь. Так и он наклонил голову к распростертой на полу леди Джейн и смотрел на нее своими пламенеющими, презрительными взорами.
– Мне простить тебя? – промолвил граф Сэррей. – Никогда этому не бывать! А, я должен простить тебя, превратившую всю мою жизнь в смехотворный обман, а трагедию моей любви – в отвратительный фарс?! О Джеральдина, какою страстью пылал я к тебе, а теперь ты сделалась для меня отвратительным призраком, пред которым содрогается моя душа и который я проклинаю! Ты разбила мою жизнь и даже у моей смерти отняла ее святость, потому что теперь это уже не мученичество моей любви, а только грубая насмешка над моим легковерным сердцем. О Джеральдина, как было бы прекрасно умереть за тебя! Идти на смерть с твоим именем на устах, благословлять тебя, благодарить за данное тобою счастье, когда уже сверкнул топор, чтобы обезглавить меня! Как было бы прекрасно думать, что смерть не разлучает нас, но лишь служит путем к нашему вечному соединению, что нам предстоит здесь лишь на короткое мгновение потерять друг друга, чтобы снова сойтись навсегда там, на небесах!
«Джеральдина» извивалась у его ног, как раздавленный червь, и ее жалобные стоны и заглушаемый плач служили раздиравшим сердце аккомпанементом для печальных речей графа.
– Но теперь все это миновало! – воскликнул Говард, и его лицо, только что подергивавшееся от горя и душевной боли, снова разгорелось гневом. – Ты отравила мне мою жизнь и мою смерть, и я стану проклинать тебя за это, и моим последним словом будет проклятие комедиантке Джеральдине!
– Сжалься! – простонала леди Джейн. – Убей меня, Генри, разможжи голову, только прекрати эту пытку!
– Нет, никакого сожаления!.. – грозно крикнул он. – Никакой жалости к обманщице, которая похитила у меня сердце и, как вор, прокралась в мою любовь!.. Встань и оставь эту комнату, потому что ты внушаешь мне ужас и при виде тебя я чувствую, что не могу удержаться от проклятий! Да, проклятие и стыд тебе, Джеральдина!.. Проклятие поцелуям, которые я напечатлел на твоих губах, проклятие слезам восторга, которые я проливал на твоей груди!.. Когда я взойду на эшафот, то прокляну тебя, и моим последним словом будет: «Горе Джеральдине, потому что она – моя убийца!»
Говард стоял пред леди Джейн с высоко поднятой рукой, гордый и великий в своем гневе. Она чувствовала на себе разящие молнии его глаз, хотя и не смела поднять на него взор, но, плача и вздрагивая, лежала у его ног и кутала свое лицо вуалью, точно собственный образ приводил ее в содрогание.
– И вот тебе мое последнее слово, Джеральдина, – сказал граф Сэррей, тяжело дыша. – Ступай отсюда прочь под бременем моего проклятия и живи, если ты можешь!
Девушка раскутала голову и подняла к нему свое лицо. Горькая усмешка подергивала ее смертельно бледные губы, когда она промолвила:
– Жить? Но разве мы не поклялись умереть вместе? Твое проклятие не разрешает меня от моей клятвы, и, когда ты сойдешь в свою могилу, я, Джейн Дуглас, до тех пор буду стоять на ее краю с плачем и мольбою, пока ты не посторонишься немного, чтобы дать мне местечко возле себя, и пока я не растрогаю твоего сердца до того, что ты примешь меня на свое смертное ложе, как свою прежнюю Джеральдину. О Генри! В могиле у меня уже не будет лица Джейн Дуглас, этого ненавистного лица, которое я готова истерзать своими ногтями. Там я снова стану Джеральдиной. Тогда я опять прижмусь к твоему сердцу и ты снова скажешь мне: «Я люблю не лицо твое и не внешний вид! Я люблю самое тебя, твой ум, твое сердце, которые не могут никогда измениться и стать иными!»
– Замолчи! – сурово остановил ее граф. – Замолчи, если не хочешь, чтобы я лишился рассудка! Не кидай мне в лицо моих собственных слов! Они пятнают меня, потому что обман осквернил их и втоптал в грязь. Нет, я не дам тебе места в моей могиле, не назову тебя Джеральдиной. Ты – Джейн Дуглас, и я ненавижу тебя и обрушиваю свое проклятие на твою преступную голову. Говорю тебе…
Тут он внезапно замолк, и легкая дрожь пробежала по его телу.
Леди Джейн с пронзительным криком вскочила на ноги.
Забрезжило утро, и с тюремной башни раздался зловещий, заунывный удар погребального колокола.
– Слышишь, Джейн Дуглас? – сказал граф Сэррей. – Этот колокол призывает меня к смерти, и это ты отравила мне мой последний час. Я был счастлив, когда любил тебя, а умираю от отчаяния, потому что презираю и ненавижу тебя!
– Нет, нет, ты не должен умереть! – воскликнула леди Джейн, уцепившись за него в безумном страхе. – Ты не должен сойти в могилу с этим диким проклятием на устах! Я не хочу быть твоей убийцей! О, невозможно, чтобы вздумали убивать тебя – прекрасного, благородного и добродетельного графа Сэррея!.. Боже мой, что сделал ты такого, чтобы возбудить гнев твоих врагов? Ведь ты невиновен, и они знают это; они не могут тебя казнить, потому что это было бы убийством. Ты ничего не совершил, ни в чем не провинился, никакое преступление не пятнает твоей благородной души. Ведь не преступление любить Джейн Дуглас, а ты любил меня, меня одну.
– Нет, не тебя! – гордо возразил граф. – С леди Джейн Дуглас я не имею ничего общего. Я любил королеву и верил в ее взаимную любовь. Вот мое преступление.
Дверь отворилась, и в торжественном безмолвии в комнату вошел комендант Тауэра, сопровождаемый священником и мальчиками-клирошанами. За ними виднелась ярко-красная одежда палача, который остановился на пороге с безучастным лицом.
– Пора! – торжественно произнес комендант.
Священник принялся бормотать молитвы, мальчики размахивали кадильницами. За окном жалобно гудел погребальный колокол, а со двора доносился глухой говор простонародья; любопытное и кровожадное, как всегда, оно стеклось сюда несметными толпами, чтобы со смехом поглазеть, как польется кровь человека, который не дальше, как вчера, был ее любимцем.
Граф Сэррей с минуту стоял молча. Его лицо подергивалось от волнения, а щеки покрыла мертвенная бледность. Он боялся не самой смерти, но ее наступления. Ему казалось, будто он уже чувствует на своем затылке холодный широкий топор, который держал в руке страшный палач, стоявший в дверях. О, умереть на поле сражения – каким это было бы счастьем! Но кончить жизнь на эшафоте… какой это позор!
– Генри Говард, сын мой, готов ли ты умереть? – спросил священник. – Примирился ли ты со своим Господом? Раскаиваешься ли ты в своих грехах и признаешь ли смерть своим справедливым искуплением и карой? Прощаешь ли ты своим врагам и отходишь ли примиренный с собою и людьми?
– Я готов умереть, – с гордой улыбкой ответил граф Сэррей. – Но на другие ваши вопросы, отец мой, я отвечу Господу Богу там, на небесах.
– Сознаешься ли ты, что был государственным изменником, и просишь ли твоего благородного и справедливого, твоего высокого и доброго короля о прощении за кощунственное оскорбление его величества?
Граф Сэррей твердо посмотрел в глаза священника и спросил:
– Известно ли вам, в каком преступлении меня обвиняют?
Тот потупился и пробормотал несколько невнятных слов.
Гордым движением головы Генри Говард отвернулся от него, чтобы обратиться к коменданту Тауэра со следующим вопросом:
– Знаете ли вы, в чем заключается мое преступление, милорд?
Но комендант также потупился и остался безмолвным.
Генри Говард улыбнулся и произнес:
– Ну тогда я скажу вам это: как подобало мне по праву рождения, мой щит и портал моего дворца украшались гербом нашего рода, и оказалось, что у короля одинаковый с нами герб. Вот в чем моя государственная измена! Я говорил, что король ошибается в некоторых из своих слуг и часто производит своих любимцев в почетное звание, которого они недостойны. Вот совершенное мною оскорбление величества и вот за что я несу теперь свою голову на плаху! Успокойтесь однако, я сам увеличу число моих преступлений еще одним, чтобы они были достаточно тяжки и этим облегчили совесть справедливого и великодушного короля: я отдал свое сердце благородной и преступной любви, и Джеральдина, которую я воспевал в некоторых стихотворениях и славил пред самим королем, была не кем иным, как жалкой, кокетливой развратницей!..
Джейн Дуглас вскрикнула и упала, точно сраженная молнией.
– Раскаиваешься ли ты в этом грехе, мой сын? – спросил священник. – Отвращаешь ли ты свое сердце от этой греховной любви, чтобы обратить его к Богу?
– Я не только раскаиваюсь в этой любви, но проклинаю ее! А теперь, отец мой, пойдемте; как видите, милорд начинает уже терять терпение; он думает о том, что король не найдет себе покоя, пока Говарды также не уйдут на покой. Ах, король Генрих, король Генрих! Ты называешь себя могущественнейшим королем в мире, а между тем трепещешь герба своего подданного. Милорд, когда вы придете сегодня к королю, то поклонитесь ему от Генри Говарда и скажите, что я желаю, чтобы ему так же легко лежалось в его постели, как мне будет лежаться в могиле. Теперь пойдемте, господа! Пора!
С гордо поднятой головой, спокойным шагом граф Сэррей двинулся к двери.
Но тут Джейн Дуглас вскочила с пола, кинулась к Генри Говарду и ухватилась за него со всею силою страсти и горя.
– Я не пущу тебя! – воскликнула она, задыхаясь и бледнея, как смерть. – Ты не смеешь отталкивать меня! Ведь ты поклялся в том, что мы будем вместе жить и вместе умрем.
Граф отшвырнул ее от себя в диком гневе и, выпрямившись пред нею с видом угрозы, крикнул:
– Запрещаю тебе следовать за мною!
Леди Джейн отшатнулась назад к стене и смотрела на него, дрожа и задыхаясь. Он все еще был властителем ее души, она все еще подчинялась ему из любви и послушания. Поэтому у нее не хватало мужества пойти наперекор его запрету.
Леди Джейн видела, как Генри Говард оставил комнату и пошел по коридору со своею страшной свитой; она слышала, как шаги этой кучки людей постепенно замирали и как внезапно со двора внизу донесся глухой рокот барабанов.
Девушка опустилась на колени, чтобы помолиться, но губы дрожали так сильно, что она не находила слов для своей молитвы.
Между тем внизу замолкла барабанная дробь, и только погребальный колокол продолжал заунывно звонить. Леди Джейн услыхала голос, громко и отчетливо произносивший какие-то слова. То был его голос, то говорил Генри Говард. И снова глухо зарокотали барабаны, заглушая речь осужденного.
– Он умирает, он умирает, а меня нет при нем! – пронзительно крикнула Джейн Дуглас. Она вскочила на ноги и, точно подхваченная вихрем, бросилась из комнаты вдоль по коридору и вниз по лестнице.
Вот она очутилась во дворе. Там, в центре площади, наполненной народом, возвышалась ужасная черная масса эшафота; на нем леди Джейн увидала Говарда, стоявшего на коленях. Она увидала топор в руке палача, увидала, как палач замахнулся им для рокового удара.
В эту минуту леди Джейн перестала быть женщиной, но превратилась в львицу! У нее на щеках не было ни кровинки, ее ноздри раздувались, глаза метали молнии. Она выхватила кинжал, спрятанный на груди, и, проложив себе дорогу в испуганной, робко расступившейся толпе, одним прыжком поднялась на ступени эшафота. Теперь она стояла на верхней площадке возле осужденного, как раз у коленопреклоненой фигуры.
В воздухе что-то блеснуло; девушка услыхала странный свист, потом глухой удар. Алая, дымящаяся струя крови брызнула кверху и обагрила Джейн Дуглас своими пурпурными потоками.
– Я иду, Генри, я иду! – воскликнула она с диким ликованием. – Смерть соединит нас.
И снова блеснуло что-то в воздухе. То был кинжал, который Джейн Дуглас вонзила себе в сердце.
Она не промахнулась! Ни один звук, ни малейший стон не вырвался из ее уст. С гордой улыбкой упала она рядом с обезглавленным телом своего возлюбленного и, напрягая угасавшие силы, сказала приведенному в ужас палачу:
– Положите меня в одну могилу с ним! Генри Говард, в жизни и смерти я неразлучна с тобой!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































