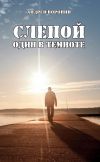Текст книги "Дом, в котором…"

Автор книги: Мариам Петросян
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 57 страниц)
Прогулки с Птицей
Это не птица – это просто вор – он строит во дворе уборную из украденного салата!
Боб Дилан. Тарантул
Топ-топ… Идет Птица, питающаяся падалью. Идет-бредет, постукивает увечной лапкой. Дорогу ей дайте! Всегда-всегда мы здесь гуляем в эти часы. Туда и обратно, и опять туда. Но приучить к этому публику невозможно. Они все равно попадаются под ноги, все равно мешают, пробегают мимо, сталкиваются… Не со мной, конечно, но с тенью брата моего, что тоже неприятно. Гуляю, предвидя грядущее. Дальше будет только хуже. Новый Закон поспособствует этому. Он поспособствует еще многому, помимо упомянутого, но это уже не моя забота. Или моя? Мы – вожаки – созданы для забот. Нам положено пресекать непресекаемое или, по крайней мере, сокрушаться о невозможности пресечь. Проку от этого ни малейшего. Одна головная боль.
Мимо ковыляют звери и птицы, жители зоопарка и их сторожа. Кто-то здоровается, кто-то отмалчивается. На Перекресточном карнизе сверкает снег. Терзает желание перепрыгнуть. Погулять на просторах изнанки Дома. Но нельзя. «Всякий раз, потакая своим желаниям, теряешь волю и становишься их рабом». Это изречение – одно из немногих, застрявших в памяти из старого кодекса Прыгунов, который был уничтожен в Смутные Времена. Целиком его нынче процитирует только Слепец, но мне хватает и одного абзаца.
Догулявшись до боли в колене, возвращаюсь в Гнездовище. Родные джунгли. Папоротники выстилают Гнездо мое, вьюнки оплетают его стены. Горькое зеленое мясо, куда ни взгляни. Принюхиваюсь. Пахнет чьим-то безобразием. Но это меня не касается. Здесь все питаются падалью, не я один. Вскакиваю на насест, гляжу окрест. Здесь только так, чего и разглядишь – сверху. Народ все больше пластается по полу, укрытий – тьма. И не понять, отчего мы зовемся Птицами, ну да ладно, не сами себя так прозвали. Вытаскиваю из подвесного пакета красную ленту, привязываю к верхней перекладине. Это знак. Словесного недержания старого Папы Стервятника. Базар стихает, массы подползают ближе и ждут. Деформации всех видов – и внешних, и внутренних – уставились в клюв. Ничего не поделаешь, такими уродились. Сбрасываю им блок сигарет в знак своего благоволения. Ловят и рады. Им, сколько ни дай, все мало.
– Слушайте, детки, – начинаю.
Слушают. Это они умеют. Все. Даже страшно.
– Вот что, – говорю я им, – относительно девушек. Смотрю я, что вы никого не приводите. Это нехорошо. Дружите и приводите. Вот Красавица… дружит, но не приводит. Такая уж пошла нынче в Доме мода, и нам не годится отставать. Так что дерзайте. Наведите блеск, приберите, лишнее все выбросьте. Чтобы было чисто и ничем не пахло, кроме Слоновьих фиалок.
Им понятно. Кивают. Слон активнее всех. Расслышал про свои цветочки и радуется, бедняга. Бабочка нежно закидывает лапку на Ангела. Ангел морщит нос. Веселятся. Что этим девчонки? Дорогуша хихикает.
– Обожаю девушек, – говорит он фальцетом. – Они прелесть! Может даже, они нам что-нибудь подарят? Они ведь добрые…
Что ж, очень может быть, что и подарят. Губную помаду например. А насчет доброты я бы не обольщался.
– Только не вздумай ничего у них клянчить, – предупреждаю.
Дорогуша горестно закатывает глаза, оправляя перышки:
– Клянчить? Фи… Разве я такой?
– Какого черта? – спрашивает Дракон. – Где девчонки – там неприятности. Походят-походят и пустят по Дому сплетни. Зачем нам это счастье? Подарков ихних не видели?
– А вы не давайте поводов для сплетен.
Красавица сияет. Гасит иллюминацию ресницами, но все равно видно. Один у нас симпатичный парень. Единственный. Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит.
Дракон хлопает его по спине и ржет:
– Ромео-о!
Красавица багровеет, шипит и брызжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса.
– Заткнитесь! – ору со своей верхотуры, и они затыкаются.
Все виды маразма в одном Гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедией и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус.
Конь дрыхнет. Бросаю в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает – непонятно.
– Ура Стервятнику! – не к месту предлагает Пузырь.
Жду, пока стихнут общие разнокалиберные ура.
– Всем все понятно? – спрашиваю.
Кивают. Чешутся. Со скребом. С сопом. Смотрю на них и думаю: какая дура примет приглашение? Унылая рожа Коня. Радужная рожа Пузыря. Подгнившая сверху и снизу рожа Бабочки. Бугристая рожа Дракона. Глаз отдыхает только на Красавице и на Слоне. И вообще все зеленые. Свет плохой. Смотрю на лампочку. Вокруг нее что-то порхает. Что-то, еще не вымершее от холодов. Пытаюсь поймать, но промахиваюсь. Дракон кашляет. Поперхнулся дымом. Его бьют по спине в восемь ласт. Это Босх. Да еще в потемках.
– Господи… – говорю я лампе. – Твоя воля.
Стая веселится. Это у них хроническое. Когда я серьезен, им всегда кажется, что я шучу. Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребезжит будильник. Все вздрагивают. Время поить Ангела каплями.
– И все-таки зачем нам это нужно? – бубнит Дракон. – Девушки! Жили мы без них спокойно и еще бы пожили. А теперь… за полгода всего… Слепой попрыгал с Длинной и – ура! Новый Закон! А нам теперь в коридор не выйти.
Ангел открывает рот и ждет. Своих росинок.
– Слепого не обсуждать. В коридор выходить. С девушками заговаривать. По возможности приглашать. Все. Ясно?
Ангел ждет. Слон стыдливо хихикает и закрывает рот ладонью. Красавица кивает. Пузырь ухмыляется.
– Вот и славно. С богом, детки.
Сползаю с насеста. Хромо удаляюсь. Прочь из Гнезда. Подальше от всех. Слон догоняет меня и вручает горшочек с Луисом. Для поднятия настроения и общего тонуса.
Дальше идем втроем. Я, Луис на сгибе моего локтя и сутулая фигура в левайсах и черном свитере. Шагает, припадая на левую ногу, как я кренюсь вправо, беззвучный призрак брата моего Тени. Это такая же его территория, как моя. Он даже более дитя Дома, чем я, он никогда не выйдет отсюда. Я могу увидеть его в любое время и в любом месте, он всегда рядом, но занят какими-то загробными делами, вечно спешит и не смотрит на меня. Может, он обижен. Мы говорим только в снах, которые я вспоминаю с трудом. Из-за Макса мало кто приближается ко мне ближе, чем на три шага, когда я неподвижен. Многие его чуют.
Черный. Медленно шагает навстречу.
Кивает мне, я киваю ему. Не очень мы любим друг друга, но положение обязывает. При встречах нам полагается здороваться и беседовать. О чем? О погоде и самочувствии, быть может? Тень корчит недовольную гримасу. Идем дальше. Тихо насвистываю. Дневные часы теперь девичьи. Они тоже прогуливаются. А также сопровождающие их и разглядывающие. Вшивые псы с ошейниками. Птицы в пижамах с голыми шеями. Модники Логи, вьющиеся вокруг… Как назвать подружку Лога? Логихой или Ложихой? А может, Логеткой? Они шуршат и шепчутся, смеются, бросают цепкие взгляды из-под челок. От их присутствия коридор не похож на коридор, а на что похож, непонятно. И хнычет паркет под шагами Плешивого Стервятника.
Пухлый Лопотун, увидев Стервятника, стягивает берет и становится в Песью позу почтения. Голова опущена, хвост подметает паркет. Я обхожу его, Тень проходит насквозь, и непонятно, чем вызвано вздрагивание Лопотуна, почтением передо мной или неприятными ощущениями в связи с прохождением сквозь него Тени. Хочется уточнить, но я не останавливаюсь. Есть множество вопросов, на которые мне никогда не получить ответов. Ведали ли мы, что творим, окрестив Тенью Тень? Не накликали ли мы на него эту участь: вечно бродить приклеенным к чужой плоти, вечно молчать? Остальные знакомые мне привидения довольно болтливы. Только он всегда молчит.
На Перекресточном диване – страшилище Габи. Ноги раздвинуты, юбка то ли есть, то ли нет. Вокруг толпятся любители интимностей и с интересом заглядывают. Габи развлекается, лупя их сумкой и стыдливо вереща, но обзор не прикрывает. При виде Птицы молчание и отскоки. Я прохожу в тишине и уношу ее с собой, тишину, малиновость щек и мерзкое чувство своей причастности к происходящему. Строгий дед, заставший внучку в неподобающем виде. Это ужасно. И смешно одновременно.
Знакомая мелодия, соткавшись из воздуха, тянет за собой. Замедляю шаг. Проем Кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются Крысы. Мусорно-пестрые головы. Стулья на тонких ножках забиты, но мой как всегда свободен, и на два места вокруг – пустота, лишь Валет, менестрель нашего детства, сидит вплотную к ней, носом в струнах.
Подхожу и сажусь. Тень садится слева. Луиса я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю ключи. Восемнадцать, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрей. Сопит. Протягивает клешню. Серебряная серьга. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца. Тоже серебро. Примеряю. Это я возьму.
– Сколько?
Клешня показывает четыре пальца. А больше у нее их и нет. Достаю из потайного кармана бумажник. Плачу. К ключам у меня слабость. Особенно к бесполезным. За спиной запах псины. Это Валет.
– Музыка не мешает?
– Нет, старичок, даже радует. Жаль, что ты не поешь. Может, попробуешь?
Он улыбается, в глазах вопрос.
– Ты же знаешь, у меня нет голоса.
Я знаю. Он поет, только когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть «Иммигрантскую песню». Без пения это обломисто, но переносимо. К финалу Кофейник переполнен. В основном Крысиными черепами, от которых рябит в глазах, но Грызуны – поклонники Большой Песни, и гнать их из родного кормильного отсека не годится. Поэтому я надеваю темные очки. Всего-то. Эффект стопроцентный. Черепа сереют, нервы успокаиваются. Слушаем дальше.
На Леди, с ее «Стремянкой в небеса», входит Сфинкс. Резко очищаются три шестка. Он влезает на один и глазеет, майскими жуками из-под девственного черепа. Потрясающий тип. Снимаю очки, чтобы видеть его в цвете, и мы слушаем дальше. Сфинкс потихоньку начинает подавать голос. Крысы покачиваются. Гитара Валета расходится и съезжает в переборы. Сфинкс расходится и съезжает в вопле-шепот. Я тоже расхожусь и начинаю притоптывать.
Кто-то вовремя закрывает дверь. Пока не набежало лишнего гомоса. Кончится вся эта прелесть мордобоем, потому что так уж устроены Крысы, но пока нам хорошо. Особенно мне. Валет почесывает нос, Сфинкс усмехается. Музыка – прекрасный способ стирания мыслей, плохих и не очень, самый лучший и самый давний.
Мы ловим кайф полчаса, потом депрессионная Крыса из малолетних вдруг заливается слезами и извлекает бритву. Они без этого не могут. Самое ценное, что есть в Крысе, – ее постоянная готовность порешить себя в любом месте и в любой момент. Себя или окружающих. Такая готовность к финишу взбадривает Крысятник в целом. Старикашка дон Хуан бы это одобрил. Но только он. Мне такие вещи не по душе.
Крысенок пилит себя, утопая в соплях, Валет, зачарованно таращась на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на штопку. На полу красивые алые лужицы. Сфинкс вздыхает. Надеваю очки номер пять. Бодрящий желто-оранжевый спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями.
Сфинкс сразу замечает новое приобретение – ноготный ключик – и одобряет. Мелочь, а приятно. Допиваем кофе. Треплемся о Брейгеле. Потом о Леопарде. Нейтральные темы. Тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму – кофейные кольца на белом, Птички заглядывают в дверь, робкие, в поисках своего вожака, не оборачиваясь, цыкаю на них, и вот уже нет ни одной, будто и не было.
– Послушание на уровне дрессуры, – отмечает Сфинкс. – Чем ты их так запугал, Желтоглаз?
– Своими размерами.
Я давлюсь, кашляю, и сразу оказывается, что Птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак Тени смеется на соседнем стуле. И тоже кашляет. Беззвучно. Его никто не хлопает.
Разговор плавно подплывает к Сантане. Я уже растаял и стек в ближайшую кофейную лужицу. До того приятно, что даже не по себе. Общение с человеком, который умеет говорить, – редкое удовольствие для живущего в Гнезде. Мы болтаем и болтаем. Валет чистит свою котомку. В ней коллекция ноготков-медиаторов, и, откровенно говоря, она грязновата, поскребыванием тут не поможешь, нужна стиральная машина. Самого Валета тоже не мешало бы туда забросить. Улыбаюсь чашке, кручу кольцо на пальце.
«Лунный цветок» и «Амигос»… о да…
В Кофейник незаметно проникает запах ближайшего туалета и все портит. Печально. Интеллектуальная беседа – вещь незаменимая. Особенно для одной моей знакомой Птицы. Бедняжка… жаль его иногда до слез. Лысый допивает свой кофе, вернее, то, что так называют в Кофейнике, желает нам всего хорошего и уходит, осторожно обходя следы порезавшегося Крысенка.
– Ну что? Придешь вечером? – спрашиваю Валета.
Собакоголовый бледнеет и начинает теребить костыль:
– Э-э, я бы с удовольствием, но… как-то мне у вас… немного…
– Противно, – заканчиваю за него. – Ладно. Если тебе так тошно от нас, можешь не приходить.
Слезаю с шестка и удаляюсь в полной уверенности, что он придет. Резво ковыляю. Дом объят весенним безумием. Оно заразно, его можно подцепить в каждом углу – и я уношу от него ноги, хотя они все равно врезаются в память – глупые, самодовольные лица, подмигивающие щелками глаз, красивые одурманенные лица, улыбающиеся друг другу. Звенят цепочки – символы ошейников – на тонких девичьих шеях. Колясники и колясницы тихо шепчутся, сцепив колеса и пальцы, гадают друг другу по ладоням, предсказывая бескрылые судьбы. Хихикают подружки Логов, раскрашенные, как ритуальные маски. В этот час нельзя гулять одному. Дом принадлежит им. Всеми своими щелями и подтекающими кранами, всеми надписями, приобретающими тайный смысл… Печально. Хромаю, как распоследний бес. Нога нагревается. Этой ночью меня будут пытать. Собственные кости. Мало у кого имеется в наличии такое подбадривающее средство. Тем и следует утешаться.
Снимаю очки и жду. Знаю, что вот сейчас в конце коридора мелькнет белый кроль, с лошадиным топотом уносящийся на кэрроловский шабаш. И он промелькнул. На долю секунды. Если не знать, нипочем не заметишь. Передыхаю и тащусь дальше…
Топ-топ… идет Большая Птица, та, что питается падалью…
Осколки вечерние
Двор сверкает снегом. Деревья сверкают звездами инея. По вечернему небу плывут облака. Горбач смотрит на них, пряча подбородок в шарф, а замерзшие пальцы – в карманы. Примерзнув к скамейке, он встает и ходит кругами. Очень маленькими. Каждый шаг разрушает голубую гладкость снежного поля, и, жалея ее, он пытается наступать в собственные следы. Ворона ковыляет за ним, толстая в зимней шубе, и безнадежно ищет землю, исчезнувшую под слоем мокрого холода. Это ее первая зима. Она прыгает боком, подозрительная и смущенная, и проверяет свои подозрения о конце света, расковыривая клювом белое, заслонившее землю.
Горбач дышит в замерзшие пальцы.
Синие тени удлиняются, двор темнеет, облака бегут под туманной луной. Уши Горбача горят, не защищенные шапкой. Он чихает. Вороне надоедает гулять. Она взлетает ему на плечо и застывает, спрятав клюв в нагрудных перьях, так же, как он прячет подбородок в шарф. Они сидят тихо. Ворона и человек. Спящий мир превратил их в статуи.
Звонок к ужину разбивает тишину. Мокроволосый Македонский выбегает из ванной комнаты, на ходу вытирая лицо.
Черный на лестнице первого этажа загибает пальцы, отсчитывая минуты до того, как спальня опустеет, чтобы войти незамеченным.
Курильщик ползет к своей коляске.
Табаки на подоконнике удивленно вертит головой, не веря, что мог быть застигнут врасплох приглашением в столовую.
Горбач входит в пустую спальню, устраивает на жердочке Нанетту и садится на батарею. Разбросанные вещи говорят, что на ужин уезжали в спешке. Горбач сидит, не снимая куртки, и с его ботинок медленно натекает лужа.
В столовой Табаки выкладывает из морковных кусочков узоры на скатерти. Курильщик задремывает над чашкой с чаем.
– Все разбежались и прячутся по углам, – говорит Сфинкс Слепому. – Мертвая зона, а не комната. Страшно в ней сидеть.
– Чуткие, как кошки, – отвечает Слепой, улыбаясь. – Пока в комнате нехороший запах…
Курильщик просыпается и прислушивается к ним, но они замолкают. Стулья Черного и Горбача пустуют.
– Ладно, – говорит Табаки, жуя, – я все понял, но кто мне скажет, где Лэри? Вон его Логи, все на местах.
Фазан Джин, ероша волосы, пишет письмо своему младшему брату, обитающему в Наружности. В классе пусто, из спальни доносится приглушенный звук телевизора. Джин невольно прислушивается. Опускает голову и дописывает фразу: «Я убедился в том, что все женщины одинаковы. Даже лучшие из них не знают, что такое дисциплина».
– Я приведу ее сегодня. Только чуть-чуть погодя. Слышишь?
Лэри крутится вокруг Горбача, терзая подбородок.
– Это очень важно для меня. Представить ее… Познакомить…
– Давно пора, – говорит Горбач, думая, что совсем не хочет, чтобы кого-то приводили. Но если он этого не хочет, то почему говорит «давно пора»?
– С тебя натекло.
Лэри ждет продолжения. Должен же Горбач сказать что-то еще. Как-то подбодрить его. Что-то посоветовать. Но Горбач молчит.
– Она славная.
Лэри опять ждет.
– Да, – Горбач отрывает ноги от пола и смотрит на подсыхающую лужу. – Я все слышу, Лэри. Она славная. Я слышу.
– Как ты думаешь, она им понравится? Они ее не прогонят? Я бы им не простил. Но ты ведь не думаешь…
Горбач ничего не думает. Ни о Лэри, ни о его подружке.
– У нас с ней любовь, – жалобно говорит Лэри. – Настоящая. Почти как в кино. Она меня ждет иногда прямо часами…
– Любовь – это круто, – бормочет Горбач. Он слезает с батареи и проходит через комнату, слыша, как Лэри крадется следом.
– Погоди, куда ты ушел, я как раз хотел тебя попросить…
В ванной комнате он задвигает щеколду и начинает раздеваться. Шаги Лэри замирают перед дверью.
– А когда ты выйдешь?
– Завтра утром! – кричит Горбач и пускает воду в душе.
– Ты не моешься, – скулит Лэри. – Ты не взял ничего. Я же видел! Ты просто прячешься от меня! Выходи, а? Так нечестно…
[Горбач]
… Лэри уже не было. Устал ждать и ушел. Наверное, я нехорошо повел себя с ним. Лорда тоже не было. Я хотел залезть к себе наверх, но увидел, что там опять лежит Черный. Я часто думал, почему все лезут на мое место, а не к Лэри – ведь у него все то же самое, только с другой стороны? Но никто никогда не влезал туда, кроме него самого. Я так никогда и не понял, почему.
Я сел рядом с Курильщиком. Табаки со стуком сосал леденец.
– Как можно столько сидеть в снегу? Все это кончится бронхитом.
Черный вдруг соскочил с моей кровати. Посмотрел как-то странно и лег к себе. Лицом в стену.
Сразу подумалось о стихах. Я их точно стер? Обычно старался стирать. Я почувствовал, что краснею. Я действительно стирал их почти всегда. Только изредка забывал, оставлял на стене. И почему-то именно в эти дни кто-нибудь туда обязательно влезал и часами валялся на моем месте, пока я потел внизу, стыдясь и надеясь, что, может, этот кто-то ничего не заметил. Захотелось поскорее проверить, есть ли на стене что-нибудь, но если было и Черный прочел, то он понял бы, что это я проверяю, и стало бы совсем стыдно.
Спать расхотелось, а для придумок время еще не пришло.
Придумки на ночь – заслонка от страха. У меня звездная болезнь, она просыпается ночью. От нее помогают придумки. Это вообще-то стыдная вещь. Они приходят сами. Почти одинаковые, и не поверишь даже, что можно их себе так и представлять год за годом. Там везде я и еще кто-то. Сначала всегда отец. Когда я был поменьше, это был только отец. Потом стали появляться другие, но начиналось все с отца. Мы встречались с ним, он и я, уже взрослый. А где и как – всегда бывало по-разному.
Когда я был маленький, то вечно умирал, а он приходил и говорил, что любит и сожалеет, и объяснял, почему его не было раньше. Все очень слезливо, как в дамском романе и даже хуже. Он бывал разный каждую неделю, мой придумочный отец. Менялись лицо и фигура, смотря какой фильм я только что видел и чем была забита моя голова, но говорил он обычно одно и то же, хотя и немного разными словами, и вел себя одинаково. Я тоже говорил одно и то же или почти одно и то же. А потом, со временем, стали приходить другие вещи. Люди, разные люди и места, и сам я менялся, делаясь совсем не собой, чем дальше от себя, тем интереснее. Иногда я бывал стариком, который жил на барже совсем один, спасал утопляемых собак и рассказывал им свои истории. Он был немного не в себе, этот старик, но в общем-то, конечно, он был очень даже похож на меня.
Старик был одной из лучших придумок, но были и другие. Со мной случалось разное, и иногда я рассказывал об этом случайным людям. Или своим женам, если был женат. Или самому себе.
Главное было представить место и себя в нем. Это могла быть улица, комната или машина, но надо было представлять по-настоящему, вместе с тем, что за окнами, вместе со всеми мелочами, которые лежат там и тут, с погодой и с запахами. Чем лучше представлялось все это, чем лучше получалась придумка, тем лучше я засыпал. Иногда сон приходил даже раньше, чем я успевал представить все до конца, и тогда, на следующую ночь, можно было представлять то же самое опять.
Я уже знал, что флейта притягивает вечера, холодные и туманные, в чужих городах; суета и шум внизу, где не спят – поезда; вой собак далеко в Наружности – развалины и пустынные улицы. А иногда не притягивается ничего. Так долго, что решаешь: вот и все, ты вырос из этого.
Но когда нет ничего, трудно заснуть. Тогда мысли о смерти, холодные мурашки по телу и задыхаешься от страха, а внизу храпят, и ты не нужен никому, ты совсем один. И через потолок начинают просвечивать звезды. Как будто кто-то смотрит холодными глазами. Это и есть Звездная Болезнь. Когда она приходит, уже ничего не придумаешь и не представишь, никуда от нее не спрячешься, потому что страх уже в тебе, а он сильнее любых придумок.
Последнее средство – разбудить кого-то. Те, кого будят, злятся как черти, но они рядом, а когда рядом есть кто-то живой, глаза звезд затухают и кто-то, кто уже тянулся к краю одеяла, чтобы схватить его, убирает когти и прячется до следующего раза.
Я подманивал придумки каждый вечер. Попробовал и сейчас, как обычно, но из-за Черного и стихов, а может, из-за того, о чем он говорил еще перед стихами, ничего не получилось. Не помогла даже белая снежность двора, которую я собирал в себя по снежинке. Всю сверкающую белость снежной земли. Я ходил и сидел в ней, чтобы не потерять что-то, но потерял, как только вернулся. Заманить это обратно я уже не мог.
Я сменил воду Нанетте и газеты под ее насестом. Пришел Лэри, повертелся вокруг и убежал. Наверное, за своей подружкой, о которой говорил. Я так подумал и сразу забыл, а он и вправду привел ее. Девчонка как девчонка. Худющая, бледная.
– Это Спица, – сказал он, – познакомьтесь. Она вяжет шикарные свитера. Очень шикарные. Я сам видел парочку. Они прямо нарасхват! Здорово, да?
И уставился на меня. Я должен был заговорить с ней по-дружески, как обещал ему, но не смог. Может, надо было уточнить что-нибудь насчет свитеров. Какие нитки она предпочитает или какой номер спиц. Может, ее бы это развлекло. Мы поболтали бы, как две кумушки, и Лэри был бы счастлив. Он себе наверняка что-то в этом роде представлял. И плевать, что я не выношу, когда при посторонних упоминают о том, что я вяжу. Что я миллион раз об этом говорил. Он думал только о себе и о своей девчонке. Сказал про свитера и начал мне подмигивать.
– О, свитера! – проворковал Табаки. – С узорчиками или без?
И они прекрасно обошлись без меня. Табаки болтал, Курильщик изо всех сил улыбался. Спица мило краснела и даже пару раз хихикнула.
– Симпатичная, – сказал Курильщик, когда Лэри, очень довольный, исчез вместе со своей скелетинкой. – И ходит.
– Только пусть не думает, что мы не поняли, почему она – Спица, – фыркнул Табаки. – Вы видели ее ноги? Это же не ноги. Это именно что вязальные спицы. Бедняга Лэри. Из нее и словечка не выжалось, несмотря на все мои старания.
Курильщик выразительно уставился на ноги Табаки.
Чуть погодя вернулся Лорд. Влез на кровать, сел рядом, и на меня повеяло жаром от его лица.
– Что стряслось, Лорд? Какой-то ты нездоровый …
– Ничего, – сказал он. – Я просто слишком низко нагнулся к огню.
И засмеялся.
Он так и выглядел. Слегка обгоревшим. И я ему поверил.
– Где ты нашел огонь, чтобы к нему нагибаться? – спросил Курильщик.
Лорд не ответил. Только улыбался. От вида его кофе и всего, что он туда накидал, меня замутило. Я чую, когда человек не в себе, это совершенно особенный запах, как у болезни. Кажется, Табаки тоже его учуял.
– Лэри приводил свою подружку, – сказал он.
– Да? – сказал Лорд. – Как интересно.
Но ему не было интересно.
Пришел Сфинкс, обмотанный шарфом. Сел на кровать, втянул на нее ноги и сказал:
– Пахнет горелым.
– Это от Лорда, – объяснил Табаки. – Он слегка обгорел у костра.
Сфинкс посмотрел на Лорда.
– Да, – сказал он. – Ее волосы, они как костер. Ты слишком близко придвинулся, Лорд.
[Лорд]
…Я не знаю, где кончается нормальность и начинается безумие. Я видел их, сумасшедших, целыми комнатами, и все равно я не знаю этого.
Я смотрю на дверь. На всей планете остались только мы. Я и она, та, что может войти в нее. Дверь остается закрытой. Это намного лучше, чем когда входят не имеющие ничего общего с ней. Открывают они так, как могла бы открыть и она. Этот обман длится всего секунду, но леденеют внутренности и вспыхивает лицо, и можно прятаться под очками или держать перед собой книгу, все равно это видно всем и, наверное, выглядит ужасно, потому что через некоторое время они перестают входить и выходить, как будто сама дверь таит в себе какую-то опасность. Остатками разума, которые у меня сохранились, я понимаю, что причиняю им неудобства, но поделать ничего не могу. Я отворачиваюсь, я смотрю в книги, в стены, на уши Шакала, куда угодно, но все это бесполезно, все равно при каждом скрипе с той стороны я приковываюсь взглядом к двери прежде, чем успеваю подумать о них.
И только совсем поздно, для нее поздно, для нее, уже не приходящей в эти часы, когда и без часов понятно, что она не придет, я перестаю ждать и оглядываюсь вокруг. С каждого лица, из всех зрачков, на меня смотрят двери, петли, замочные скважины и дверные ручки. Смотрят сочувственно и утомленно.
– С пробуждением. – Сфинкс вяло помахивает граблей в перчатке. – Ты не осознаешь, как ты всех достал? Неужели нельзя держать это при себе?
Мне стыдно и больно от его слов. Я понимаю, что он не хотел обидеть, совсем нет, но от этого только больнее.
– У тебя рот, как змеиная кожа, – Табаки светит мне в лицо осколком зеркала.
В нем – бело-чешуйчатые губы, вызывающие омерзение. Я облизываю их, и чешуя приобретает влажный блеск.
Сфинкс сидит на подушке. Мертвые руки лежат у его бедер, ладонями вверх. Черными ладонями перчаток. Я закрываю глаза. В искрящейся темноте приходит ее лицо. Белое, будто вымазанное мелом, лицо в красных кудрях. Бледнее и злее, чем в жизни.
– Я не умею держать это при себе, – говорю я. – Не могу. Не хочу.
– Тогда не держи.
Эти слова отбрасывают меня на холодный подоконник в классе, в темнеющий сумрак, где только я и Табаки, и Шакал говорит: «Нельзя держать это в себе. Надо, чтобы это вышло наружу». Они сказали одно и то же; по-разному, и Сфинкс совсем не имел в виду то, что имел в виду Табаки, но получилось одно и то же. И я понимаю. Можно быть дверным маньяком и ждать до конца своих дней. А можно открыть эту дверь со своей стороны.
Ждать намного легче. И трусливее.
Я зову Македонского.
– Зеленый свитер, пожалуйста…
И надеваю его. Это талисман. Мои губы – как кожа ящерицы, а по нему они бегут вверх, танцуя, настоящие, но белые, каких не бывает. Им никогда не сбросить хвостов и не греться на солнце. Это мои личные ящерицы; говорят, они мне идут.
Почему-то, надев свитер, я начинаю верить, что и вправду поеду сейчас к ней. Поеду – зачем? Просто так. Скажу ей что-нибудь, по ту сторону двери. Только Табаки чует, куда я собрался. Он чует меня, мой маршрут, мое безумие, но не говорит ни слова, чтобы не выдать другим нашу тайну, он даже не смотрит на меня, когда я ползу мимо.
– Куда ты, Лорд? – спрашивает Курильщик.
– Хочу нарушить заклятие двери.
– Странный ты. Вы все странные сегодня.
Теперь я вижу дверь уже вблизи, снизу, и понимаю, что это обычная дверь, каких миллиарды. Я открываю ее и перестаю быть пленником. Не все ли равно, с какой стороны она открылась?
Я еду и чувствую радость своего безумия, свою смелость и безразличие к тому, чем все закончится. Все однажды заканчивается, так или иначе. Я начинаю говорить с ней, еще не видя ее.
Территория девушек, где я не был, знакома, как будто я бывал здесь не раз, и я еду, точно зная, куда надо ехать, словно по невидимым следам.
И нахожу ее. Четыре девушки, безмолвно увязавшиеся за мной, отходят, я машу им рукой и говорю спасибо, хотя они ничем не помогли мне, но для меня они – как птицы в лесу, когда ищешь одну-единственную птицу. Чем больше их вокруг, тем лучше.
– Привет, – говорю я ей. – Моя красноголовая любовь…
Она подходит ко мне. И смотрит удивленно.
…Ты хочешь знать, как это было? Интересно, все хотят знать, но никто ни о чем не спрашивает. Ты – первая. Странно, правда? Если бы кто-нибудь попросил, я бы рассказал, но они думают, что мне было бы неприятно это ворошить. В принципе они правы. Это не самые приятные воспоминания. С другой стороны, иногда хочется с кем-то поделиться…
Я не очень хорошо помню, как я туда попал. Помню только, что на машине и что водитель все дорогу рассказывал о своих взаимоотношениях с детьми. Как ему трудно находить с ними общий язык. Отчего-то думал, что мне это может быть интересно. А может, он всем это рассказывает. Жалуется. Не знаю. Но он здорово отвлекал меня своими разговорами. Когда весь мир рухнул и жизнь закончилась, хочется просто тихо исчезнуть, а такие мелочи не дают настроиться. Как тут исчезнешь, когда тебе с мрачным видом перечисляют грехи незнакомых подростков. Причем так, что становится ясно: он считает, что и ты каким-то образом к этому причастен. Только потому, что ты примерно того же возраста. Так что я ему поддакивал и даже мычал в нужных местах, стараясь не реагировать на все эти «вы» и «такие, как вы», но, как выяснилось, зря старался. Когда в условленном месте к нам подсела моя мать, он тут же сообщил ей, что парень у нее не подарок и что, хотя у него имеются двое своих неподарков, которые вот-вот загонят его в гроб, им все же до меня далеко, потому что сразу видно, что по части сведения родителей в гроб мне просто нет равных. И опять завел о своих детях.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.