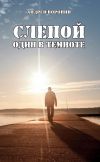Текст книги "Дом, в котором…"

Автор книги: Мариам Петросян
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 57 страниц)
Смешно? Да нет, не очень-то это было смешно. Они с матерью всю оставшуюся дорогу проворковали, а я все думал, какую кучу времени потратил на этого типа и его излияния, вместо того, чтобы думать о важном, и что за это в итоге получил. Ужасно обидно.
Мы доехали поздно ночью. Мать ушла заполнять какие-то бланки и анкеты, а меня сразу уложили, и я почти сразу заснул. Ничего не разглядел вокруг, слишком устал. А утром проснулся совсем в другом мире. Отдаленно похожем на Могильник. В Мертвом Доме.
Там были заношенные кровати. Такие, по которым сразу видно, сколько народу на них лежало, сидело и хваталось за спинки. И сколько там кашляли, плевались, швыряли на пол салфетки и ковыряли в носах. Там это все просто отпечаталось. И знаешь, я нигде не видел таких подушек, как там. Они были под простынями. Их нельзя было сдвинуть. Один раз я снял простыню, но подушка оказалась пришита к матрасу. Намертво. Я спросил, нельзя ли мне получить обычную подушку. Они сказали, что нельзя. А вдруг мне захочется пошвырять ею в соседей, посреди ночи? Или кого-нибудь с ее помощью задушить? Мало ли что может прийти в голову потенциальному психу. Мне объяснили, что любой безобидный предмет может быть использован как оружие. Хотя никакой логики в этом нет, если можно задушить кого-то подушкой, почему нельзя сделать то же самое просто руками? Я сказал, что не могу без снимающейся подушки, что мне обязательно надо обнимать ее перед сном, иначе не засну. Они всерьез расстроились, но ничем не смогли помочь. У них были очень строгие инструкции относительно всего. Подушек, одеял, ножей и вилок. Сплошная нервотрепка, если вдуматься, ведь за каждой мелочью не уследишь, как ни старайся. В этом и заключалась работа тамошних Пауков.
Они боялись подушек, полнолуния и умных психов. И у всех были огромные тапки, которыми они шаркали во время ночных обходов. Там постоянно были обходы. Только умудришься заснуть, как они начинаются. Обходят дозором кровать за кроватью. Чего ищут – непонятно. Понятно только, что спать тебе не дадут. Самый главный обход был в шесть утра. Самый шумный и самый дотошный. С каверзными вопросами о том, как ты провел ночь, почему у тебя изможденный вид и чем это ты занимался, что тебя так изнурило. Очень хотелось знать, а сами они смогли бы провести ночь спокойно, если бы их постоянно обходили? Но там таких вопросов не задают. Можно попасть в умные психи, а это самое неприятное, что там может с кем-то случиться.
Не считая обходов и утренних допросов, там было не очень плохо. Журналы, конфеты, фрукты – хоть давись ими. Телевизор. Музыкальные передачи. Волнистые попугайчики в клетках. Пластмассовые цветы, яркие, как леденцы в прозрачных обертках. Один бедолага даже попробовал их жевать. Ему понравилось. Знаешь, когда людям подсовывают цветы, похожие на конфеты, нечего обижаться, если кто-то захочет попробовать их на вкус. А они обижались. Просто с ума сходили от расстройства, когда такое случалось.
У них вообще было маловато радостей в жизни. Весь день улыбаться, когда вокруг куча живых мертвецов ковыряют в носах – не думаю, что это легко. К концу дня улыбки застывали в камень. Наверное, дома им приходилось скрести их специальными щетками, чтобы они сошли. Или, если лень, ложиться спать улыбаясь. Но тогда дети могли испугаться. Я думаю, те, у кого были дети, все же счищали улыбки на ночь.
А я предупреждал, что это не очень хорошие воспоминания. Но не все было плохо. На улице, например, горел фонарь. И ветер иногда шуршал деревьями по ночам, прямо под окнами. Если бы дозорные не шаркали тапками, прогоняя сны, было бы вполне терпимо.
Нет, дозорные совсем не похожи на Ящиков. Ничего общего. Ящикам плевать, как они выглядят, что делают и как, а у дозорных все расписано, они никогда не нарушают правила. Сказано – улыбаться, они и улыбаются. Халаты всегда чистые и выглаженные, голос не повышают, а уж о том, чтобы напиться в дежурство, нечего и говорить. Внутри они озверелые, снаружи – любезные. От их работы не озвереть невозможно, а инструкции не позволяют не быть любезными. Так и живут. Я бы на такую работу не согласился и за миллион.
Что ты, о стены там никто не бился. И волос не вырывал. И в смирительные рубашки никого не заталкивали. Я не видел ничего такого. Никаких подлинных стопроцентных психов. Они просто гадили, как попугаи, с утра до ночи, и запах стоял, как в зоопарке, так что мне все время снились унитазы. Города унитазов с неработающим спуском. А журналы были липкими от их пальцев. Эти пальцы почти не вылезали из носов. Или из других мест…
Слушай, если тебе противно, я не буду рассказывать. Я ведь не хотел. И зачем тебе об этом знать? Это не настоящая Наружность, и ты никогда не попадешь туда, разве что мир перевернется.
Я серьезен. Я правда серьезен, и совсем не шучу. У меня, кстати, почти нет чувства юмора. Если говорить очень-очень серьезно, многое из того, что я там понял, можно было понять и здесь, намного раньше. Я понял, что мой дом был тут. Никогда не думал о нем так, пока меня не забрали. Хуже всего, что это мое понимание опоздало, так я думал тогда. Я понял, что не могу есть все эти сладости, от которых Табаки завизжал бы и упал в обморок – но его не было там, чтобы проделать это. Я понял, что не могу спать один, когда Шакал не дышит в живот, а Сфинкс не пинает в ухо. И когда двое-трое не болтают до утра о всякой ерунде, которая кажется им безумно важной. Выяснилось, что я не могу без них. Ни есть, ни спать, ни дышать. Тогда я решил умереть, раз уж ничего этого у меня больше не будет. Только это нелегко. Потому что весь ужас в том и состоит, что ты не можешь умереть, когда вздумается, в местах, где постоянно проверяют, жив ты или нет. Им, конечно, все равно, будь ты хоть трижды труп, но такая уж у них работа, не давать никому своевольничать.
Тебе не надо об этом думать, таким, как ты, это ни к чему. Такие, как ты…
Я не отвлекаюсь, нет. Разве я мало рассказал? И тебе это действительно не нужно, говорю же, это вовсе не Наружность, это нечто иное. Знаешь, давай лучше сразу конец, я устал вспоминать. Конец был вот какой.
Явился Р Первый, и это было как землетрясение, бедное здание чуть не рухнуло.
Конечно, не по-настоящему. Конечно, преувеличиваю. Но ты только представь: Р Первый, с этими его глазами подлинного опасного психа, для каких в действительности и создаются Мертвые Дома, но их не так-то просто поймать, подлинных, так что ничего похожего местные уже не чаяли встретить.
Он стал первым живым, которого я увидел там за тридцать дней, а остальные, возможно, впервые за всю свою жизнь. Понятно, что они оцепенели.
Я повел себя позорно. Я не хотел бы, чтобы ты видела меня таким. Ни ты, ни кто-то другой. Но когда он пришел, я уже потерял надежду. Я просто вцепился в него. Наверное, я никогда не был так напуган, как когда увидел его и понял, что его попросили приехать и посмотреть, как я живу, и что сейчас он возьмет и уедет обратно, а я останусь. Кажется, я целовал ему руки, не уверен, но уж точно держался за них изо всех сил. Если бы он захотел уйти, ему бы пришлось очень потрудиться, чтобы меня от себя отодрать. Кончилось все тем, что он обнял меня и начал похлопывать по спине. Забавное, должно быть, вышло зрелище… Он спросил, не хочу ли я вернуться обратно в Дом. Я сказал, что мечтаю об этом. Он спросил, не сделали ли со мной в этом месте чего-то плохого. Я сказал: нет, всего лишь вбили гвозди в мою бессмертную душу, и она разучилась летать. Ему это не понравилось, и он забрал меня. Вот и вся история.
Здесь все было, как я оставил, только прошло много времени и чего-то я не увидел, а что-то пропустил и уже не узнаю, как оно было на самом деле. Мне расскажут, конечно, но это совсем другое. Первое время я все хотел сказать им, как я их люблю, но так и не сказал. Такое легко представлять и трудно говорить вслух. А потом пришла ты. Самое удивительное существо. Самое живое. Самое яркое и теплое…
Хорошо, я не буду, если тебе неприятно, но мне важно, чтобы ты знала. Какая ты. Настолько же более живая здесь, насколько Р Первый был живее всех там.
О чем же тогда говорить? Что я могу рассказать такого, чего бы не знали все? Не считая Мертвого Дома?
Сфинкс… На то он и Сфинкс, что о нем трудно рассказывать. Их много в одной шкуре, Сфинксов, и они все разные. Все зависит от того, когда какой из них выходит на волю, погулять. Их расписание знает только он сам, так что здесь я не могу быть проводником. Но он мне вовсе не враг и не кошмар моей жизни, это все выдумки Логов.
Ну, да, я бросался на него с ножом в столовой. Смешно сейчас об этом вспоминать. Почему смешно? Потому что это было глупо. Не из-за того, что он сильнее, просто он только того и хотел. Чтобы я двигался. Зачем же еще? Я каждую ночь подползал к нему, чтобы задушить; думаешь, это было легко? И когда я проделал это в стомиллионный раз, он сказал, что, пожалуй, возьмет матрас и уйдет ночевать в классе, потому что у меня уже получается слишком хорошо. Я до утра просидел столбом, все не мог поверить, что он действительно так сказал. Потому что до этого дня, вернее ночи, он делал вид, что абсолютно меня не боится, что я слишком жалок и слишком неуклюж, что можно спокойно дрыхнуть в двух шагах от меня, ведь я все равно ни на что не способен. А тут признался, что уже давно на самом деле не может спать. Сказал, что с него хватит, и перебрался ночевать в классную комнату.
А на следующее утро все изменилось. Я больше ни разу не слышал от него ни оскорблений, ни подначек. Но даже не в этом дело. Он стал другим. Мне казалось, он живет, чтобы меня доставать. Каждую минуту, каждую секунду. Что он без этого просто не может. Что он безумный садист, которого все боятся, что никто рядом с ним даже дыхание не осмеливается перевести…
Ну вот, тебе смешно… А ты поставь себя на мое место. Живешь-живешь рядом с чудовищем, весь смысл жизни только в том, как бы ухитриться его прикончить, а потом чудовище вдруг говорит – «ну все, с меня хватит», и превращается в веселого, спокойного человека. Можно в такое поверить? Во всяком случае, не сразу. Сколько бы вокруг не хихикали и не объясняли, что это было треклятое ученичество, что Сфинкс хотел как лучше, и вот же у него получилось, «гляди, как ты теперь классно ползаешь» – все равно я его видеть не мог, и от одного звука его голоса начинал трястись. Остальных тоже хотелось прикончить. Он же не один в это играл, они все так или иначе участвовали. Даже Толстый. Ну, то есть Толстый действительно боялся, он ведь Сфинкса любил, и вдруг Сфинкс на него внимания не обращает и ведет себя странно, как будто превратился в кого-то другого. Сфинкс сказал, что больше всего он переживал из-за Толстого. Но это уже потом. Табаки рассказывал, что, оказывается, они все не спали по ночам, боялись, что я доползу до Сфинкса и перегрызу ему горло, и Табаки раскладывал по всей кровати ловушки, шуршалки и пищалки, чтобы вовремя проснуться, если что.
Я не признавал, что Сфинкс мой учитель, и ни разу даже мысленно его так не называл. До Мертвого Дома. До появления там Ральфа. Он ведь пришел не один, а с моей матерью, об этом я забыл тебе рассказать. У нее в сумочке лежала моя фотография трехлетней давности. Не знаю, зачем она ее притащила и зачем показала мне, может, она ее держит при себе из сентиментальных соображений, а может, захотела сравнить с оригиналом. В любом случае, это был кошмар. Не знаю даже, как объяснить. Бывает же, что смотришь на чье-то лицо и хочется поскорее отвести взгляд? Так вот, мальчишка на фотографии был как раз таким. Сразу видно, что полное дерьмо. Рожа кислая, нижняя губа оттопырена, в глазах сплошное самомнение и скука. Обливает презрением весь мир.
Неправда, сейчас я не такой! Ты просто не видела ту фотографию! Я покажу тебе, и ты поймешь. Да, она у меня, я выпросил ее у матери в такси на обратном пути. Этого свинячьего ублюдка. Чтобы помнить, что взялся учить Сфинкс. И каким бы я был сейчас, если бы не Дом. Вот этим же ублюдком, только покрупнее и попротивнее. Оказывается, бывает несколько жизней в одной. Я никогда раньше не думал об этом. Я понял свою мать и простил. С тем, что она носила в сумочке, я и сам не захотел бы жить.
А Сфинксу я собирался каждое утро кланяться и говорить: «Спасибо тебе, о великий учитель», но ни разу не получилось. Как это ни скажи, выглядело бы издевкой, а я-то хотел всерьез.
Нет, я только спросил, как он рискнул взвалить на себя такое, а он ответил, что и сам удивляется. Сказал: «Что-то в тебе было. Какой-то стержень. Так что я рискнул». После этого разговора я целый час рассматривал свинячьего ублюдка. Искал стержень. Не было там никакого стержня, хоть убей. Или я не такой глазастый, как Сфинкс.
Ну вот, тебе опять смешно… Это здорово, что я могу тебя рассмешить. Путь к сердцу женщины лежит через смех.
Я не для того здесь, чтобы рассказывать о Сфинксе. Да, я ищу пути к твоему сердцу, я этого и не скрывал. Ищу и так и эдак, с надеждой и упованием… Можно тебя поцеловать? Я так и думал. Никогда нельзя делать то, чего больше всего хочется. Может, разве что в раю. Или в раю просто перестаешь хотеть?
Я не маньяк, я просто люблю тебя. Я хочу быть с тобой всегда, прижиматься к тебе во сне, хочу целовать твои брови и рот, и пальцы, которые ты грызешь, и заплатки на твоих джинсах, и рожицу на твоей майке… Я хочу носить тебя на руках и любить везде, где только можно, хочу двенадцать детей, рыжих и хулиганистых, с разбитыми коленками и курносыми носами, с бессмертными душами, в которые никто никогда не забьет гвозди… Но этого все равно никогда не будет, зачем же ты так злишься, когда я об этом говорю?
А ты знаешь, что твои уши просвечивают красным, когда ты стоишь перед окном? Я не издеваюсь, вовсе нет, я в жизни еще не был так серьезен. Кто уродина? Ты? Шутишь? У тебя самые черные глаза на свете, о твои ресницы можно обжечься, а в волосах светит солнце. Ты – как тюльпан на тонкой ножке, как…
Все, все, больше не буду. Я не кричу, я шепчу, меня еле слышно. И это не я нагибаюсь, это меня притягивает. Здесь очень жарко. Нет? Ну, значит, тепло. Я совершенно здоров, просто здесь жарко, или тепло, или еще что-нибудь в этом роде, а этот свитер кусается. Больше, наверное, мне нельзя к тебе приезжать? Я сам все испортил, я понимаю. Прости. Так могу я приехать еще?
Синий кобальт
Осколки
Двор сверкает снегом. Деревья сверкают звездами инея. Горбач смотрит на них, пряча подбородок в шарф, а холодные пальцы – в карманы. Примерзнув к скамейке, встает и ходит кругами. Очень маленькими. Каждый его шаг разрушает голубую гладкость снежного поля, и, жалея ее, он наступает в собственные следы. Ворона ковыляет за ним, толстая в своей зимней шубе, и безнадежно ищет землю, исчезнувшую под слоем мокрого холода. Это ее первая зима. Она прыгает боком, подозрительная и смущенная, и проверяет свои подозрения о конце света, расковыривая клювом белое, заслонившее землю.
Бандар-Лог Конь слоняется по коридору, стреляя сигареты у проходящих мимо. Увидев бегущую вдоль стены мышь, оглушительно свистит и швыряет в нее брелоком без ключей. Промахивается, подбирает брелок и прислоняется к стене, выслеживая очередного дарителя.
В четвертой спальне Табаки раскладывает «Голубую Мечту» – знаменитый пасьянс от Мухи, который никогда не выходит. Он напевает, и в его песне собаки преследуют безруких людей, а безрукие убегают от них, хохоча, хитрые шакалы бродят вокруг спящих львов, замышляя отобрать у них остатки обеда, а львы безмятежно спят, пока обеденные остатки исчезают…
В пустом классе первой группы Фазан Джин, ероша волосы, пишет письмо младшему брату, обитающему в Наружности. Из спальни доносится приглушенный звук телевизора. Джин невольно прислушивается. Потом опускает голову и дописывает фразу: «Я убедился в том, что все женщины одинаковы. Даже лучшие из них не знают, что такое дисциплина».
Лэри и Спица, взявшись за руки, чинно прогуливаются по коридору первого этажа. Иногда они останавливаются, и Спица, страшно краснея, поправляет Лэри волосы или воротничок.
– Да ладно тебе, – ворчит Лэри, уворачиваясь. – Что ты, как мамочка…
Но ему это нравится.
Встречные Логи делают у них за спиной непристойные жесты, в душе отчаянно завидуя.
Песня Табаки все громче и все тоскливее, но сам он этого не замечает, пока ему не говорят: «Может, хватит?» Тогда он замолкает, обиженный, смешивает карты и строит предположения относительно того, «нужен ли он вообще кому-то в этой комнате и не стало бы всем комфортнее, если бы он убрался восвояси?» Ему не отвечают. Табаки сползает с кровати и, бросив в пространство «Спасибо, справлюсь сам», хотя никто не предлагает ему помощь, ползет к коляске, долго очищает ее от посторонних предметов: остатки бутербродов, полгазеты, плед и серединка яблока; он выбрасывает все это, ворча «Все, что попало, швыряют почему-то именно сюда!» и, погрузившись, едет к выходу.
Лучшее место для обиженного, конечно, двор, но там слишком холодно, поэтому Табаки едет в класс, предположительно пустой, темный и холодный, тоже вполне подходящий для переживаний.
Горбач дышит в замерзшие пальцы. Синие тени удлинились, облака бегут под невидимой луной. Уши Горбача горят, вылезая из-под шапки. Он чихает и прячется в шарф. Вороне надоедает гулять. Она взлетает ему на плечо и застывает, спрятав клюв в нагрудных перьях, так же, как он прячет подбородок в шарф. Они сидят неподвижно, ворона и человек. Спящий мир превратил их в статуи.
В классе четвертой не так уж темно, не очень холодно, и его нельзя назвать пустым, потому что на подоконнике сидит Лорд. Табаки подъезжает к подоконнику и дергает край свисающего с плеч Лорда одеяла.
– Эй, помоги мне. Я тоже хочу наверх…
Сверху свешивается рука.
ИНСТРУКЦИЯ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ КОЛЯСНИКА.
Пункт 29.
В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, уже находящегося в данной точке. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендация по тех. безопасности: вес напарника должен превышать вес поднимаемого.
«Блюм». № 18.«РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА».
В спальне Курильщик замечает, что они остались втроем. Он, Сфинкс и Слепой. Слепой подбирает на гитаре ни во что не переходящие вступления, Сфинкс сидит неподвижно. Надеясь, что они просидят так еще достаточно долго, Курильщик осторожно достает из-под подушки блокнот.
Молчание Лорда вызывает у Табаки все большие подозрения. Он представляет, что подоконник – это ветка дерева, на которой они сидят вдвоем, он и Лорд, чуть покачиваясь под порывами ветра. Придвинувшись к ссутулившейся на краю их общей ветки фигуре, сочувственно спрашивает:
– Рыдаем?
– Думаем, – отвечают ему.
– Еще хуже, – вздыхает Табаки. – Лучше бездумные рыдания, чем бесслезные раздумья. Уж я-то знаю.
– Демагог, – ворчит Лорд, не отводя взгляд от хрустальных узоров на стекле.
– Мудрец, – не соглашается Табаки, дергая себя за серьгу.
Сфинкс, откинувшись на подушку Табаки, пахнущую так, словно под ней забыли расплющенный бутерброд с колбасой, слушает бренчащего на гитаре Слепого – своего рода рассказ, потому что для каждого в стае у Слепого своя тема, для людей и для мест, иногда просто один обрывающийся аккорд, и если сложить эти обрывки, можно угадать… Горбача во дворе. Табаки и Лорда в классе. Македонского под душем…
Раздраженный беспорядочным звуковым фоном, Курильщик перестает рисовать и укоризненно смотрит на Слепого. Слепой резко бьет по струнам: Черный – и заключает тему многозначительной паузой.
– Что, опять ускакал в Наружность? – спрашивает Сфинкс.
– И довольно далеко, – отвечает Слепой.
Курильщик вертит головой, оглядывая их по очереди.
– Вы говорите о Черном? Он что, сбежал в Наружность? Навсегда?
ИНСТРУКЦИЯ О ВЫЖИВАНИИ КОЛЯСНИКА В БЫТУ.
Пункт 1.
Следует избегать любых упоминаний Наружности в разговорах, за исключением тем, где она упоминается вне связи с:
A) говорящим,
B) его собеседником,
C) кем-либо из общих знакомых.
Не приветствуются упоминания Наружности в настоящем и будущем времени. Упоминание в прошедшем времени позволительно, хотя опять же не рекомендуется. Упоминание Наружности в будущем времени в связи с собеседником является умышленным тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе расценивается как легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми-состайниками.
«Блюм» № 7.«РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА».
– Моя мать заберет меня! – кричит Лорд. – А мать Сфинкса заберет его. А твоя мать…
– Да нет у меня ничего такого, – бормочет Шакал, но Лорд его не слышит.
– И никто никого ни о чем не спросит! Ты знаешь сам! Но я не могу так больше! Не могу даже думать об этом!
Лорд встряхивает Табаки, закутанного в половину их общего пледа, и тот, клацнув зубами, вываливается из шерстяного кокона.
– Я не вещь! – голос Лорда падает до шепота. – Я больше не позволю этого. Я так решил. Что никогда больше не буду вещью.
Табаки держится за оконную ручку, чтобы не соскользнуть с подоконника. Лорд удивленно смотрит на него и, спохватившись, заворачивает обратно в плед.
– Извини. Я чуть тебя не уронил.
– В таких делах «чуть» решает все, – философски замечает Шакал, укрываясь с головой. – А вот известно ли тебе, как называются такие разговорчики или, вернее сказать, истеричные выкрики? Извращение. Ты извращенец, дружище. Можешь утешаться этим, пока мы не придумаем тебе какое-нибудь другое занятие.
– Небось запасается вдохновением, – мрачно предполагает Сфинкс, – чтобы потом всех кругом доводить. Ладно бы он только меня провоцировал…
– Не рассказывай, как вы с ним друг друга не любите, – перебивает его Слепой. – Об этом знают даже Фазаны.
«Нет, не знают, – думает Курильщик, рассеянно перелистывая блокнот. – Хотя это, наверное, просто такая присказка. Собственно Фазаны здесь вообще ни при чем». Его удивляет спокойствие, с каким Сфинкс и Слепой говорят о бегстве Черного. Должно быть, Черный делает это не впервые. Он представляет Черного в Наружности. Без денег, без друзей. Бредущего не пойми куда. Черного, который не поужинает сегодня в столовой, а может, вообще нигде не поужинает. Вернется ли он? Судя по тону Сфинкса, вернется.
– Тебе достаточно захотеть…
Слепой наигрывает что-то, что сбивает Курильщика с толку, потому что звучит очень знакомо, но он не может вспомнить, где он это слышал.
– Но я не хочу! – Сфинкс скидывает ноги с кровати и встает. – И никогда не захочу.
«Чего он не захочет? – думает Курильщик. – Чтобы Черный вернулся? И что значит – тебе достаточно захотеть? Слепой считает, что Сфинкс при желании запросто мог бы отыскать и вернуть Черного?»
Лорд издает непонятный звук. То ли смешок, то ли всхлип. Полумрак не дает Табаки различить выражение его лица. Он видит только, что Лорд повернулся к нему.
– В тебе нет ни капли страха, мудрец. Я слушаю… но его нет. Не как у других. Научи меня этому. Где ты берешь свою храбрость?
Табаки кажется, что он различает серо-голубой камешек, вставленный его рукой в глазницу нарисованного Лорда. Ему кажется, камешек даже немного светится, как будто его только что отмыли под проточной водой.
– Помоги мне, – просит его Лорд. – Прошу…
Камешков уже два, и, хотя толком ничего разглядеть невозможно, Табаки уверен, что они его гипнотизируют. Сумасшедшие. Голодные. Пугающие. Ему делается неуютно.
– Понимаешь, Курильщик, – говорит Сфинкс, глядя на Слепого. – Я считаю себя вправе говорить нашему дорогому вожаку нет, когда речь идет о Черном. И если ты спросишь меня, почему…
Курильщик ни о чем не спрашивает и не собирается спрашивать, прекрасно понимая, что Сфинкс обращается не к нему.
– Если ты спросишь, почему… Я отвечу, что однажды наш вожак сделал этот выбор за всех нас, а особенно за меня. Меня при этом не было. Меня вообще не было в Доме. Он вынудил меня жить в одной комнате с человеком, которого я не переношу, не спрашивая моего согласия. И я терплю его все эти годы, только потому, что мой вожак так пожелал. А теперь я, оказывается, еще должен его успокаивать, чтобы он, чуть что, не сбегал в Наружность проветриться. Тебе не кажется это несколько несправедливым, Курильщик?
Курильщик гадает, должен ли он изобразить согласие или сочувствие. О том же, вероятно, размышляют появившиеся во время обвинительной речи Сфинкса Горбач с Македонским. Один – посиневший от холода, второй – мокроволосый после душа.
Оба застыли в дверях, оценивая обстановку. Горбач незаметно стряхивает с волос растаявший снег.
– Так вот, – заключает Сфинкс. – По всем перечисленным причинам Черный меня не волнует. Пусть доскачет хоть до края земли и бежит дальше. Пусть не возвращается. Пусть делает все, что угодно. Это не мое дело.
– Пойду в душ, – говорит Горбач. – Надо согреться.
Македонский заботливо придерживает для него дверь, сначала с одной, потом с другой стороны, после чего, видимо, решает придержать и дверь душевой кабинки, потому что в спальню не возвращается. Курильщик отчаянно завидует обоим. Удобно быть ходячим. Почти всегда можно вовремя улизнуть.
– Кто, я? Почему я? Почему ты меня об этом просишь? Совсем сдурел? Есть Сфинкс, есть, в конце концов, Слепой… мало ли кто еще есть. Почему ты мне говоришь такое?
Лорд отворачивается.
– Извини, – говорит он сдавленно. – Сам не знаю, что на меня нашло. Но мне вдруг на секунду показалось, что ты… в общем, неважно. Забудь.
Наверное, он пытается изобразить улыбку.
– Я не лучше Курильщика, – бормочет он.
– Ты хуже, – хрюкает Табаки. – И намного. Ты – заразный псих, вот ты кто. Заразный влюбленный псих. Всему свое время, понимаешь? А ты лезешь, сам не зная куда. Не вовремя, неуместно, некорректно! И главное, что я теперь могу с этим поделать? Если ты уже полез. Показалось ему, видите ли… Езжай и приставай к своей девушке! Отведи душу, успокойся! Признайся ей в любви! А то мало ли что еще тебе вдруг померещится!
– Что? – изумленно спрашивает Лорд, ошеломленный его беспорядочным натиском. – Что мне может померещиться?
– А я знаю? – гневно взвизгивает Шакал. – Что угодно! Влюбленным вечно что-то мерещится!
– При чем здесь…
– При том! Очень даже при том. Будь ты в себе, ты бы ко мне полез? Кто-нибудь в своем уме вообще ко мне лезет? Нет. Только полные психи!
– Я к тебе не лез, – вспыхивает Лорд.
– Да? А кто тут стенает и просит помощи, может быть, мой дедушка?
– Я извинился за свое поведение, – холодно напоминает ему Лорд.
Табаки демонстративно тяжело вздыхает.
– То есть моя помощь тебе не нужна?
Лорд молчит. Табаки вглядывается в него изо всех сил и, пользуясь темнотой, нервно обгрызает ноготь. В другое время Лорд шлепнул бы его по руке. Но не сейчас.
– Нет, не скажет, – бормочет Табаки еле слышно. – Ни за что не скажет, не подтвердит, чертов псих. Интуиция у него, видите ли… Да ладно, что тут поделаешь. Я же не виноват…
– Неужели непонятно? – спрашивает Слепой. – Нам не нужен еще один Помпей. Пришлось держать его рядом. В любой другой стае он очень скоро стал бы вожаком. Ты это знаешь не хуже меня.
Сфинкс, удивленный, молчит. Впервые на его памяти Слепой дал какие-то объяснения своим поступкам. Но молчит он не только поэтому.
– И Волк? – спрашивает он наконец.
– Разумеется, – раздраженно отвечает Слепой. – Не делай вид, что для тебя это новость.
Выглядывающий из-за блокнота Курильщик видит, что для Сфинкса это новость. Да еще какая.
Лорд нагибается, рассматривая нечто, протянутое ему Шакалом. На ощупь – просто мятый клочок бумаги. Он щелкает зажигалкой и при свете ее пламени глядит на лежащую на ладони записку. Испещренную неразборчивыми каракулями.
– Что это? – тихо спрашивает он.
– Дерьма кусок, – фыркает Табаки. – Записка, не видишь, что ли? Напоминалка. Ясно?
– И что мне с ней делать?
– Понятия не имею, – радостно сообщает Шакал. – Ну, то есть немного имею, но совсем слегка. Думаю, ты должен дать мне это в самый чернушный день или в конце всех времен – в общем, когда поймешь, что дело совсем швах. А я то ли вспомню, что давал тебе ее, то ли нет. Как повезет. И все это нам то ли поможет, то ли наоборот. А ты думал, ты один здесь сумасшедший, да?
Лорд прячет клочок бумажки в нагрудный карман рубашки. Под скептическое сопение Шакала прислушивается к своим ощущениям.
– А знаешь, – говорит он удивленно. – Мне отчего-то стало легче.
– Оттого что ты веришь во всякую чушь, – хихикает Табаки. – Дай я тебе настоящую какашку, тебе бы и от нее полегчало.
Лорд отворачивается к окну.
Молочная от снега ночь уже не станет темнее. В ее перламутровом свете белые узоры инея на стекле приобретают неожиданную четкость, и Табаки начинает думать, что они с Лордом сидят, скорее, не на дереве, а под деревом. Под странным стеклянным деревом – две темные фигуры на фоне хрустальных ветвей.
Выражение лица, с каким Сфинкс смотрит на Слепого, расшифровать сложно. То ли отвращение, то ли восторг.
– Тебе было тринадцать, – говорит он. – И ты уже тогда вычислил, кто из нас способен перебежать тебе дорогу через полдесятка лет?
– При чем здесь возраст? – искренне изумляется Слепой. – Тут или знаешь, или нет.
Курильщик рисует профиль Сфинкса. Нос получается длиннее, чем нужно, и он превращает его в птичий клюв. Потом в хобот. Раздраженно заштриховывает, откладывает блокнот и включает приемник. Сменяющие друг друга радиостанции передают слащавые песенки и обещают обильный снегопад.
Курильщик думает об Аре Гуле. Повесили его фотографию в траурной рамке на классную стену или еще нет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.