Текст книги "Рудник. Сибирские хроники"
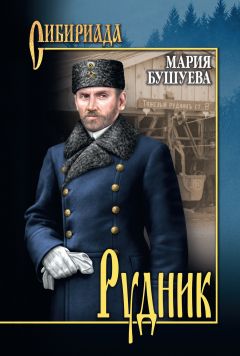
Автор книги: Мария Бушуева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Глава четвертая
Красноярск. 1913 год
Необъяснимые силовые зигзаги судьбы порой сталкивают, словно бильярдные шары, мало знакомых людей, и нередко именно такое столкновение меняет направление их судеб.
Ели бы не Юзек Романовский, познакомивший Андрея Крауса с Николаем Будариным, разве прозябал бы Андрей сейчас вместе с женой Эльзой в Красноярске, казавшемся ему гораздо менее интеллигентным городом по сравнению с его родным Иркутском. Да и дышалось в Иркутске как-то свободнее: ну не смогли бы законопослушные красноярцы выбрать городским головой бывшего политссыльного! А в Иркутске Болеслав Шостакович служил губернатором!
Впрочем, время культурного расцвета Иркутска было уже позади – новая Сибирь набирала силу, старые города уходили в тень, дряхлел Тобольск, Нерчинск весь казался жалкой раздробленной тенью роскошного дворца миллионера Михаила Бутина, железная дорога обогнула Колывань и Томск, остановив навсегда развитие первого и сильно накренив экономику второго. И хотя Красноярск, то богатевший во второй половине XIX века на золотодобыче, то кутивший и нищавший, мог раньше других сибирских городов похвастаться электрическим освещением особняка Гадалова, талантливой архитектурой, особенно зданиями, построенными по проектам Леонида Чернышева, хорошими гимназиями и даже своей особой интеллигенцией, щедро жертвовавшей средства из своих личных карманов на образование и культуру города, ну никак не лежала у Андрея к нему душа.
Впрочем, тяготил его не только сам город, но и груз, нелепо взваленный им когда-то на свою худую спину, – Эльза. Ели бы не склонность его души к жалости, он бы давно убежал от нелюбимой жены на край света. Но совершенно неприспособленная к практической жизни, ничего не умеющая, не читающая книг, зевающая от любого серьезного разговора Эльза, оставь он ее одну, без всяких сомнений погибла бы: ее изящная красота уже потеряла краски, выцвела, точно у сломанной куклы, навсегда заброшенной детьми в чулан, отвыкшие от танцев ноги оплыли и огрузнели, грудь обвисла – даже в самый дешевый кафешантан ее бы теперь не взяли… Дни напролет Эльза или сидела перед зеркалом (они квартировали в доме Шрихтеров), или раскладывала бесконечные пасьянсы. По-русски она говорила по-прежнему плохо, с матерью Андрея, Екатериной Егоровной, в их единственный за эти годы приезд в Иркутск скандалила по любому пустяку. В общем-то из-за Эльзы и пришлось вернуться в Красноярск.
Да, зигзаги судьбы причудливы. Какая невидимая, неведомая сила притягивает друг к другу людей, заставляя их, казалось бы совершенно случайно, встретиться еще раз?
Николаю Бударину, после четырех лет тюрьмы отправленному на поселение в Енисейскую губернию, вскоре разрешили в связи с болезнью проживать в Красноярске. К нему приехала из Санкт-Петербурга худенькая, чуть горбоносая девушка Муся Ярославцева, выпускница словесно-исторического отделения Высших женских Бестужевских курсов, где давали юным представительницам женского пола прекрасное образование: лучшие профессора читали лекции по истории древней и новой, по философии, литературе, логике, психологии и педагогике, открывали девушкам теорию познания, учили языкам. Муся владела французским и немецким, которые учила еще в Покровской петербургской гимназии (была она с одиннадцати лет сиротой), и дополнительно выучила английский. Даже подружку-американку завела, приехавшую в Петербург. Уезжая в Америку, та плакала, обнимая ее, и шептала: «Мери! Помни всю жизнь свою американку!»
Из славянских языков Муся на курсах выбрала польский. Зачем тебе польский, смеялась ее старшая сестра Наташа, тоже бестужевка, но предпочитавшая изучению филологии точные науки: физику и математику, – это же сплошные шипящие.
– Наш прапрадед был из Польши, – объясняла Муся, – мне рассказывала бабушка…
– Не из Польши, а из Белоруссии! И займись лучше политэкономией, глупышка!
– Ну тебя, – обижалась Муся, – тебе бы только твои интегралы!
– Как хорошо, что вы здесь, – говорила она сейчас Андрею, встретив его на аллее городского парка, и в ее зеленых глазах плясали рыжие искры радости, – мы с Николаем завтра венчаемся, несмотря на то что он законченный атеист, таков порядок! Венчание будет в самом Богородице-Рождественском соборе. От меня поручительницей моя сестра, Наталья, она преподает в гимназии математику, приехала сюда ради меня в каникулы из Пензы, а Николай никого в Красноярске не знает, вы не откажете стать поручителем от жениха?
Андрей не отказал. Только спросил: «Николай по-прежнему пишет свои рассказы? Или оставил это занятие?»
– Пишет. Мечтает наконец начать публиковать…
* * *
Он брел по Красноярску, дошел и до храма Рождества Богородицы: этот мощный собор в русско-византийском стиле понравился ему еще впервые увиденный на открытке в Иркутске, возможно, русские материнские корни так давали себя знать? Знаменитый архитектор Тон действительно расстарался: оригинальный получился храм, крестово-купольный, но с праздничными шатровыми завершениями. Вызвало досаду, что сейчас, недалеко от собора, весело крутилась большая карусель. Вот так всегда, подумалось, мирское, праздное торжествует.
Он не заметил, стоя с поднятой головой и следуя взглядом за кругами-нимбами летающих над куполом птиц, как к нему подковылял оборванец-старик. Тут же откуда-то уткой вынырнула старушка, забормотала: «Это, господин хороший, святой наш богомолец, Тимофей Силыч Локтев… Уж не пожалейте ему копеечку на хлебушек».
Какой-то очень добрый свет струился, точно из щелей ветхого дома, из морщин этого высокого старика, – нищий не вызвал жалости, наоборот, вдруг захотелось припасть к груди старика, прося защиты – в нем как бы пульсировала теплая сердцевина русского мира, половину которого удивившийся своему желанию Андрей носил в себе, но так и не мог полностью ее принять.
Он дал старику денег. Тот что-то очень тихо благодарно забормотал и, когда Андрей уже хотел идти, вдруг произнес громко и отчетливо: «Останутся от сего храма одни камешки…»
– Что? – переспросил Андрей.
– Да пепел!
– Его Господь наш даром пророчества наделил за святую жизнь, он кандальных жалел, сирот от их оставшихся спасал, все свое им раздал, один из энтих сирот нонча приисками владеет, все ему жить в его дворце предлагает, но Тимофей Силыч не идет, – выглянув из-за спины старика, пояснила старушка. – И про прошлое, и про то, что грядет, все, все знает. Порой страшное говорит. Мол, колокола энти будут в пыли валяться, а красноглазые черти станут глумиться над ими!
– Так будет, – закивал старик, – катят красноглазые черти на Рассею-матушку кровавое колесо.
Андрей торопливо сунул еще монет старушке в шершавую маленькую ладонь, и тут же неприятно кольнуло: не мы ли с Будариным красноглазые черти? Не отец ли мой?
Зайцем, петляя, побежал от собора.
* * *
Бударин, иссохший от болезни, еле держался на ногах во время венчания и, когда пришли в небольшой его дом на Песчаной улице, где он уже с полгода жил под надзором полиции, извинившись, прилег на кровать, а Наталья с Мусей засуетились, нарезая колбасу и сыр для бутербродов, ставя самовар. Андрей сел к столу, на стул, что стоял ближе к лежащему.
– Вы, мне кажется, очень устали от борьбы, Николай? – спросил он. – Или… или готовы продолжать?
– Готов продолжать. – Бударин приподнялся на локтях, подбежавшая Муся поправила ему подушку. – Мой первый революционный опыт – опыт Ростова и сейчас вдохновляет меня, я же сам с Тамани, а борьбу в Ростове начинал, там и первый арест, и чахотку получил там же, в тюрьме. Но представляете, Андрей, в революцию пятого года на Дону многотысячные были демонстрации! Поднялись все: железнодорожники, рабочие заводов, прогрессивные городские мещане! Смелость опьяняла народ, не боялись ни полиции, ни казаков, ни черносотенцев! Мой товарищ по борьбе Илья Вайсман повел толпу к тюрьме, и перед нашим казематом, где я тогда находился, собралось более десяти тысяч человек. Все потребовали выпустить на свободу политических заключенных – революционеров, в том числе и меня. И власть сдалась! Сдалась! Вот она – народная сила! Жаль Вайсмана – убили его через год… А потом Петербург, снова арест, Бутырская тюрьма… И вот я здесь. И недолго мне здесь быть, Андрей, я ведь знаю, что обречен.
Шумел самовар, заглушая его слова, но Муся тревожно глянула в сторону говоривших.
– Женился вот, чтобы не пропал мой труд – я ведь вроде как писатель, есть рассказы, очерки, есть и повесть у меня. Революционер – человек изначально обречённый, все поглощено в нем, как учил Нечаев, единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией. Хотя нечаевские крайности мне не близки… Публиковать рассказы пробовал – раза два отказали, а больше мне недосуг было этим заниматься. Но писать не бросил. И, конечно, нравится мне Мусенька давно, она ведь ко мне приезжала из Петербурга на тюремные свидания…
– Милая девушка.
– А вы не были в Тамани? Лермонтов назвал место паршивейшим городишком. А я люблю до сих пор.
– Не был.
– Брат мой, есаул, Юрий, порвал со мной связь, узнав про то, что я стал большевиком, даже на порог не пустил, старый отец проклял, так-то… А мне снится, снится Тамань, станицы, степной и морской воздух… Может быть, окажись я там сейчас, болезнь бы отступила. Таманская земля сама лечит. Там же грязевые вулканы, знаете?
– Признаться, первый раз слышу.
– И неудивительно: о них только местные жители знают. Такие небольшие сопки, иногда вдруг оживающие и плюющие целительной грязью. – Бударин тихо засмеялся. – От болезней костей и суставов эта грязь помогает, кожные высыпания лечит, а воздух вокруг такой, что легкие стали бы как новые… И вот сегодня перед венчанием снилось мне, что поднимаюсь я по круглой сопке, недалеко от станицы, где мой дед жил, есть такая, иногда тоже пробуждающаяся, и вот из ее вершины вверх вырывается не фонтан лечебной грязи, которой нас деды да бабушки мазали, а обманная, злая, медленно выползает черная змея прямо к моим ногам. Это смерть.
– Вы же большевик, Николай, а верите в сны, как гимназистка. – Краус сказал это в утешение. Он и сам видел: продлить Бударину жизнь может только чудо.
– Пьем чай! – подойдя к столу, воскликнула Наталья. И Андрей впервые посмотрел на нее внимательно: в отличие от тонкокостной зеленоглазой сестры в ней не было и капли аристократизма, портили фигуру широкие прямые плечи, а лицо – чуть скошенный подбородок, но вместе с тем лицо освещали умные карие глаза, и от всего ее облика не очень красивой курсистки исходила какая-то добрая, приятная сила. Андрею вспомнился Толстой, княжна Марья…
Посидев с полчаса, он простился и ушел.
Смотреть на Бударина было тягостно.
* * *
Возвращаться к Эльзе было не менее тягостно, но – по-другому: Бударин вызывал у Андрея сочувствие и горечь оттого, что ему никак нельзя помочь, Эльза же просто мешала, словно огромный, намертво привинченный к полу нелепый шкаф, перегородивший комнату, лишивший ее пространства и света из окон, шкаф, от которого было невозможно ни на минуту отвлечься.
Чтобы избавиться от горького впечатления, он забрел по дороге в книжную лавку Кузьмина, известного в крае протоиерея и издателя, публикующего в местных газетах весьма острые статьи.
Андрей никогда сюда не заходил, и сейчас был удивлен, что среди кузьминских брошюр о вреде пьянства и тоненьких книжек, излагающих жития святых, попадались, видимо, не противоречащие общему духу романы и стихи местных сибирских авторов. Помочь Бударину, издав его рассказы? Про Владимира Кузьмина, снискавшего своими проповедями славу златоуста, говорили, что он верой исцеляет безнадежных больных, но Бударин ни за что не пойдет в церковь, нечего и надеяться. Да и протоиерей вряд ли посочувствует революционеру… красноглазому черту! А на издание книги нужны деньги. Все, что оставил отец, почти что прожито.
В углу комнаты сидела на табурете служительница-монашка. Помещение лавки было маленьким, но в стене, противоположной входу, оказалась еще одна сливавшаяся со стеной блеклая дверь, которую бы не заметил Андрей, если бы из нее не вышла девушка или девочка-подросток, но уже с высоко стоящей грудью; высвеченные беглым лучом пушистые темно-русые волосы, укрупняющие голову, и короткий, чуть, пожалуй широковатый нос придавали ее лицу что-то львиное, гордое, а когда Андрей увидел ее глаза – огромные, серо-синие, какое-то мучительное ощущение-воспоминание всколыхнулось в нем, не обретая ни четких очертаний, ни выразивших бы его слов.
Девочка улыбнулась монахине, и ее зубы, идеально белые, ровные, словно прочертили в воздухе комнаты мгновенную короткую полоску, тут же исчезнувшую.
– Вы можете пойти, Аграфена, – сказала девочка, – дядя Володя разрешил мне вас заменить…
Глава пятая
Сосланный на житье
Курт все больше времени проводил в лазарете Петровского завода, сообщая тюремному офицеру Потапову, с которым у ссыльных благодаря Романовскому установился тайный контакт, то об одном, то о другом своем недомогании. Викентий видел: недомогание у его друга только одно – влюбленность в лекареву дочь Полину.
– Вот так и предают друзей, – полушутя-полусерьезно говорил он, – ради девичьего сердца!
– Я не предал нашу дружбу, Викот!
– Как же! Я томлюсь в одиночестве, а тебе совершенно это безразлично.
– Не будь как девушка, Викот!
Викентий несколько раз видел Полину: розовощекая пышная блондинка, она всем своим улыбчивым обликом противоречила тому мрачному клочку земли, по которому весело ступали ее крепкие ноги. Лекарь со смешной фамилией Оглушко вел свой род по отцу от ссыльного поляка, а по матери – с Украины; оба его предка были замешаны в бунтах: прадед по отцу попал в Сибирь как конфедерат, а предок по матери был не последним в бунте гетмана Многогрешного. Это рассказала мнимому больному изнывавшая в заводе от скуки Полина – отведя утром уроки по чтению и письму с детьми кандальных, она проводила у постели Курта почти целый день и потчевала его не только домашними пирожками, не достававшимися, конечно, другим каторжанам, но и занимательными сибирскими историями: девушка оказалась выпускницей Иркутского девичьего института и любительницей чтения, к которому пристрастилась коротая вечера на съемной квартире в Иркутстке. Ее мать умерла, когда Полине было всего два года, и, получив образование, девушка решила повсюду следовать за лекарем-отцом. Она явно гордилась своим «благородным воспитанием» и тем, что среди воспитанниц Девичьего института были девушки из «самых прогрессивных семей», учились в нем дочери и внучки декабристов: Лиза и Зинаида Трубецкие, учились Бестужевы, а окончившая институт дочь Владимира Раевского Софья, – он остался в Сибири, помогала институту до сих пор…
– Ты не можешь даже представлять, Викот, – рассказывал в очередной раз, вернувшись из лазарета, Курт, – какой метаморфоз случается с людьми в Сибири! – Он все чаще теперь говорил с другом по-русски. – Помните о гетмане Запорожского войска Демьяне Многорешном? Не очень? Это есть наш предшественник, подающий нам руку из XVII века! Я был историк, изучал Украину. Гетман добился от русского царя полной автономии, то есть имел место выдающийся дипломатический ум. И что? Оговорили его, обвинили в связях с Турцией, что означало есть заговор против России, схватили, приговорили к смертной казни, но заменили ее на ссылку в Сибирь. На всю жизнь, Викот!
…Куда сослали? В Иркутск! Это есть прообраз – наша судьба. Но я хочу говорить не о нем, а о его брате – полковнике Василии Многогрешном. Василия сослали вместе с гетманом и поместили в тюрьму в Енисейской губернии. И вскоре на сибирский город Красноярск, он был раньше острог, нападают сибирские инородцы, их называют кыркысы. Русские с ними справиться не могут. И что они делают? Они выпускают из тюрьмы Василия Многогрешного и ставят его командиром – он разбивает кыргысов и спасает Красноярск… Город основал тоже сосланный литвин Дубенский. Литвин мог быть и немец. – Курт улыбнулся торжествующе, и отмороженный кончик его длинного носа покраснел. – И теперь – самое важное. Полковник Василий Многогрешный после победы стал православный священник! Мать Полины была дочь священника, его внучка! А еще у нее есть в роду князь кыргысов. Вот что такое Сибирь. Здесь есть зарождение нового русского мира. Россия – окраинная Европа, а Сибирь – не Азия, Сибирь – Европа – Азия, новый континент, Викот!
– Для меня страшный край…
…страшный край.
Но внезапно свидания Курта с Полиной закончились: на Потапова донес плюгавый мужичонка из уголовных; офицера, обвиненного в административных нарушениях, запрещенной связи с каторжанами Романовским и Куртом Вагеном и послаблении им, в срочном порядке отправили в Иркутск на дознание.
Былая оптимистичность Курта слетела с него, словно утренняя дымка с вершин холмов. Он стал хмур. Жалел Потапова.
– Отправят его в солдаты!
– В лучшем случае.
– И представь, Викот, в лазарет опять лег Романовский! Он и правда болен.
– Теперь Полина улыбается ему, – пошутил Краус и тут же пожалел об этом: Курт побледнел и, сузив глаза и губы, прошептал: «Если бы не каторга, я бы вызвал вас на дуэль, Краус! Полина не может улыбаться Романовскому!»
* * *
В стволе дружбы завелся крохотный жучок-древоточец и помог Викентию легче отнестись к разлуке с Куртом: на основании Высочайшего повеления императора Александра II от 16 апреля 1866 года он был уволен от каторжных работ и 28 июня 1866 года приписан на поселение в Идинскую волость, а на основании Высочайшего повеления от 25 мая 1868 года стал считаться в разряде сосланных на житье.
Дом, который ему выделили в селе Шанамово, был маленьким, в одну комнату, но дали помощницу – немолодую крещеную бурятку Лукерью, сразу же сообщившую, что дочь бедняка-соседа, что недавно помер, стала знатная жена, живет с дворянским мужем и детьми богато в Олонках, детей много, все сильно грамотные, это отсюдова далече, сосед и не жил с дочерью-то, может, она и не его, там Ангара-красавица, а вот она, Лукерья, счастья не видит, вынуждена в прислугах у преступника быть…
– А здесь что за река? – спросил он.
– Эка.
Отправив Лукерью, он пошел побродить по селу, в котором почудилось ему что-то обреченное. Впрочем, это мое настроение набрасывает на действительность сети, подумалось грустно. Почти одинаковые дома ближней к реке улицы выстроились в один ряд, точно конвоиры. Дворянский муж дочери соседа Лукерьи – не Раевский ли, первый из декабристов, еще до восстания сосланный в Сибирь? О нем много рассказывал знаток русской истории Ваген. Как сейчас Курт? Где? Ведь теперь можно и встретиться!
И Краус вдруг ощутил, что почти свободен.
Берег был пологий, кое-где черневший землей, он зеленел неровно, точно был сшит из лоскутов, как казенное покрывало на кровати в доме. Рыба, сверкнув в пене, тут же скрылась под легкой волной. Вспомнилась Припять, ее веселый кудрявый берег, подпрыгивающий на быстрой волне цветочный венок…
И вдруг ему показалось, что он почти дома. Кандалы, жуткая тюрьма, горечь поражения, позор, стыд, унижение, боль – все отступило, черные тени прошлого еще маячили вдалеке, но становились все меньше, все прозрачнее, все прозрачнее… И долгожданное их исчезновение принесло чувство облегчения такой силы, что тут же преобразило, наделив летними красками и пением птиц, весь мир вокруг и, чужое полубурятское село на берегу незнакомой реки приблизив к душе, породнило с общечеловеческим небом над ним.
Возле каждого дома белоснежно цвела, окутывая душистом ароматом, сибирская черемуха, от реки к селу тянулся праздничный цветочный луг.
И вечером, наливая в кружку горячий чай, он принял как дар судьбы кривоватый пирог с капустой, принесенный Лукерьей, потому что в самом простом, безыскусном открылась вдруг ему улыбка бытия, его тихий ответ на все его страдания: жизнь – это дар. Живи.
И он понял, что только сейчас, здесь все-таки выбрал жизнь, а не смерть.
* * *
…Вскоре приехал в Шанамово Курт. Поездки друг к другу ссыльных не сильно приветствовались губернским начальством, но всегда можно было договориться с урядником, сунув ему часть своего крохотного пособия. Тем, кого не лишили сословных привилегий, платили по пятнадцать копеек в день, это было уже что-то, но Викентий пока получал всего шесть, причем три из них отдавал Лукерье за ее помощь по хозяйству.
Не виделись они с Куртом более двух лет. Его нос, казалось, стал еще длиннее, а шея вытянулась, точно у цапли. Австрийские подданные, участники Январского восстания, по ходатайству Австрии попали под амнистию, и вскоре Ваген должен был возвращаться на родину. Ждал только Высочайшего повеления.
– Мы с тобой были в стороне от строящейся железной дороги, я еще находился в Петровском заводе, ты уже на поселении, но именно весть о восстании наших с тобой друзей на Кругобайкальской дороге достигла Австрии, и она озаботилась ссыльными австрийскими подданными. Не увези тебя отец из Галиции ребенком, ехали бы сейчас вместе… Правда, не знаю, задержусь ли я в Галиции, скорее всего, перееду обратно в мою обожаемую Варшаву.
– Что теперь жалеть о прошлом?
– Я ни о чем не жалею Викот. И, поверни время вспять, не изменил бы ни одного дня в своей жизни. Кандалы сделали меня гражданином. И самое главное: здесь, в Сибири, я встретил свою единственную любовь! Я обручен! Я люблю Полину больше жизни! Как только я устроюсь, она приедет ко мне, пока мы еще не женаты, отец ее вдруг потребовал, чтобы ради женитьбы я, лютеранин, принял православие, но семью придется содержать, а быть православным в Варшаве – значит не получить хорошего места.
– А какой род занятий ты собираешься избрать?
– Профессорский. – Курт улыбнулся, и кончик его носа покраснел. – Напишу диссертацию по русской истории. А может быть, и книгу о великом Пушкине и декабристах. Сибирь сделала меня настоящим историком.
– Будешь преподавать? Рассказывать юным полякам о России?
– Нам с тобой есть о чем порассказать, Викот. Например, ты, наверное, не знаешь, что здесь же, в Идинской волости, в Олонках, до сих пор живет Владимир Раевский? Удивительный человек! Дворянин, на крестьянке женился, торговцем стал, бесплатную школу для крестьянских детей организовал… Все-таки у многих русских есть какое-то врожденное бескорыстие… Знаешь, как писали буряты в прошлом веке: «Русские цари чистые бодхисатвы, разумно святые и премилосердные существа, а русский народ, при ангельской доброте его сердца, так богат, что лошадей своих привязывает к серебряным коновязям».
– Амнистия растопила тебе сердце? И ты теперь сторонник монархического правления?
– Нет, – нахмурился Курт, – я не изменил своим убеждениям и не раскаялся. А после расстрела четырех наших братьев, возглавивших кругобайкальский мятеж, не мог возлюбить Российскую монархию. На что восставшие надеялись? Наивные герои! Я за парламент. А Раевского хвалю, потому что сравниваю его с Романовским, помнишь оного?
– Еще бы.
– Этот плут, выйдя на житье, причем почему-то раньше тебя на полгода, тоже стал учить детей местного населения грамоте. Но далеко не бесплатно, взимает плату за обучение от пятидесяти копеек до одного рубля в месяц. Как ты понимаешь, беднейшие так и останутся безграмотными. Вот и все его революционные идеалы. И представь, второй год имеющий практику в Иркутске отец Полины, к нему Романовский периодически наведывается, его не осуждает, называет просветителем!
Можно верить, а можно не верить в предчувствия, но, когда они перед расставанием обнялись, сквозь сердце Викентия просквозил тоскливый щемящий звук. И, точно эхо, отозвался Курт:
– Неужели не увидимся больше?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































