Текст книги "Рудник. Сибирские хроники"
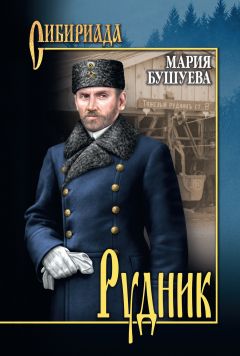
Автор книги: Мария Бушуева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Глава семнадцатая
Красноярск
Покойный Бударин был Андрею уже неприятен тем, что постоянно откликался на его жизнь, более того, порой и управлял ею, заставляя кричать несчастную Эльзу или предугадывая события, – через свои рассказы он словно показывал ему, молодому и здоровому, тщету живых и власть над ними небытия. И сейчас, листая тетради Бударина, Андрей искал рассказ, который бы ни в чем не мог совпасть с повседневным ходом событий, чтобы, прочитав его и не обнаружив совпадений, скинуть этот неприятный мистический полог со своего сознания, опровергнув собственные же мысли о власти смерти над жизнью. Хватит попадать мухой в расставленную сочинителем паутину.
Рассказ в тетради без обложки показался подходящим: действие происходило на прииске, куда Андрей, не прояви полковник Говоров сочувствие к юному арестанту, всего лишь жертве неправильного знакомства, мог, конечно, попасть, но не попал – и потому все в бударинском рассказе было ему чужим.
«Возьмите! Уберите его! – Управляющий затопал ногами, но ни один человек не сдвинулся с места.
Ишь ты, птица в колеснице, надел на фуражку две балдушки с плевком и думает, что умнее всех. Ты родись умным, тогда и кобенься (…). Хмыкий отошел в сторону и сел на дровах. Управляющий уже не смотрел в его сторону, а обращался к Егору Солотенкову и Лапкину. Он долго убеждал их, что по новой таксе продукты будут дешевле, что грунт дальше податливее, камня нет (…), но рабочие твердо стояли на своем.
– Ну ладно, – махнул рукой управляющий, – пусть будет по-вашему, только чтобы этого не было, – он указал рукой на Хмыкина, – это мое условие.
И все застыли. Легкий трепет побежал по толпе, будто все легонько качнулись. Но никто не решился повернуть голову в сторону Хныкина, а он сидел одинокий, злой и насмешливый.
– Сегодня же подсчитать Хмыкина, – распорядился управляющий, – а завтра открыть работы, довольно побезобразничали. И (…) рассчитанных не держать.
– Не страшно, барин, не испугаемся! – крикнул Хныкин, не вставая. – Одну бабу волком пугали, а она медведя видела!
Но управляющий ничего не ответил, а, повернувшись (…), ушел в квартиру.
– Чтобы вас паралич разбил (…). Скорпионы! Ну че стоять, ребяты? Продали, и довольно. Больше не дадут. Дотяхали (?) до ряжки, дальше раскрывай двери и ворота, выноси пожитки жигана Хмыкина.
– Слава Тебе Господи, кончилось, – набожно перекрестился Лапкин.
– Надо остепениться, всему есть мера, – деловито заметил Егор Солотенков, – да и задираться тоже нечего, а то как раз задерешься.
Напрягая весь свой ум, все свои чувства, чтобы связать происшедшее в узел (?) понятного, Кузька натыкался на жуткие противоречия, пугающие своей внезапностью. Перед ним сразу вырастала молчаливая стена, за которой слышались малопонятные слова управляющего, Хмыкина, Солотенкова и других».
Эльза спокойно спала. Все описанное, видимо, было так далеко от Андрея и от нее, что не способно было проникнуть в сон. Начала рассказа почему-то не было, но сюжет он уловил: все выстраивалось вокруг рабочего Хмыкина, поднявшего бучу против начальства ради надбавки сорок копеек. Надбавку дали, но Хмыкина выгнали, и Кузька, сын другого шурфовщика, остро переживал несправедливость произошедшего.
«– Шибко хорошо сорок копеек. Работать можно. Который хорошо, который плохо, а все одно выйдет.
– Что хорошо? – как будто со сна спросил Кузька.
– Шурф, шурф, я говорю, который худо, так худо и есть, который хорошо, хорошо есть.
– А Хмыкину хорошо?
…
В набежавших сумерках чернела неподвижная фигура Хмыкина, а в углу, корчась от тоски, перебрасывая голову по неровностям брошенной в кучу одежды, шевелилась комочком фигурка Кузьки. Моргая припухшими веками, он смотрел на (…) шурфовщиков, ловил слова, и они для него отрывались от людей и становились маленькими самостоятельными существами, неизвестно для чего снующими под низким потолком казармы.
Лапкин принес спирт. Зажгли огни.
…
Хмыкин пил много (…), искрящиеся глаза его пылали жаром. Он вставал, кричал громко, заглушая голоса рабочих, и стучал об стол кулаком.
– Хмыкин не выдаст! Жиганом был, жиганом подохну! – Схватив пустую бутылку, он швырнул ее в угол, и звенящим веером рассыпались стеклянные брызги.
– Слушайте! Слушайте все! – становясь на стол, крикнул Хмыкин. – Не первый год работаю я, всем известно. Попили с меня крови довольно, попили, как со всякого рабочего человека пьют. А почему? Молчишь, а они как мошкара на рыбешку. (…) Все ихнее, все ним принадлежит. Золота добыл для них дай Бог умному, а в благодарность по шее жигана Хмыкина, по шее его, а у него рубахи нет, пимы развалились. И все мы такие. Ночь родила нас и нужда. Нужда была нашей матерью. Мы добываем, а получают другие. Так я говорю? Завтра я ухожу и хочу сказать на прощанье вам, что нужно кусаться, зубами, по-вольчьи – отнимать свое. Хвостобаев и хозяйских прихвостней бить, не жалея бить. Правильно я понимаю?
– Верно! Правильно! Ура! Качать, ребята!
…
На следующий день очень поздно возобновились работы на шурфах, очень поздно ползли сизые клубы дыма по влажным холмикам набросанной породы, очень поздно поднимались они вверх между оголенными ветвями, превращаясь в неподвижный облачный столб с золотыми колеблющимися краями…»
* * *
А ведь мог Бударин стать известным писателем, не заработай он в тюрьмах чахотку и не умри так рано… Но пропустила бы его рассказы цензура, еще вопрос. Усмотрели бы призыв к свержению власти, отправили их в корзину для мусора или, в лучшем случае, как доказательство неблагонадежности автора в папку Особого отделения, хорошо, что он успел жениться на Мусе Ярославцевой, теперь его труд не исчезнет… Но что мне делать с его сочинениями?
Проснулась Эльза, тут же потребовала еды, он принес ей в постель завтрак: тарелку с перловой кашей она сбросила на пол, но молоко выпила и сжевала бутерброд с сыром. У Андрея уже не осталось надежд на то, что она встанет. Каждый раз, когда они с доктором Паскевичем пытались ее поднять, она начинала проклинать Андрея, рыдать и кричать, что будет умирать.
Сегодня вечер у него был свободен: в кинематографе почему-то отменили на три дня показ фильмов, поэтому тапер не требовался, и можно было сходить к доктору, чтобы поговорить с Паскевичем о судьбе Эльзы откровенно, не рискуя, что она услышит.
Подходя к Думскому переулку, где Паскевич жил, Андрей встретил композитора и преподавателя музыки Иванова-Радова, с которым был мимолетно знаком, еще будучи студентом консерватории.
– Как вы? Слышал, супруга больна и вы бедствуете? Где вы сейчас?
Услышав, что Краус вынужден подрабатывать тапером, Иванов-Радов возмутился:
– Что же вы с собой делаете, Андрей Викентьевич! Вы же талант, а портите руки на плохом инструменте! Я вот пишу сейчас детскую оперу, приходите ко мне домой, послушаете, что выходит. И поговорим о вашей работе, может быть, я найду вам ученика. Нельзя зарывать свой талант в землю!
– У меня руки болят, Павел Гаврилович, ревматизм, – пожаловался Андрей, – я ведь не только тапер, но и прачка. Мой отец, ссыльный повстанец, был управляющим у миллионщика Бутина и получал почти три тысячи рублей в год, а потом и более, а мне, музыканту, денег на прислугу не хватает, плачу за квартиру и все время боюсь, что из-за болезни жены хозяйка может попросить нас съехать. И тогда я буду просто в отчаянии!
– Вам нельзя, нельзя так обращаться с руками!
– Иду сейчас к нашему общему с вами знакомому доктору Паскевичу насчет жены, может быть, он посоветует мазь и мне от ревматизма суставов.
– Господи, вы ничего еще не слышали! Не знаете ужасную весть! Паскевич убит вчера на окраине Красноярска: поздно возвращался от рабочего, лечил бесплатно его жену от послеродовой инфекции…
– Какой ужас! За что?!
– За белый воротничок, Андрей Викентьевич.
– За воротничок?
– За барина приняли, а барин для них – кровопийца. Теперь их и лечить-то некому: кто еще обладает таким бескорыстием и благородством?
* * *
Через три дня поле гибели Паскевича умерла Эльза. Приехавший на освидетельствование старик-врач написал, что смерть наступила от остановки сердца.
– Вследствие чего? – спросил Краус
– Вследствие естественной изношенности организма по причине глубокой старости, по виду покойной не менее восьмидесяти лет, а то и все девяносто.
Старик-доктор был почти слеп.
Глава восемнадцатая
Иркутск
Но в Нерчинск возвращаться не пришлось: неожиданно в Иркутск приехал сам Бутин с новой идеей: построить здесь солеваренный завод. Больно дорого продают соль купцы из Усолья-Сибирского, да и качество их оставляет желать лучшего, объяснил он Краусу. Уроки продолжим, а в придачу я попытаю вас на предмет ваших деловых качеств, подсказывает мне мое чутье, что они у вас незаурядные. Чем вы хуже поляка Савичевского? Его мыловаренный завод неплохо работает, а он сам еще и кедровым орехом торгует. Я ведь тоже начинал, не будучи уверен, получится ли из меня нынешний Бутин: в пятнадцать лет нанялся приказчиком к нерчинскому купцу Хрисанфу Кандинскому, про него всякое говаривали, мол, и кистенем на тракте не брезговал, когда сколачивал свой капитал, но я молве не верил и сейчас не верю: болтали от зависти. Он по-доброму ко мне относился и, когда разорился, продал мне очень дешево свой магазин в Нерчинске. С него и пошла моя деловая история. Вообще, Викентий Николаевч, именно зависть людская – самая страшная темная сила мира, завидуют всему: и что у человека талант, и что у другого кошелек толст, что дом велик или жена красавица, и доброте ее тоже; завидуют России, что владеет она необъятными землями, вот бы, мол, страну расколоть, как орех, и прихватить территории… Моя первая жена Софья, ангел и по характеру и по наружности, была сильно чувствительной: я, признаться, люблю роскошью людей поразить, больше уважают, и знаю, мой палаццо – это мне памятник, мое нерчинское бессмертие, а она от зависти людской страдала, косо на нее кто посмотрит, заболеть могла. И вот умерла молодой, так Серафима, моя домоправительница, уверена: навели завистливые черные люди на жену мою и на двух наших детишек порчу: скончались младенцами они, следом и Софья. Суеверие? Кто его знает… Человек – существо ведь не только телесное, но в первую очередь – душевное. Душа страдать начнет – тело болью откликнется. Порой только молитва и помогает… Ну, будет о грустном… Завтра жду вас утром в конторе: попробую ваши силы совсем в другом деле. А вечерами продолжим учить немецкий, я уже начал читать самого Гете!
Бутин не в первый раз ставил ему в пример не только успешно торгующего Савичевского, но и другого поляка – Подлевского, заготовителя и поставщика зерна в Алтайское горное управление, и Капинских с их фабрикой сыров: он знал досконально всю сибирскую торговлю.
– Но я птица ранняя, работу сам начинаю не позже шести утра, а общую – с восьми. Ваш соотечественник, пан Сокольский, вечно опаздывал: десять, одиннадцать, а его нет. Хоть и человек он толковый, но самолюбия пораженческого не преодолел и Россию по-прежнему не любит – все над нами, русскими, желает возвыситься: своими опозданиями он как бы мне показывал – вы мне не хозяин, я гордый свободный шляхтич. Теперь он, мне сказали, стал гравером, если захочет граверную мастерскую открыть и придет ко мне просить денег, помогу. Решение, позволившее бы полякам вернуться на родину, затягивают, потому, видимо, придется ему пожить еще какое-то время в Иркутске. Я зла не таю, и не оттого, что слишком добр, а из-за понимания людской сути. Ну разве мне не понятна обида за поражение в восстании и за то, что Царство Польское под русской пятой? А коли видишь живые корни, то и безлиственную крону за метлу не примешь.
* * *
– Нет, Викентий Николаевич, почты не было, – сказал Юсиц, когда Краус вернулся от Бутина. – И Касаткин, и Штейнман тоже во внимании. – Вы бы запрос отправили на тот адресок, с которого почту ждете, а то всякое бывает. Вот я как-то заказал в Москве сукна, да много заказал, жду, жду, не везут, оказалось, на подводу напали, товар украли… Я два года судился, чтобы мне возместили убытки.
– Вы же рассказывали не про сукно, Исаак Самойлович, а про вино и английский чай, – это спустился со второго этажа услышавший разговор коллежский асессор Касаткин.
– Так вы меня не путайте своим недоверием, Иван Селиванович, чай совсем другая история, заказал его через чаеторговца Старостина, и опять неприятность: подводы были плохо закрыты, попали под сильнейший ливень, чай размок, привезли мне не чай, а кашу, пришлось судиться. Здоровье потерял, чемодан денег на взятки извел, но убытки за все потери мне оплатили – купил дом и теперь вам, господа, сдаю комнаты.
– Предприимчивый вы, однако, человек, Исаак Самойлович, – удивился Касаткин, – я вот как бывший чиновник департамента могу засвидетельствовать: в России что упало с воза, то пропало, а чтобы деньги за все свои потери получить – то надо суметь! Нашим бы лентяям поучиться у вас, а то лишь взятки горазды брать.
Краус поднялся к себе, попросив у Юсица горячего чаю. Надо было что-то написать Анне: он не пришел вчера вечером к Девичьему институту и на ее письмо не ответил: Анна, наверное, решила, что он поспешно уехал в Нерчинск и напишет ей оттуда. Или… Или просто прийти к ним вечером и, выйдя из дома с ней вместе, попытаться объясниться? Сказать, что она, конечно, очень нравится ему, но его исстрадавшееся сердце, нет, так слишком красиво, его измученное жизненными испытаниями сердце уже не способно открыться чувству, и потому он избрал для себя одиночество и не имеет морального права это скрывать от девушки… Поймет?
* * *
И опять подумалось: такие тихие небольшие каменные дома переживают своих хозяев, обращая в тени жильцов, но сберегая их застывшее время…
Как мне недостает тебя, Курт.
Сейчас окна не показались ему приветливыми, а одно, самое крайнее, возможно, как раз окно комнаты Анны, было вообще закрыто ставнями. И ступени скрипнули нерадостно.
Оказалось – как раз вчера внезапно заболел Егор Алфеевич. Потемневшая лицом Елизавета Федоровна вышла к гостю на минутку, извинилась, что не может уделить ему время – ухаживает за мужем. Горничную отправили за лекарствами, прописанными доктором Оглушко, Анна в институте.
– Но дома младшая, Катенька, она сейчас накроет сама на стол и составит вам компанию.
Присев на обитый плотным китайским шелком синий диван, он стал пристально смотреть на портрет Кати, разглядывая черты лица, листья березы и окаменевшие волны платья, и, когда она вышла в гостиную, у него мгновенно возникла иллюзия, что, если перевести взгляд на портрет, девушки возле березы сейчас не окажется.
Несмотря на сильное сходство с сестрой, Катя была совсем другой, это угадывалось сразу: невозможно было представить ее с папиросой или рассуждающей на темы женских свобод. Застенчивая, даже робкая, с коричневыми мягкими беличьими глазами, она бы, конечно, не могла написать первой письмо мужчине с признанием в любви. Таила бы чувство в душе и тихо страдала. Вспомнив Татьяну Ларину, которую упомянула в своей записке Анна, он спросил Катю о том, кто из писателей ей нравится. Имени Каролины Павловой, которую она назвала первой, он не слышал.
– Мне ее стихи принесла Анна, они очень грустные, Каролина Павлова любила поэта Адама Мицкевича, они даже были помолвлены, но он уехал в Польшу и забыл ее.
Он заметил, что бледные щеки Кати порозовели.
– А мой друг писал о Пушкине. – И он стал рассказывать ей о Курте. Он читал его стихи, цитировал строки из его писем и, по ее просьбе, описал его наружность: – Похож на высокую цаплю, длинная худая шея, и нос длинный, а глаза умные-умные…
– Как я хотела бы его увидеть! – воскликнула она. – Цапля такая удивительная птица!
Вышли они из дома вместе, Катя решила немного прогуляться, как она объяснила, чтобы отвлечься от болезни отца и от своих дурных предчувствий. Как-то незаметно для себя они оказались в парке возле Девичьего института. Вдоль длинной аллеи синели васильки, на площадке невдалеке молодая девичья компания играла в крокет. Он заметил: среди них была Анна.
– Смотрите, среди них Анна, – сказала Катя. – Она увидела нас.
– Нет, она не увидела нас, – сказал он. – По-моему, не стоит отвлекать ее от игры. Свернем на другую аллею.
* * *
«Я заметила, Викентий Николаевич, как вы свернули на другую аллею, и поняла: вы не хотели, чтобы я увидела вас прогуливающимся с моей сестрой. Но ведь я все равно бы узнала о вашем визите и вашей прогулке, зачем же было так поступать? Впрочем, Катерина мне объяснила, что это не вы пригласили ее совершить promenadе, она сама решила пройтись, чтобы отвлечься от болезни нашего papa. Ему хуже. Оглушко был сегодня утром, ничего обнадеживающего сказать нам не смог и призвал нас быть готовыми к самому худшему. Викентий Николаевич, вы знаете (если не забыли), что я учительница в своем любимом Девичьем институте, куда принимают только незамужних женщин. То есть, если я выйду замуж, то обязана буду сразу покинуть институт и потеряю то место, какого мне в Иркутске более не найти. По своим убеждениям я не могу быть содержанкой даже супруга, поэтому, если Оглушко, к несчастью, прав, значит, Богу будет угодно, чтобы я никогда не выходила замуж, посвятив свою жизнь стареющей матери и воспитанию своих учениц. Прошу: сожгите мое предыдущее письмо. Вы не ответили на него сразу, и я не так глупа, чтобы не понять смысл вашего молчания. Za naszą i waszą wolność! Анна».
Монотонно стучал о крышу дождь. Внизу о чем-то громко спорили Юсиц и Касаткин. Зашел Штейнман, стал жаловаться на одиночество, вам письма приносят, говорил он грустно, а мне никто не пишет, печать одиночества на мне родовая: бабка моя была некрасива и, что гораздо хуже, бедна, обрусевшая немка из дворян, она вышла замуж за немолодого крещенного в православие богатого еврея, получившего вскоре дворянство по Табели о рангах, ее родня от них отвернулась, родовое местечко посчитало моего деда чужим, сын их, мой отец, сразу после моего рождения бросил мою мать, она была из старинной русской купеческой семьи, и – вскоре умер, она вторично вышла замуж – теперь за военного, который меня сразу возненавидел и заставил мать отправить меня, трехлетнего, на воспитание деду… Самое неприятное, что я не люблю ни Белоруссию, ни Польшу, ни Россию, ни Германию, где побывал в юности: ребенок, не знавший матери, не знает чувства материнской любви, вот и я – везде чужой. Ни в каком восстании я участия не принимал: нашел на лестнице дома листок с призывом к свержению власти и забыл его выбросить, а снимал квартиру у повстанца, о чем и не догадывался. Внезапно – обыск. Его казнили, меня выслали. Нелепая ошибка, и вся молодость прахом… Как-то вечером прошлой зимой я лежал и думал, что же держит меня в жизни и не дает наложить на себя руки, и знаете, что удумал? Меня держат музыка, которая для меня истинное счастье, я ведь ни одного концерта не пропускаю, и деньги. И не то чтобы я был до них жаден, вовсе нет, я даже не скуп, деньги для меня как выигрыш в игре, как подарок, помните, если в детстве подарок очень нравился, с ним не хотелось расстаться ни на минутку. Вот и мне сильно нравится их считать, многократно пересчитывать, складывать вместе по их достоинству, сравнивая, какая пачечка получается больше. И как представлю, что они лежат на столе, а меня нет, и чьи-то чужие руки их берут, сразу все мысли о смерти улетучиваются. Начал даже изучать науку об экономии и замыслил открыть свой банк. Вам первому в этом признаюсь. Лучшего места, чем Иркутск, для нового банка нет. Здесь и Китай недалеко, и богатые буряты, предки которых были тайши, и золотодобыча. Как Бутин, вряд ли разбогатею, но кто знает.
Краус вспомнил: ему завтра к восьми утра нужно поспеть в бутинскую контору.
– Писать-то мне частных писем никто не пишет, а наследство-то недавно я получил, будучи единственным внуком своего деда, прожившего почти сто лет, и могу теперь начать свое дело. Но мне бы хотелось избавиться от одиночества посредством женитьбы. Сам я знакомиться не умею, считая наружность свою невыигрышной, но слышал от Касаткина, что вы бываете у чиновника Зверева Егора Алфеевича, имеющего двух красивых дочерей, я их вижу порой на концертах в дворянском собрании. Если бы вы меня ввели к ним в дом, был бы вам признателен.
– Я бы с удовольствием, но Егор Алфеевич при смерти, увы. Им пока не до знакомств.
– Дай Бог выживет… А я умею ждать, Викентий Николаевич.
– Только… только у младшей, говорят, уже есть жених.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































