Текст книги "Рудник. Сибирские хроники"
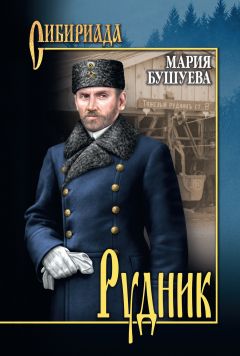
Автор книги: Мария Бушуева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Глава девятнадцатая
Красноярск.1916 год
Еще подходя к дому, Андрей услышал жуткий, какой-то утробный бесконечный звук и, войдя в кухню, через которую необходимо было пройти, чтобы подняться к себе на второй этаж, увидел в ней мадам Шрихтер: домовладелица сидела на полу, закрыв руками лицо, и выла. Рядом с ней валялся листок бумаги, он поднял его и прочитал: «…Юрий Шрихтер участвовал в Брусиловском прорыве, 20 июня с.г., во время одной из атак, его рота осталась без офицера, Шрихтер успешно принял на себя командование. Как разведчик он сумел взять в плен более 100 немецких солдат и офицеров и был предоставлен ко второму Георгиевскому кресту, но получить награду не успел: поведя роту солдат в атаку на прорыв вражеского окружения, он получил тяжелую рану, от которой через день скончался. Ему был 21 год. Память о герое в наших сердцах. Полковник Ильин».
– Это ужасно, – прошептал он.
Какой стыд: он, живой невредимый, здесь, в тылу, жалуется на ревматизм рук, а Юрий Шрихтер погиб.
– Я… найду себе квартиру, Роза Борисовна, и сразу съеду.
Шрихтер отняла красные ладони от лица.
– Не бросайте меня, Андрей, – вместе со слезами и воем выплеснула она слова, – не бросай… Я дом тебе завещаю…
* * *
Повесть Бударина о Кузьке и уволенном с прииска Хмыкине называлась «Шурфовщики». Теперь, когда не было Эльзы, Андрей решил упорно прочитать все, что оставила ему Муся Ярославцева, и принялся, отложив «Шурфовщиков», листать бударинские рассказы: чтение отвлечет от печальных событий. Розу Борисовну третьего дня увезли в больницу с сердечным приступом. Бродить по опустевшим комнатам ему, так любившему одиночество, сейчас было тяжело: точно он сам освободил дом от Эльзы и отправил под пули юного Шрихтера, чтобы добиться у охваченной горем его матери завещания в свою пользу. Пусть она еще поживет, и я успею от незаслуженного наследства отказаться. В конце концов найду хорошую работу, брошу кинотеатр…
Вечером его ждал у себя Иванов-Радов, в присланном приглашении обещая гостям исполнение силами профессиональными и любительскими первого действия новой своей детской оперы-сказки «Лесная царевна». К приглашению была приложена рукописная программка с действующими лицами, среди которых значились: Медведь (бас), Лесной дух (баритон), Царевна (сопрано), Хор травы и цветов. Фамилия певца стояла только возле Медведя – Каритиди. Это был известный в Красноярске бас, добродушный великан, своим мощным аппетитом ежедневно способствующий доходу ресторана «Енисей».
Опера, наверное, будет звучать симпатично. Сейчас, не опасаясь совпадений, открою один из рассказов прямо на середине… Никакого Лесного духа в них точно не встретишь! Бударин – реалист, последовательно протестующий против общественного механизма, жестоко сминающего народ, рабочие у него, признаться, показаны очень достоверно и вызывают сочувствие, хотя и дворянско-интеллигентскую жизнь знал он весьма неплохо.
Он открыл тетрадь, подписанную: Николай Бударин. «На реке».
«Над рекой плавал легкий кружевной туман, пронизанный утренними лучами солнца. Он то поднимался, то опускался плавными медлительными вздохами, отчего казалось, что дышит река. На листах и цветах черемухи лежали бриллиантовые капельки росы, и там, где падал луч солнца, они вдруг загорались многоцветными огнями… Как языки пламени, поднимались в волнах густой и сочной травы ярко-красные тюльпаны, с торжеством и благоговением смотря в бездонное небо… Темно-синие, всегда очень грустные колокольчики, белые, из матового серебра, с красными эмалевыми прожилками и нежно-голубые, хрупкие, с тонкими бледными стеблями, что растут всегда на склонах глинистых гор, пучками рассыпались на узкой, но длинной поляне возле реки, вдоль того места, где полесовщики настраивали плоты. Здесь же рассыпались незабудки. Чудеснейшие незабудки. Они были похожи на маленькие голубые звездочки, рассыпанные небом по изумрудному полю поляны днем под лучами солнца… Росла на этой поляне и медуница, полевая кашка, дикий горошек, и, когда они все вместе раскрывали свои чашечки, пахло медом так сильно, словно здесь была пасека. И вот тогда приходил сюда медведь, злой и недовольный, с вытертой шерстью на плечах. Он задумчиво ходил по (траве?), нюхал цветы и сердито двумя лапами срывал прошлогодние прелые ягоды голубики и жадно глотал. Потом бесшумно переплывал реку и бродил (?) между наваленными в беспорядке сучьями, взбирался на штабеля бревен, и, натыкаясь на забытую рукавицу, долго, задумчиво вдыхал запах человеческого тела, делался вдруг неподвижным, садился на задние лапы, а передними упирался в землю и бездумно смотрел прямо перед собой. Потом потихоньку, как брошенный щенок, начинал повизгивать и, щуря глаза, то правый, то левый, стонать. Когда приходили люди вырубать лес, старый медведь, тяжело ступая на трех здоровых ногах, уходил в лес или на брусничники…
– Опять приходил, видишь, лапы-то.
Акинпий наклонялся к выдавленному лапой отпечатку, вымерял палочкой длину следа и говорил: «Тот самый – видишь, лапой легонько давит. Нехорошо это – зачастил… Потревожили хозяина, и зря. Не надо было… Ему Бог велел тут жить, а не нам. Энта надо понимать… Зря, зря все это. Худо сделали».
…Застучали топоры, и белые ароматные щепы ложились полукругами на мягкий влажный мох. Огромные лиственницы с нежной обновленной хвоей с треском падали на темную землю и, простирая еще сочные ветви к небу, как будто молили Лесного Бога о пощаде».
На этот раз совпадение, несмотря на неожиданность появления в рассказе сочинителя-большевика по-женски красивого описания поляны цветов и даже Лесного Бога, совсем не удивило. Но и не испугало. Только медведя почему-то было сильно жаль. Наверное, пристрелят беднягу в конце рассказа. Отец признавался, что никогда не любил охоты, а навсегда его от охоты отвратил знакомый поляк, хвалившийся, что метко убивает белок, целясь им прямо в глаз, чтобы сохранить шкурку.
– А я так сильно полюбил этого милого сибирского зверька за красоту и полет над ветвями, когда его хвост, точно огонек! И если ты внимательно посмотришь, то заметишь: у нашей мамы глаза белки…
Милая, милая моя мама. Эльза обижала ее, а она все равно, конечно, плачет, невестку вспоминая.
…Однако неприятное чувство упорного вмешательства покойного Бударина в жизнь живых, после того как первое впечатление прошло, все равно проявилось и осталось, как накипь на дне чайника. Подумалось: раз я становлюсь мистиком, не обратиться ли к Бударину с просьбой? Пусть он в обмен на мое внимание к его рассказам пошлет мне встречу. Если он так точно все угадывает, значит, сам знает с кем. Но, наверное, для спиритической связи более подходит ночь?
Убирая программку обратно в конверт, он нащупал в нем еще какую-то бумажку: оказалось, это сложенная вчетверо записка, приклеившаяся к внутренней стороне конверта своим уголком. Странно, что он сразу ее не заметил!
«Дорогой Викентий Николаевич, приходите обязательно! Кроме моего сильнейшего желания, чтобы вы как профессионал оценили первое действие моей детской оперы, у меня для вас две добрые новости касаемо главного. Первая: я нашел вам ученицу, это дочь священника Силина, Юлия, девушка имеет хорошее сопрано, участвует в моей опере, вся их семья музыкально одаренная, и отец, дилетант-скрипач, надумал сделать из дочери пианистку. Вторая новость еще важнее: у знаменитой исполнительницы романсов Надежды Ивановны Покровской, жены Каритиди, умер аккомпаниатор. Я вас ей порекомендовал. Только она просит вас заранее подумать о сценическом псевдониме. И один нюанс: мать Надежды Ивановны звали Ольга, она скончалась сразу после ее рождения, а в юности любила какого-то киевского студента-повстанца, сгинувшего у нас в Сибири, и вот она заранее спрашивает, не могли бы вы взять псевдоним Ольгицкий? Это было бы ей в радость. Впрочем, решать вам. Приходите, подумаем вместе. Ваш Иванов-Радов».
* * *
«Дорогая мама, я скоро буду в Иркутске. Если вы увидите на афише: “Надежда Покровская, русские песни и романсы, аккомпаниатор А. Ольгицкий”, знайте: Ольгицкий это я. Польская музыкальная школа в Иркутске и Московская консерватория не пошли прахом, как говорила тетя Таня (с этого места письмо нельзя читать ей вслух), я давно простил ей сердитость и то, что она не любила меня маленького: я был слишком живым ребенком, а ее горб не дал ей счастья иметь детей. Но хорошо, что вы теперь живете вместе, так вам обеим легче. Если Штейнманы придут на концерт, буду очень им рад. Андрей».
Глава двадцатая
Иркутск
Лекарства и врач, отправленные Бутиным, старому иерею помогли: хоть он уже по-старчески слаб, но жив и даже служит, сообщала Краусу попадья, – он тоже не забывал писать старикам не реже одного раза в месяц, – а вот Лукерья обезножила, ходить за ней в деревне некому, взяли ее в пристройку к священническому дому, заплатил отец Андриан двум мужикам-сойотам, чтобы они ее перевезли на телеге, дай Бог, еще поживет. Приезжал поохотиться в Шанамово пан Сокольский, заезжал к нам, дали ему с собой варенья для вас, Викентий Николаевич, да пирогов с яблоками…
Ни варенья, ни пирогов Сокольский не принес, может быть, заходил, да не застал? Юсицу Иосиф Казимирович не доверял, считая того склонным к аферам, но мог оставить посылочку у меланхоличного Штейнмана. Краус зачем-то солгал Штейнману про жениха Кати, и теперь к некоторой неловкости от этого прибавилась тревога – как бы его слова не сбылись: едва возле тоненькой Кати ему представлялся какой-нибудь красавец Романовский – тут же сердце резко обозначало себя сильным толчком в ребра и начинало куда-то катиться, точно бильярдный шар от удара кием.
Каждый день он вникал в бутинские дела и уже неплохо разбирался в сметах, подрядах, особенностях взаимодействия с приказчиками, а также в качестве соли: завод был почти готов к запуску. Вечерами они занимались с Бутиным немецким языком – тот теперь не только читал, но и говорил по-немецки вполне прилично. Как-то он спросил, пришла ли диссертация Курта: Краус ее так и не получил, и на его запрос Адаму Каминьскому ответа тоже не было. Перлюстрация, конечно, сказал Бутин, украла его труд какая-нибудь шельма, возможно, еще в Варшаве, чтобы потом издать под своим именем все, что ваш друг написал, или здесь вскрыли, решив, что отправлено что-то ценное, а там одни бумаги, тут и выбросили все с досады… Лучше, если диссертация попала в политическую цензуру: это ведомство ничего никогда не выбрасывает, если не найдут опасных мыслей, почту отправляют по адресату, мне вот однажды письмо из Петербурга шло почти четыре месяца, а найдут – она у них и останется, но зато аккуратно подошьют ее к делу с грифом «Секретно» – сразу и на века, а поскольку получат ответ из Варшавы, что отправителя нет в живых, дело закроют и уберут в хранилище… Могло ли быть в содержании что-то, так сказать, неблагонадежное?
– Курт писал не только о Пушкине, но и о его связи с декабристами.
– Но тогда вряд ли вы диссертацию увидите.
* * *
Умер Егор Алфеевич. На отпевание в Крестовоздвиженской церкви и похороны Краус опоздал – Бутин, пообещав ему скорое место управляющего новым заводом, срочно уехал в Нерчинск, оставив его руководить приказчиками: шла разгрузка подвод, не обошлось без производственных конфликтов, и, когда все уладив, он освободился, уже вечерело, поспел он лишь на самый конец поминок в доме Зверевых. Дом сейчас словно почернел, окна глянули скорбно, а ступеньки не скрипнули, а тоненько всхлипнули.
Преподаватели-сослуживцы из Девичьего института, чиновники Губернского управления, где Егор Алфеевич служил последние два года, и отпевавший покойного священник отец Александр уже ушли, оставалась за столом, кроме потерявшей отца и мужа семьи, только младшая сестра Елизаветы Федоровны, Елена Федоровна с горбатенькой дочерью Таней, кузиной Анны и Кати, старик Касаткин, неожиданно для Крауса оказавшийся дальним родственником Егора Алфеевича, да Иван Иннокентьевич Оглушко. Обида за Курта, сейчас, на фоне горя Зверевых, чуть приугасла, но садиться с доктором рядом Краус все-таки не стал, предпочтя свободный стул рядом с Таней, отчего напротив него оказались Анна и Катя. Анна, едва он встретился с ней взглядом, достала папиросу и закурила, а Катя, показавшаяся ему пронзительно красивой в черном траурном платье, сидела, опустив глаза, ни на кого не глядя. Когда Краус пришел, извинившись, что из-за внезапного отъезда Бутина вынужден был его замещать, опять выпили за помин души Егора Афеевича, и разговор, уже от смерти перешедший к жизни, как это всегда случается на поминках, снова вернулся к покойному и к теме смерти.
– Отец Александр рассказал о том, что за третий день до смерти он увидел вылетевшую облачком душу умирающего, я не стал его опровергать, – сказал Оглушко, – мало ли кому что покажется, священники вообще живут в особом мире, почти каждый день провожая людей в последний путь, они должны были создать для себя какую-то защитную теорию, иначе бы не выдержали постоянного соприкосновения со смертью, но сам я как медик убежден: жизнь тела кончилась – и кончилось все, однако же бессмертие человека – не сказка, оно – в его потомках, жива ведь частичка Егора Алфеевича в Анне и Кате, а значит, и внукам они могут ее передать… Вот и бессмертие.
– Меня больше всего пугает, когда я подумаю, что покойник может под землей очнуться, – сказал старик Касаткин, – читал много случаев, когда менее опытные, чем вы, господин Оглушко, медики принимали за смерть летаргический сон, знаменитый писатель Гоголь, которого врачи и отправили в могилу, очнулся в ней, это самый известный случай, и таких не так мало, кости мертвецов обнаруживаются со следами движения.
– В том виновно движение почвы и подземных потоков, Иван Селиванович!
– Не скажите, Иван Иннокентьевич! Иногда обнаруживаются и следы настоящей борьбы за жизнь.
– Господи, как страшно! – сказала горбатенькая Таня.
«Ее красивое лицо, как цветок, на кривом пеньке тела», – глянув на нее, подумал Краус.
– И насчет отца Александра вы не правы. Он по чистоте своей души удостоился видеть, как покинула тело душа, а вы, выходит, этого не удостоились.
– Спор, изначально обреченный попасть в тупик, – сказала Анна, – доктор – материалист, а понятие души принадлежит философии идеализма.
– Иван Селиванович прав, – тихо сказала Катя, – я стояла рядом с отцом Александром, и мне показалось то же, что и ему.
– В общем, скрестили шпаги два Ивана – верующий и неверующий, – сказал Оглушко. – Простите уж нас, дорогая Елизавета Федоровна, помянем Егора Алфеевича добрым словом еще раз.
– И пусть он сам нам оттуда подаст сейчас знак, что прав Иван верующий! – воскликнул Касаткин.
Простучали, отмечая спешащее время живых, деревянные настенные часы. Все тревожно замолчали.
– Сейчас голос Егора Алфеевича как бы внутри меня прозвучал, – Елизавета Федоровна испуганно посмотрела на Оглушко, – он сказал: «Поговорите о живых».
Тут же как-то слишком поспешно заговорили, доктор стал рассказывать о своем родившемся внуке – младенце Юзефе Романовском, уже в трехмесячном возрасте разительно похожем на отца, ну просто вылитый шляхтич, усмехнулся Оглушко, так и гоняет нас всех своим властным криком, потом Елена Федоровна рассказала, что ее муж-географ путешествует вместе с Черским, добавив, что и дочь хозяйки Ивановой, у которой Черский квартирует, поехала с ними вместе в горы, не опасаясь опасных переходов и не женских трудностей. Егор Алфеевич говорил, что Черский прекрасный человек, сказала Елизавета Федоровна, дом Ивановых ведь недалеко от нас, они были хорошо знакомы, Черский делился с ним своими планами– он желает навсегда остаться в России.
– А мои только и глядят в календарь: скоро ли можно будет уехать из Сибири, – сказал Оглушко, – а вы, Викентий Николаевич, что замыслили?
И в этот миг Катя посмотрела на Крауса, и он – в ее глаза. И тут же, исчезая из-за стола, заскользил по длинному водному каналу, мгновенно соединившему их и вспыхивающему за его зрачками белыми и голубыми искрами. Он что-то ответил, а может быть, не ответил вовсе. Вернула его к говорящим вставшая и резко отодвинувшая стул Анна. И, когда он уходил, Анна выбежала за ним на крыльцо и крикнула: «Вы уже любите Катю, и она!..»
И она… Она!
На обратном пути он зашел не в костел, а в Крестовоздвиженскую церковь. Возле иконы чтимого в Иркутске Николая Чудотворца молился какой-то сутуловатый офицер в длинной шинели. Потапов? Если даже это он, сейчас подходить, напоминать о себе и рассказывать о Курте неловко.
Краус поставил свечу к распятию на помин души милого человека Егора Алфеевича и еще одну– к иконе Казанской Божьей Матери.
– O, Matka Boska, – прошептал он, – Сибирь моя благословенная.
Прабабушка Юлия
Вечерами прабабушка наша в круглой раме из белого света торшера начинала рассказывать, из углов выползали невнятные шорохи, всхлипы, и слышался шелест, ночь в окно начинала заглядывать, выходили из мрака, толпились вокруг говорящей ушедшие, опасаясь ступить на шуршащие лица свои облетевшие, головами без лиц лишь качали тревожно, качали тревожно, рассказам старушки не верили, и, когда засыпала она, тихо падали на пол, исчезали в расщелинах старого дерева.
Где моя правнучка?
Прадед мой, Лев Максимович, отец моей бабушки по матери, был огромного роста девяностолетний старик, сохранивший все зубы и не имевший ни одного седого волоса. Какое-то время занимался Лев Максимович чаеторговлей в Кяхте, даже учился китайскому языку при Кяхтинском таможенном училище, которое основал знаменитый Никита Яковлевич Бичурин, священник, дипломат и первый русский китаист. На чае прадед разбогател: имел несколько домов и свой пароход, – напиток этот, сопровождавший его могучую старость, всегда повышал ему настроение.
– Сколько чашек чая в день выпиваешь, столько и десятков лет разменяешь, – говаривал он, допивая десятую…
Был Лев Максимович одно время и успешным золотоискателем: в Енисейской губернии в ХIХ веке нашли золото, и начался сибирский Клондайк, который мог превратить Сибирь в русскую Америку. К тому были все предпосылки, но русский царизм никогда не давал Сибири законодательной свободы, да и русский хаотичный характер сказался: обогатилось множество, а миллионщиками остались единицы. И Лев Максимович не стал исключением из большинства. Всю жизнь ему везло, но к старости он разорился, и о его былом богатстве напоминал только единственный дом с красивыми луковичными окнами да массивные кольца из чистого золота, на которых держался полог над его огромной кроватью. Кольца были так прочно вмонтированы в потолок, что, когда распродавал он свое имущество, дабы покрыть долги, кольца просто не смогли снять…
Жил Лев Максимович то у своего старшего внука, кажется, чиновника то ли в Якутске, то ли в Енисейске, точно не помню, то у своей младшей дочери, моей бабушки, в Южной Сибири, на территории современной Хакасии. Был он, кстати, знаком с миллионером Петром Ивановичем Кузнецовым, который, как известно, оплачивал обучение художника Сурикова…
И вот, помню как сейчас, мне года четыре, я в большом доме моего деда, и вдруг по лестнице начинает спускаться огромного роста страшный старик, от каждого шага которого сотрясаются стены. Громовым голосом, раскатывая рычащий звук «р», он кричит: «И где моя пррррравнучка?!»
Я стою ни жива ни мертва – он кажется мне великаном, который сейчас схватит меня в свои лапищи и съест. Но Лев Максимович, долго роясь в кармане домашнего халата, достает железную коробочку монпансье и, хохоча, протягивает мне…
Так и осталось в памяти: громадный голубоглазый старик, громовый рокочущий смех, лестница, идущая из поднебесья, волшебное слово «чай» и пугливое постукивание леденцов в железной коробочке.
Устрицы
Дядя мой, Валериан, был двухметрового роста, еще выше своих двух братьев – Владимира, священника и журналиста, и Бориса, революцию встретившего штабс-капитаном, служившего в Семеновском полку, куда набирали очень высоких солдат и офицеров,
У Валериана было длинное лицо, узковатые глаза с наплывающими на них верхними веками, – и, когда я, маленькая, видела их троих вместе: Валериана, Владимира и Бориса – то удивлялась: откуда эти гиганты? Ведь средний рост мужчин тогда не превышал ста шестидесяти шести сантиметров.
Они казались мне спустившимися с иной планеты.
К тому же Валериан был страшно застенчив. Возможно, из-за своего огромного роста, возможно, по характеру. Оакончил он Казанский университет и преподавал историю. Увлекался астрономией, и, когда рассказывал мне, девочке, о Млечном пути, звездных скоплениях и планетах, его собственное инопланетное происхождение для меня становилось как бы доказательным.
И женился он странно. Сибирь тогда полна была ссыльными поляками и их потомками. Жил такой шляхтич, сосланный польский дворянин по имени Бальтазар, недалеко от нас, после восстания 1863 года остался он в Сибири навсегда. Было у него семь дочерей, все рыжеволосые, страшно смешливые и бесхозяйственные.
О смешливости их ходили легенды. Сам Бальтазар посещал в редкие приезды в город католический костел, а дочерей окрестил уже православный священник. Так вот, хохотали они, даже посещая церковь – прилипла ли репейная колючка к подолу юбки богомольной старушки, споткнулся ли, читая, дьячок, – все их смешило.
Наверное, и над долговязым неловким Валерианом они по вечерам хохотали все семеро – но Бальтазару пора было выдавать своих рыжеволосых бестий замуж – он пробовал что-то зарабатывать то мелкой торговлей, то репетиторством, но семья сильно нуждалась, а других подходящих женихов в округе не было – и предложение молодого историка было принято.
Увидел Валериан свою невесту впервые без шубы – в церкви, когда венчались. До этого они только бродили по зимним улочкам, и он занимал Антониду разговорами по истории и рассказами о небесных светилах…
Увидел – и ахнул: Антонида оказалась широка – косая сажень в плечах, грудь ее стояла девятым валом, а волосы пламенели.
Но священник их обвенчал, через год родились близнецы – мальчик и девочка, и, несмотря на красивую одежду – белые платьица, бархатные штанишки, кружевные чулки, шелковые банты и прочее, одеты они были всегда просто ужасно: то чулок спал с ноги у девочки, то кружева оторвались от платья и волочатся по полу, то бант прикреплен косо, то перепутали обувь – один ботинок надели ей, а мальчику на ногу – туфельку… Готовила-то кухарка, но детьми Антонида занималась сама – и, когда приезжали на праздники ее шесть сестер, все еще не замужних, – второго жениха с отлетом найти среди трезвых и практичных сибиряков было сложно, – эти рыжие бестии начинали хохотать над тем, как дети Антониды одеты. И она с ними.
И вот, помню, мне четырнадцать, я епархиалка, было такое училище для детей священнослужителей, давало оно весьма неплохое образование, а моя подружка, дочь бабушкиной племянницы тети Маруси, моя ровесница – гимназистка, и мы с ней задумали сходить одни в ресторан и попробовать устриц, сама бабушка мне и рассказала, что мой орловский прапрадед ел устриц, которых ему привозили из Петербурга живыми. Потом он разорился, сын его сам свою землю обрабатывал, а после и землю продал. Но прапрадед жил, по словам бабушки, на широкую ногу, даже театр в поместье устроил… Вот, видимо, в моей глупой голове и связалось: хорошая жизнь – это имение, свой театр и… устрицы. Логика нашей души ведь не математическая. Может быть, стоит начать есть устриц, и папа станет богаче, и мы, его дети, поедем учиться в Санкт-Петербург?
Вечером я сбежала из епархиального училища. Отец мой недавно уехал из города в село, получив большой приход, и я жила в пансионе при училище, а кузина моя – ускользнула из дома, солгав, что забыла записать домашнее задание и срочно бежит к подружке. Телефонов-то еще почти что ни у кого не было, вольная воля.
Заранее сговорились мы с ней надеть «взрослые платья», лица до половины прикрыли вуальками… И так пошли к ресторану. И только стали подходить к зданию, над дверьми которого зазывно сверкала огнями яркая вывеска, из-за угла, прямо навстречу нам, вышел высоченный человек. Это был дядя Валериан! И о ужас, он узнал нас!
А ученицам гимназий, а тем более епархиальных училищ, появляться в городе вечером одним было категорически запрещено.
Пришлось мне рассказать дяде все.
– Ну что ж, – сказал он, – пойдемте. Буду вашим кавалером, иначе вас примут за девиц древнейшей профессии и отправят в участок. А со мной вы в безопасности. Вы – мои дамы. Устриц так устриц!
Представляю, как, наверное, хохотала рыжая Антонида и ее шесть сестер, когда дядя Валериан рассказывал им эту историю. А может, он пожалел племянниц и промолчал?
В ресторане играла музыка, подвыпившая публика скосила глаза на высоченного мужчину с двумя юными грациями, но тут же снова уткнулась в бокалы, красную икру и салаты.
Ресторан был дорогой, владел им миллионщик, сделавший себе состояние на енисейских приисках. Дед мой его хорошо знал и отзывался с уважением: миллионщик дал детям прекрасное образование и финансировал арктические исследования.
Что удивительно – оказались в ресторане и устрицы. Живые. С огромным усилием я заставила себя съесть пару. В тисках моих зубов они издавали скрипучий жалобный писк. Это было ужасно. Когда я вернулась в пансион, меня долго тошнило, и я поняла – ни усадьбы, ни театра мне в жизни не видать.
Утром резко похолодало. Нужно было идти помогать городским дамам шить кисеты для офицеров. Уже началась Первая мировая война.
Я солгала, что болею. И, когда ученицы ушли, одиноко бродила по опустевшим классам. Долго стояла у портрета императора Николая Второго. По его лицу полз паук.
Так и осталось в памяти: семь хохочущих рыжих девиц, пищащие устрицы и черный паук на лице императора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































