Текст книги "Рудник. Сибирские хроники"
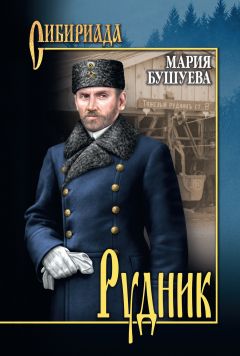
Автор книги: Мария Бушуева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава четырнадцатая
Красноярск
Эльза лежала уже третий месяц. В ее комнате воздух сгустился, пропитался запахом лекарств и, когда Андрей заходил к ней, тут же наваливался на его затылок и туманил зрение: видеть расползающееся по кровати тело, когда-то удивительно изящное и ловкое в танце, было невыносимо. Сиделка, которую нашел Паскевич, приходила убирать только раз в неделю: на более частую ее помощь у Андрея, по вечерам подрабатывающего тапером в кинотеатре немого фильма, не было средств. Еще не так давно неплохие деньги давали уроки: он полгода был учителем музыки в женской гимназии, но внезапно его уволили без всяких оснований; он был уверен, что начальница женской гимназии обманывает, утверждая, что приходится сокращать штат учителей из-за смерти основного благотворителя, просто нашла ему замену, но, подумав, в этом засомневался: музыкантов с консерваторским образованием в Красноярске было очень мало, и они преподаванию предпочитали концертирование. Все объяснил Паскевич, когда Андрей рассказал ему о потере хорошего места: сейчас сложное время для лиц с немецким происхождением, Андрей Викентьевич – война с Германией…
– Моя мать – русская.
– Так помилуйте, кто это знает и кто поверит, даже скажи вы: судят по фамилии. Рабочие Путиловского завода только что устроили забастовку и потребовали убрать всех инженеров немцев и австрийцев. Старика у церкви, видели, наверное, его не раз, высокий такой, с огненными глазами, вчера арестовали: он говорил собравшейся толпе, что скоро императорская корона упадет, кстати, Лермонтова цитировал, видимо, не простой он старец, и предупреждал о море крови, в которой потонет Россия, то есть, надо понимать, о приближающейся революции. Я, разумеется, никаким прозорливцам не верю, но вот жандармы поверили! – Паскевич усмехнулся. – Но кое-какие основания поверить в возможность переворота есть: в этом году девяносто лет с восстания декабристов, а чтобы зерно, брошенное в русскую народную почву, проросло, нужно как раз лет сто… Знаете пословицу: русский долго запрягает, но быстро едет? Хотя для Пугачевского бунта никаких предвестников-декабристов не потребовалось. Но все связано в этом мире, на одном конце страны свистнули, на другом – откликнулись. Вы думаете, откуда я узнал про забастовку на Путиловском? Лечу ссыльного, заболевшего туберкулезом, но не в той опасной форме, какой страдал Бударин. Кто уж ему сообщил и как – сия загадка велика есть. Но я не спрашивал: теперь, знаете ли, лишнее знание – лишний риск… Никто никому не верит. Вы, кстати, уже прочитали сочинения Бударина?
– Читаю, но медленно из-за трудного почерка. И вот что странно – с рассказами его у меня постоянно случаются необъяснимые совпадения: точно я сам попадаю в им сочиненное. Поверьте, это не причуды моей психики.
– Откровенно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду? – Паскевич посмотрел на него пристальнее.
– Как раз то, что вы только что сказали: на одном конце страны свистнули, на другом – откликнулись. Моя жизнь как бы откликается на его мысли, на им написанное… Вот сейчас я открою рассказ, – Краус подошел к столу и взял тетрадку, – и начну читать с того места, на коем остановился:
– «…эти тревожные свистки…» Вот – видите?!
– Обычное совпадение! А что там дальше?
– «Выползают во двор чумазые, готовые на все существа… Можно ли быть гарантированным от всяких возможностей, именно – от всяких? Но разве я испытываю страх? Не то, совсем не то. Они не поверят, никогда мне не поверят… Знаю, что там, среди них, делается серьезное и, может быть, даже очень большое дело, знаю, что оно направлено и против меня как представителя известного класса. Но так в чем же дело? – Павел Петрович остановился среди кабинета. – Творцы, черт возьми! Ну, возьмут они имущество, сожгут заводы…»
– Мрачная перспектива, – пробормотал Паскевич.
– Тут еще: «…есть-то они хотят. Хотят есть и их жены. И их дети…»
– Ты меня твоя жена морить голодом! – пронзительно закричала Эльза. Краус побледнел.
– Так часто, я читаю, а она, как медиум, принимает… с некоторым искажением порой, но совсем незначительным. Сейчас я дам ей тарелку каши…
– Да, странно… Впрочем, медиумизм может вызывать hysteria. Ну а вы, наверное, сами для себя неосознанно выбираете из его рассказов подходящее.
– Я читаю подряд. И все, что происходит, происходит после моего прочтения, а не до него, вы же видите.
– Все-таки я склоняюсь к случайности.
– Пойду ее кормить. Эльза – мои кандалы. Вы счастливец, доктор, что холосты.
– Да вот и я собираюсь связать себя брачными узами не позже осени.
– Я бы сейчас, признаюсь откровенно, предпочел быть одиноким. Если желаете, пока я Эльзу кормлю, можете почитать дальше, вот с этого места: «Я один. Я куда-нибудь уеду, в другой город, в другую страну. Я здоров, могу заработать себе… а они… Их тысячи»…
– Нет, я, пожалуй, пойду, мне нужно сегодня поспеть на окраину, в рабочие бараки, там женщина после родов, денег на больницу у семьи нет, лечу в порядке благотворительности… Их тысячи…
* * *
Паскевич ушел, Эльза уснула. Он сел за стол, достал портмоне, вспомнив: задолжал мадам Шрихтер; необходимо, пожалуй, прямо сейчас расплатиться, пока она не выставила на улицу вместе с больной женой; отсчитал сумму для хозяйки: на все остальное оставалось мало, но что делать, придется отдать. Может быть, удастся найти ученика – он заплатил за объявление в газету, должно было появиться во вчерашнем номере, газету он купил. Что в ней? «20-го объезд по городу для сбора вещей на помощь пострадавшему от военных действий населению Царства Польского без различия национальности. Помогите, жертвуйте что можете». Как бы отреагировал отец на этот призыв?
«Турецкий флот вследствие повреждений главнейших судов считается едва ли способным к бою в ближайшем будущем».
«Сегодня:
– Общественное собрание. Вечером – опера в 3 д. 5 к. “Демон” музыка Рубинштейна.
– Общедоступный театр. Вечер – др. Сумбатова “Старый закал”. Нач. в 8 ч.
– Бесплатная библиотека. Г. Богданов прочтет о Германии. Нач. в 1 ч. Вечер. – пьеса в 4 д. Найденова “Дети Ванюшина” Нач. в 8 ч.
– Дом № 28 Почтамтск. ул (против магазина Штоля и Шмита). Лотерея-аллегри в пользу Красного Креста – на нужды больных и раненых воинов. Нач. в 12 ч. дня».
Подумалось грустно: богатых Штоля и Шмита никто не выгонит с работы за их немецкие фамилии.
«Нужна девушка для комнатных услуг, со стиркой белья на двух девочек. Александровская, 21, кв. Кюссе-Кюз». И мне б не помешала девушка для стирки белья…
«Нужна прислуга за одну в булочную Нечаевская, № 1».
«Классная дама гимназии готовит и репетирует учеников и учениц; знает французский, немецкий, Монастырская, 4, во дворе, во фл., наверху».
«Студ. – тех успешно готов. и репетир. за курс средн. уч. зав. Специально: матем., физ., нем. И франц. яз. Адр.: ул Черепичная, 35, кв. 2 (первая дверь налево)».
«Бюро переписки. Первая в городе практическая школа переписки на пишущих машинах разных конструкций по американскому “слепому” методу…»
«Квартира. Освободились две комнаты и кух., водопровод, электрич…»
Это все не то. Где же мое объявление? Так, опять комнаты, еще бюро переписки, интеллигентная особа берет воспитывать детей, учительница французского… А, вот оно: «Учитель с консерватор. обр. берется обучить детей игре на скрипке и на фортепьяно».
* * *
Роза Борисовна, получая деньги, всегда источала доброжелательность. И сейчас она, оторвавшись от обеда, приняла плату за жилье с нескрываемой радостью. На столе перед ней лежала в окружении крупных картофелин целая вареная курица, посыпанная какой-то сухой приправой, но рассчитывать, что хозяйка пригласит его к столу, было бы наивно: она придерживалась жизненной философии простой и понятной: все, что невыгодно, – лишнее.
– Нет ли писем от вашего сына? – из вежливости поинтересовался он, но зря: мадам Шрихтер, тут же вспомнив, что ее дорогой сын на фронте, а постоялец отсиживается в далеком тылу, сняла с лица приветливость.
– Месяц не получала, мой мальчик был в госпитале, он получил Георгиевский крест! Вынес с поля боя раненого полковника, своего командира! Он в команде разведчиков!
Почувствовав себя жалким уклонистом, он пожелал ей приятного обеда и, поднявшись к себе, заглянул в комнату Эльзы: она спала, и левая ее нога, распухшая, белая, с синими извивами на икрах, вырвавшись из-под одеяла, свешивалась с кровати, точно Эльза собиралась встать, но передумала.
Неужели она передумала навсегда? Ведь Паскевич не находит никакой патологии, кроме нарушенного обмена веществ и болезни, открытие которой приписывают французу Шарко, то есть женской истерии. Но Эльза лежит, и при любой попытке ее поднять сначала кричит и рыдает, а после несколько часов пребывает в полуобморочном состоянии. И тогда мне ее не жаль. Жаль себя. В этом коридоре, куда мы с ней попали, полный мрак, и кто скажет, есть ли из него выход? Имея лежачую жену, я бесконечно захожу в лавку красноярского протоиерея, потому что вижу свет только там.
…Но куда подевалась Юлия?
Он подошел к окну, прижался лбом к стеклу: весна, скоро садик мадам Шрихтер расцветет. Сейчас открою рассказ Бударина и проверю: если Паскевич прав и все, что совпадало, совпадало случайно, а Эльзины реакции просто следствие ее истерии, пусть на этот раз ничто в рассказе Николая Бударина с настоящим мгновением не совпадет! И, отойдя от окна, сел за стол и, открыв тетрадь, прочитал: «Павел Петрович прижался лбом к стеклу…» Опять!
«А в саду было целое море света. Букашки, жучки и мушки уже вились над распускающимися деревьями, ползали по стволам, бились в окно, желая проникнуть в дом…»
Глава пятнадцатая
Нерчинск
– Казенное нерчинское сереброплавильное производство истощилось и закрылось в 1863 году, – говорил Бутин за обедом. На столе, кроме водки, пива, всевозможных наливок, разнообразных закусок, осетровой и лососевой красной и черной икры, удивлял чисто сибирский деликатес: приготовленная каким-то особым способом медвежья лапа. Краус даже пробовать ее не стал, не ел ее и сам Бутин. Видимо, блюдо предназначалось только для гостей в качестве местной экзотики. На сладкое подали пельмени с ягодной начинкой, пироги и шаньги. Ароматный китайский чай был хорош, а на дне изящной чашки качала головой красивая китаянка.
– Пришлось заняться золотодобычей, дело обоюдополезное как для нашего торгового дома, так и для государственного процветания, не побоюсь высоких слов, Викентий Николаевич! Отведено мне было для начала всего тринадцать площадей на местных реках. Потом добавилось ещё три прииска… А ныне и Находка, Узкополосный, Трёхсвятительский… Не буду утомлять перечислением всех, но тему сию я поднял не ради демонстрирования своего преуспеяния, хотя своими трудом я могу гордиться: к примеру, только Дарасунские прииски, названные по реке Дарасун, дают до 30 пудов, – а потому, что имею дальние планы, связанные лично с вами: вы образованный человек и, как мне кажется, с деловой хваткой, каковой пока в себе сами не ощущаете вследствие отсутствия поля деятельности. И не будет у меня из-за моей занятости другого удобного часа кое-что вам о делах моих рассказать.
– Я слушаю, Михаил Дмитриевич, с большим интересом, – сказал Краус. Он допил чай – и китаянка в синем кимоно перестала на дне чашки покачивать головой.
– Порой не только ум, но и хитрость приходится применять: вот переманил из Верхнеамурской компании механика Коузова, вы с ним как-нибудь у меня на обеде встретитесь, он-то для Дарасунских приисков и смастерил высокопроизводительную золотопромывательную машину, значительно улучшающую качество результата.
– Это на вас, Михаил Дмитриевич, Америка так подействовала, что вы решили заняться механизацией? Или, наоборот, поехали в Америку, чтобы сравнить ваши собственные технические идеи с тамошними?
– Вопрос ваш – в самую точку. Но ответ посередке. И себя проверить хотел, и у них поучиться. Мне там все было любопытно. И природа – похожа ли она на нашу российскую и сибирскую, и, как они живут, как торгуют… Но особенно, разумеется, их промышленность и рудники, коих я посетил несколько в разных штатах, проехав от Колорадо до Калифорнии… В чем-то я их и опережал, еще ведь до поездки запатентовал устройство передвижения по рельсам с цепным подъемом золотосодержащих песков. А там увидел под землей груженых лошадей и ослов. Я изложил свои мысли о механике письменно. Серафима! Принеси-ка из кабинета мою тетрадь, лежащую поверх книг, на столе. Она давно у меня, все знает, – зачем-то пояснил он.
Серафима, прихрамывающая немолодая женщина, принесла тетрадь и встала в дверях. Краус отметил, что одета она была не как прислуга, а по-барски. К столу она не подошла, а сам Бутин, выйдя из-за стола, взял тетрадь из ее рук.
– Ну вот, слушайте: «…при подаче песков обыкновенным способом в таратайках потребовалось бы для поднятия 120 пудов 4 лошади и 2–4 проводника, тогда как вагон с таким же количеством груза движется на машину без лошади и человека.
По расчёту при промывке 100 кубических саженей получается сбережение: при добыче и подаче песков на машину и отвозки гальки и эфеля в отвалы, смотря по расстоянию, не менее 50 человек рабочих и столько же лошадей…»
Краус слушал с интересом. То ли слова Бутина о его еще не нашедшей реального воплощения деловой хватке подействовали на него как внушение, то ли Бутин и точно был прозорливец: слушать о его делах оказалось гораздо интереснее, чем вести привычные интеллигентские беседы у Оглушко. Уезжая в Нерчинск, он к Огушко не зашел. И сейчас, вспомнив его, испытал противоречивое двойное чувство: с одной стороны, доктор вытащил его из Шанамово в Иркутск и не взял за свою помощь ни копейки, с другой – не дав согласия на скорый брак дочери с Куртом, нанес удар его другу.
– «Для привлечения в действие двух золотопромывательных бочек, подачу песков на машину и отвозку гальки и эфеля в отвалы, где нет воды, достаточно 20 паровых сил. Таким образом, при промывке 15 000 кубических саженей песков сберегается 7500 подёнщин людей и столько же подёнщин лошадей. Что стоит каждая подёнщина на приисках, каждому золотопромышленнику хорошо известно». Подёнщина крайне дорого нам обходится, Викентий Николаевич, да и людей жалко, часто это бывшие арестанты, не все выживают, болеют и дети их… Да и приказчики, возможно от нашего непривычного для них климата, часто недомогают. И семьи страдают, и я несу убытки. Пришлось, дабы обеспечить лекарствами рудницких рабочих и моих служащих, открыть здесь, в Нерчинске, аптеку… И городской обыватель рад. И на приисках вроде болеть поменьше стали. Возят туда нужное для лечения приказчики. И купальню открыл, и школу для девочек. Люблю свой город.
Краус хотел поинтересоваться, платят ли за бутинские медикаменты рабочие, но не стал.
– …Купил вот у иркутского купца Лаврентьева еще и железоделательный завод. Пришлось тут же вложить средства в механизацию: и пошла прибыль. У Лаврентьева 60 тысяч пудов в год завод давал, а я надеюсь поднять до 200 тысяч. И скоро начнем производить горные буры и даже локомобили!
Но будет о делах, позвольте мне показать вам во всей красоте своей палаццо! Мы с вами в главном из зданий, здесь живу я сам, здесь же и контора торгового дома, здесь же и библиотека… С нее, пожалуй, и начнем. Есть и музыкальный зал, он не только мне служит, но и городу: в нем проходят концерты, – порой в наш медвежий угол заезжают талантливые гастролеры, я сам, признаться, пробую сочинять музыкальные пьесы, недавно открыл школу для обучения игре на скрипке и на рояле нерчинских детей… Вот, поднимите голову, видите – под балконом для оркестра Эвтерпа с ангелами, а на стенах – в виде барельефов имена мной любимых композиторов: наш русский Глинка мне всех ближе, но гении Моцарт и Бах тут же… Люстра, Викентий Николаевич, между прочим, на девяносто шесть свечей! Поднимает и опускает ее, дабы зажечь или погасить свечи, специальный механизм… Есть у меня еще фламандские картины… Но русские и местные художники мной ценимы: чем-то нравится мне очень картина Пелевина «Няня», неплох и «Заливной луг» Ткаченко. Вы любите живопись?
– Люблю.
Вспомнились портреты неизвестного художника над роялем в гостиной Зверевых: наверное, и его работы есть во дворце Бутина.
– Вашему дворцу, Михаил Дмитриевич, позавидовали бы самые богатые польские магнаты! Такой красоты и роскоши я не видал нигде.
– Это будет памятником мне, Викентий Николаевич. Хотя о смерти нам с вами еще думать рано, но кое-какие предчувствия отпущенного мне срока у меня есть. А вот и библиотека, более двадцати тысяч томов, есть книги на немецком, на английском, я сам романы Диккенса прочитал на родном его языке. Пользуйтесь, чтобы у нас в Нерчинске не скучать… А как вам глобус?
– Огромный!
– Сейчас покажу вам свои коллекции: минералогическую и нумизматическую… Да, чуть не забыл, для вас посыльный сегодня утром привез письмо из Иркутска, я его и положил намеренно на стол в библиотеке, зная, что мы сюда обязательно придем… И здесь позвольте мне вас оставить: дела. Жду вас вечером для очередного нашего с вами занятия, библиотека для них самое удобное место.
* * *
Письмо было из Варшавы. Неужели наконец от Курта? Но почерк, подписавший иркутский адрес, не принадлежал Вагену. И Краус медлил, не открывая конверт, в голове стучали, неприятно отзываясь в висках слова Бутина: «кое-какие предчувствия… кое-какие предчувствия… кое-какие предчувствия…» Он подошел к глобусу, нашел Галицию, а здесь, наверное, Волынь… Мальчик в голубой матроске кидал камушки в серебристую воду Припяти… Matka Boska, неужели это действительно было? Не верю. Детство мое погрузилось на дно Ангары… Почему – Ангары? Откуда прилетели эти странные слова? Он резко отошел от глобуса, схватил письмо, разорвал конверт.
«Дорогой мой единственный друг, – писал Курт (письмо было от него!), – я только что закончил диссертацию, но какой теперь смысл в ней, ее все годы питала моя огромная любовь к Полине, чье прекрасное лицо было для меня всей Россией. Теперь все кончено. Моя жизнь осталась на дне Ангары. Ты, Викот, наверное, знал, что она вышла замуж за Романовского, но старался как можно дольше сберечь меня от выстрела, метко попавшего мне прямо в сердце. Вспоминай меня в день рожденья Пушкина каждый год. А Полине передай: путь моя любовь ее больше не тревожит. Твой Курт».
На втором листке той же рукой, что подписала конверт, была сделана приписка по-польски: «Курт фон Ваген скончался 26 мая с.г. в Варшаве. В предсмертной своей записке он просил не сообщать причину смерти, что и выполняю, не имея права нарушить последнюю волю покойного своего учителя. Свою диссертацию он завещал вам, и она отправлена в Иркутск. Магистр Адам Каминьский».
Глава шестнадцатая
Иркутск
Краус две недели был болен. Он еще в детстве, когда случались какие-то пустячные для взрослого взгляда неприятности, однако очень болезненные для ребенка: потеря любимой лопатки или поломка механизма в милой игрушке, – заболевал: резко поднималась температура, и он проваливался в жар, чтобы, оттолкнувшись от жестокого берега, уплыть из детского горя в лодке полусна-полубреда на остров одиночества и после, перемолов там в мелкий песок и развеяв по берегу мучительную память, вернуться обратно в жизнь. Особо долгим было его возвращение после смерти матери.
Проницательный Бутин догадался о причине его болезни, но на всякий случай прислал врача-поляка. Врачебным талантом Оглушко, безошибочно угадывающим под телесными симптомами их психологический исток, он явно не обладал, потому, найдя инфлюэнцию, прописал только жаропонижающее – и откланялся. Впрочем, для Крауса, попавшего, как в детстве, на остров полусна-полубреда, это было и лучше: душевную муку он мог превозмочь только в одиночестве.
И все-таки превозмог.
Литературный труд Вагена Бутин пообещал издать здесь, в Нерчинске, где открыл свою типографию – местные казенные типографии работали, по его словам, медленно, дурно, да и брали слишком дорого: щедрый на меценатство, помогающий всем, кто попросит, устраивавший для рабочих бесплатные столовые, Михаил Дмитриевич тем не менее в своих делах искал малейшей возможности снизить цены на необходимые для приисков и заводов закупки, а также на их доставку. Он вел огромную торговлю, имел своё пароходство: три парохода и семь барж, – Русское географическое общество наградило его даже серебряной медалью за описание новых торговых дорог для торговли с Китаем. Бутин только что получил ещё одну награду – орден Святого Станислава 3-й степени. Теперь он добивался продолжения рельсового пути по всей Сибири и, пытаясь убедить правительство в этой необходимости, писал, что «только при этом условии можно пробудить к жизни обширную и богатую, но вместе с тем почти безлюдную территорию… Устройство железной дороги в Сибири тем более нужно, что Китай с его переполненным населением… по-видимому, близок к тому, чтобы начать жить иною жизнью, и скоро такое соседство, не отделяемое никакими непроходимыми преградами, может сделаться для нас далеко не безопасным». Свои статьи он иногда зачитывал за обедом, полагая их необходимость для развития гражданского чувства у своих приказчиков и служащих.
Когда Краус выздоровел, Бутин предложил ему съездить на неделю в Иркутск развеяться и проверить, не пришла ли из Варшавы диссертация Курта. Как бы не пропала, добавил он. Вы свои комнаты сохранили, или в них кто-то живет? Насколько мне помнится, сразу, едва мы стали с вами заниматься, я дал вам сумму, нужную для оплаты квартиры за полгода.
– Сохранил.
– Ну тогда пропасть не должна…
* * *
Вдоль Сибирского тракта – одной из самых длинных дорог того времени – то попадались застывшие журавлиным клином деревни, то подступали к дороге крепенькие почтовые станции, часто чуть в отдалении от них стояли угрюмые тюремные этапные избы, дававшие краткую передышку заключенным. Тянулись по тракту арестантские подводы, тянулись груженые караваны торговых подвод купцов русских и зарубежных, везущих свои товары на продажу в Китай, тянулись из Китая подводы с чаем, шелком и фарфором… Верстовые столбы, переправы через реки и речушки, жиденькие перелески и глухое эхо близкой тайги… Как ты говорил, Курт: тайна русской души в ее любви к дороге? Или в самой российской дороге? Для меня, единственный друг мой, ты снова жив, только теперь ты живешь не в Варшаве, а навечно поселился в моей душе. Я издам написанное тобой книгой, твое имя обретет известность, и эта вероломная Полина поймет, кого потеряла. Не говори о ней так, Викот, она не виновата. Любовь неподсудна. Она выше всего. Я не согласен с тобой, Курт! Дружба и верность выше любви как чувства духовные, а не душевные или плотские. Верность, Викот, есть даже в мире птиц. Я забыл, что ты – цапля, Курт…
– Задремали, барин, – выкрикнул хрипло ямщик, – а ведь во-оо-она уже Иркутск!
* * *
Имя младшей дочери канцелярского служителя Девичьего института Егора Алфеевича Зверева – Катя, и она действительно очень похожа, Курт, на свою старшую сестру Анну, только ее чуть выше и тоньше. С того мига, когда я понял: на портрете – она, я не могу забыть ее, но стараюсь всеми силами о ней не думать или думать спокойно, заглушая все чувства, пытающиеся взять верх над моим главным рациональным решением – я теперь не хочу любить. Ты поймешь меня, Курт. Я потерял в раннем детстве маму, которую очень любил, как любят все дети своих добрых ласковых матерей, потерял свою первую любовь Ольгуню и теперь – потерял тебя! Судьба отнимает у меня все дорогое, предлагая взамен одиночество и… И что еще, Викот? Еще – Сибирь! Знаешь, Курт, когда едешь по этой необозримой земле, ощущая ее как одухотворенное Богом пространство, почему-то начинаешь верить в бессмертие… Не могу объяснить сам, откуда во мне такие мысли. Почему я стал ощущать Сибирь как великую, могучую симфонию? То чувство, что охватывает меня, когда я смотрю на Байкал-море или слышу, как переговариваются высокие кедры (кстати, ты помнишь, что орехи их очень вкусны?), больше меня самого, я умещаюсь в нем – и оно, обнимая, не поглощает, а защищает меня. Может быть, Курт, так действует на меня общение с Бутиным? Это русский человек-титан.
* * *
И опять ему улыбнулись окна, выглядывая из желто-красной листвы, и опять, точно приветствуя его, весело скрипнули ступени…
– Папа, мама, к нам Викентий Николаевич! – радостно воскликнула Анна. – Как хорошо, что я дома, у меня сегодня выходной в институте, а Катя на службе, она первый год преподает в женской гимназии. Мы с ней все время вас вспоминаем. Как Нерчинск? Как вам дворец Бутина?
– Стоит дворец.
– Правда, хорош?
– Не хорош, Аннушка, а великолепен, – сказал, выходя в гостиную, Егор Алфеевич. Краусу показалось, что за два с половиной месяца он сильно постарел. Вышла и Елизавета Федоровна, заулыбалась.
– Рады вам, очень рады.
За обедом он рассказывал о Бутине, о его библиотеке, хвалил его способности к языкам, упомянул Серафиму, сообщил, что тот отпустил его на три дня в Иркутск за рукописью, которую должны прислать из Варшавы. О том, что случилось с Куртом (слово «смерть» и Курт он решил никогда мысленно не соединять), сообщать не стал: ни старики Зверевы, ни Анна его не знали, а упоминать Полину Оглушко не хотелось. Но Анна сама о ней заговорила. Ходят упорные слухи, что вот-вот амнистия для участников восстания на Кругобайкальской дороге, сказала она, а пан Романовский ждет не дождется, когда можно уехать на родину: он же богат, с ним поедет и Полина, и она теперь не православная, а католичка.
– Бутин жил с этой Серафимой как с женой, – сказала Елизавета Федоровна, – когда овдовел, это все знали, он ее и в Иркутск привозил. А теперь, говорят, скоро женится на какой-то дворянке…
Провожая, уже в дверях, Анна наклонилась к нему и прошептала: «Za naszą i waszą wolność!» И шелковый ее шепот смешался с шелестом опадающей листвы.
* * *
Домовладелец Юсиц тоже обрадовался ему: о, будете продолжать жить у меня, господин Краус, для меня честь такие постояльцы, как вы.
– Вернусь через месяц, Исаак Самойлович, вы не забыли, что у меня оплачено еще за три месяца вперед?
– Забыл. – Юсиц похлопал себя ладонью по лбу. – Верно сделали, что напомнили, как вы понимаете, мне, мелкому людишке, выгоднее забыть, чем помнить. Вот коли бы я вам дал денег, тогда наоборот. – Голова у него была очень узкая, с двух сторон сплющенная, точно склеены были вместе два профиля, но за счет телесной подвижности и черных ярких глаз он, как шутил квартирующий у Юсица третий год старик Касаткин, имел большой успех у всей иркутской прислуги. И сейчас изнывающий в одиночестве Касаткин, услышав, что внизу идет беседа, спустился со второго этажа.
– Кроме письма, переданного мной посыльному от Бутина, ничего из Варшавы я не получал, может быть, принесли почту без меня? Вы не видели, Иван Селиванович?
Старик тоже о посылке ничего сказать не мог. Спустился вниз и третий квартирант, белорусский меланхоличный дворянин Штейнман. И он почты не видел.
– Возможно, просто еще в пути, знаете, могло всякое в дороге случиться, не отчаивайтесь.
– Я, собственно, ради этого приехал.
– Мне как-то везли вино, заказывал в самом Петербурге, не довезли, косогор, колесо отвалилось, подвода набок, бутыли разбились, вино пролилось. – Юсиц придал своему лицу почти скорбное выражение. – Три года потом судился, чтобы мне возместили убытки.
– Возместили?
Но Юсиц Касаткину не ответил: уличная дверь открылась, и вбежал тот самый рыжий мальчишка-газетчик, что принес однажды Краусу записку от Анны. Он и сейчас держал в руках конверт, хотя сегодня был в гимназической форме.
– А вот и письмецо, – пробормотал Юсиц. – И, конечно, любовное, не мне и не вам, Иван Селиванович, а кому-то из этих молодых господ.
– Викентию Краусу!
Караус взял письмо: оно было от Анны.
– Восстановили, выходит, Потапова-то, раз его сынишка снова учится в гимназии, – сказал Касаткин, когда мальчишка убежал. – А ведь еле с голоду они не померли: детей пятеро, этот старший.
– Вы о нерчинском офицере Потапове? – спросил Краус. И опять у него возникло чувство, что это все с ним уже было: разговор о Потапове и знание, что мальчишка-газетчик именно его сын, и ответ старика Касаткина, внезапно споткнувшегося о выступающий край половицы, но удержавшего равновесие.
– О нем.
И знал: в письме свернулось клубком нежное девичье признание.
«Викентий Николаевич, если Татьяне Лариной был незазорно написать первой Онегину, незазорно и мне. Еще, когда я увидела вас первый раз, душа моя точно запела. А вчерашний ваш визит к нам открыл мне мое сердце: я вас люблю. Если сегодняшний день вы еще в Иркутске, будьте в 7 часов вечера на том же месте. Анна».
Что было делать – он не знал. И когда, прослышав о его приезде, к нему приковылял беспрерывно кашляющий и ругающийся Сокольский, спросил его, как бы он поступил в таком случае, конечно, не называя имени Анны. И тут же о своей откровенности пожалел.
– Напишите ответ: если ты, как все русские дуры, будешь жить романами, останешься на бобах! Любовь ее как рукой снимет, она порвет ваш портретик и вскоре выйдет замуж за преуспевающего иркутского купчика. Поймите, Краус, все это сплошная биология: обезьяны тоже любовно вопят, когда им пришел срок плодиться. А уж кошки… Относитесь к женщинам без поэтического флера. Не подражайте своему тевтонскому идеалисту Вагену!
Краус, не имея сил выговорить слова «он умер» (ты не умер для меня, Курт), достал письмо Адама Каминьского, Сокольский взял его с восклицанием: «О, родной язык! В этой чужой России только он может поднять дух!», но, прочитав, замолчал и, не спросясь, закурил, сжавшись в кресле, как старый гриб-дождевик, который, если на него наступить, выпускает коричневый дым, – такие росли здесь на окраинах, в лесочке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































