Текст книги "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки"
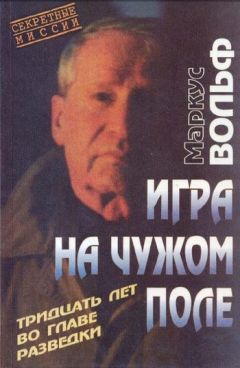
Автор книги: Маркус Вольф
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Во время следующих выборов в бундестаг в конце сентября 1969 года предпосылки изменились. При минимальном большинстве голосов этот бундестаг, первое заседание которого началось речью председательствующего по старшинству Вильяма Борма, провозгласил рождение социал-либеральной коалиции. Борм был одним из источников наших сведений, которые помогли нам, как в мозаике, составить картину эволюции Вилли Брандта от солдата холодной войны и политика фронтового города к стороннику “новой восточной политики” взаимопонимания. Информация моей службы побудила Ульбрихта осторожно скорректировать свои высказывания об отношениях между ГДР и ФРГ. Это свидетельствовало о его хорошем чутье. Хонеккеру в то время было еще далеко до такой тонкости восприятия.
В отношении Борма к моей службе решающей была возможность обмена мнениями, равновесие между “дать” и “брать”. Во мне он видел компетентного и в то же время неортодоксального собеседника, от которого он мог ожидать важной информации, давая, в свою очередь, важную информацию нам.
В разговорах на частные темы я еще больше узнал Вильяма Борма как человека. О том, что в первую мировую войну он ушел на фронт добровольцем, а в годы Веймарской республики вступил в праволиберальную Народную партию, я знал. В “третьем рейхе” он как руководитель предприятия получил звание “фюрера военной экономики”. После взятия Берлина советские власти его не арестовали только потому, что все военнопленные, рабочие его предприятия, говорили о нем только хорошее. Членом нацистской партии он не был никогда и, тем не менее, говорил о своей “виновности”, поскольку не оказывал сопротивления. Это беспокоило его до конца дней, и об этом он говорил публично. Никогда более он не допустит, чтобы несправедливость не встречала отпора. “Не в том ли заключается мужество, чтобы отстаивать свои убеждения?” – спрашивал он.
В этих беседах я больше узнал и о взглядах Борма как либерала, и о некоторых других сторонах мировоззрения, поддерживавших его во время ареста. Это было масонство, которое в понимании Борма представляло нечто общее с либерализмом: братство и служение – эти центральные понятия масонов определяли для него суть либерального мышления. Понятие либерализма в конце концов он отверг, потому что оно, по его мнению, перестало быть свободным и независимым течением, а вместо этого сомкнулось с оппортунизмом, делячеством и чистоганом.
Его политические максимы сделали старого либерала Борма патернальной фигурой для молодой части партии, которой он отнюдь не противостоял как умудренный знаниями, а был ее единомышленником. В своем мышлении он сам был молод и радикален. Он часто повторял фразу: “Еретическое сегодня станет банальностью завтра”.
Когда правление СвДП высказалось за “двойное решение” НАТО, Борм был его единственным членом, голосовавшим против. В 1981 году, призвав к борьбе против “атомного самоубийства”, он встал во главе оппозиции внутри партии. В августе того же года “Шпигель” опубликовал остро критическую статью Борма в адрес внешней политики тогдашнего министра иностранных дел Геншера.
Насколько непринужденно Борм вел себя с моими людьми и со мной, свидетельствует та открытость, с которой он характеризовал своих коллег по партии. При всей своей точности она никогда не носила характера доноса. Геншера он считал комбинатором на вторых ролях, но никак не стратегом. Он озабоченно наблюдал, как в Бонне Геншера все чаще видят на так называемых частных встречах с Гельмутом Колем. Он порицал Геншера за то, что тот готов был сделать поворот назад в политике, но он не считал его непорядочным как личность. Только еще набиравшего тогда силу Юргена Меллемана он просто презирал и насмешливо называл его Мюммельманом (зайцем). Геншера он критиковал за то, что тот поддерживает именно таких карьеристов.
Борм, казалось, не собирался порывать со СвДП, и тем более неожиданным был этот разрыв для нас. Последствия, которые вызвало вступление СвДП в правительственную коалицию с ХДС, опрокинуло все политические расчеты. Заявив протест, партийная оппозиция в ноябре 1982 года покинула зал заседаний берлинского съезда СвДП. “Неужели я после этого должен был остаться сидеть там?” – спросил меня потом Борм.
Это было концом его партийно-политической карьеры. Правда, сторонники избрали его почетным председателем вновь основанной Партии либеральных демократов, но сам он трезво считал, что у этой партии нет будущего.
С этого времени Борм полагал своей задачей и полем деятельности движение за мир. Он также занялся мемуарами, в чем я его поощрял. В 1981 году его видели в ряду левых демонстрантов и как оратора на 300-тысячном митинге в Бонне; в следующем году вместе со многими известными людьми он был инициатором Манифеста мира 1982 года. Осенью 1983 года он участвовал в более чем миллионной демонстрации против предполагаемого размещения на территории Федеративной республики атомного оружия США. Когда в ноябре после бурных дебатов бундестаг большинством голосов одобрил размещение ракет и первые “Першинги-2” были привезены в хранилище в Мутлангене, 88-летний Борм сидел вместе с другими демонстрантами в парке около ракетной базы. Долгий жизненный путь привел его от службы добровольцем в кайзеровской армии в лагерь последовательных противников войны.
Вильям Борм, насколько я его узнал, был настоящим немцем, который строил свое политическое мышление и соответственно свою жизнь, неизменно опираясь на историю Германии. В то же время он был убежденным либералом и уважительно относился к мнению других. После его смерти 2 сентября 1987 г. федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер написал в своем соболезновании: “Его жизнь определялась убежденностью демократа, который, не сбиваясь с пути, неуклонно боролся за свободу и демократию даже ценой своей собственной свободы. Он никогда не останавливался перед жертвами, когда ему приходилось защищать свои основополагающие принципы. Его слова, даже если часто они были неудобными, значили много. Его слышали далеко за пределами его собственной партии. Он не боялся конфликтов. Но, в сущности, он был воодушевлен стремлением преодолевать перегородки, и не только между поколениями, но и между немцами в разделенной родине”. Либеральные демократы писали о своем почетном председателе: “Вильям Борм создавал немецкую историю. Хотя как раз он и пострадал от многолетнего одиночного заключения, он был духовным первопроходцем мирной политики в отношении Востока, политики примирения как раз тогда, когда многим другим это казалось невозможным. Он был первым политиком на Западе, которому один из университетов ГДР присвоил звание почётного доктора как высшую степень признания его усилий. Одновременно он сочетал в своей личности противоречия, присущие немецкой современности”.
Более правдиво и метко, нежели эти слова высокоценимого им федерального президента и его друзей, либеральных демократов, и нельзя было почтить память Вильяма Борма.
Габриела Гаст принадлежит к тем, с которыми мне особенно трудно было порвать нити, связывавшие нас на протяжении десятилетий работы в разведке. Эта женщина была белой вороной, исключительным явлением в мире, где доминируют мужчины. Единственная женщина в западногерманской разведке, достигшая руководящего поста в качестве главного аналитика по Советскому Союзу и Восточной Европе, благодаря чему она стала для нас таким источником, о котором каждая разведка может только мечтать. Длительное время в ее обязанности входило составление для канцлера сводного доклада из всей получаемой информации.
При поверхностном знакомстве можно было легко поддаться опасности причислить Габи Гаст, с ее сложным характером, высоким интеллектом и образованностью, к типу холодной эмансипированной женщины с ярко выраженным тщеславием. Такой психологический портрет был бы, однако, совершенно чужд ее сути, потому что в нем не остается места ее чуткости, неповторимости и отзывчивости по отношению к другим. Сотрудники моей службы, которые вышли на первый контакт с ней и встречались с ней чаще, чем это было возможно без угрозы делу, могли бы сказать больше меня, живи они сейчас. Они были умными людьми, отличавшимися не только терпением – основной добродетелью разведчика, но и большим психологическим чутьем. К Габи они относились по-отечески и были носителями того мировоззрения, которое стало ее собственным. Через них Габи Гаст чувствовала свою принадлежность к сообществу, которое выступает за правое дело, за благородный идеал. Я неоднократно убеждался, что эта прочная идейная связь, как и для других людей буржуазного происхождения, связавших себя с нашей службой, была для нее определяющим мотивом.
Ее чувство социальной ответственности не ограничивалось теорией: когда ее брат с женой, взяв на воспитание ребенка-инвалида, не нашли в себе сил выдержать такую эмоциональную нагрузку, Габи взяла на себя требовавшую столького времени и душевного напряжения заботу о мальчике, чтобы он не был отдан в приют.
Когда Габи Гаст в конце 60-х годов работала над своей диссертацией о положении женщины в ГДР, она впервые посетила ее с целью сбора материала и познакомилась с двумя сотрудниками моей службы. С 1968 года один из них, выдававший себя за Карла-Хайнца Шмидта, стал ее постоянным ведущим, и их отношения перешли в любовную связь.
Когда в 1973 году она защитилась у Клауса Менерта, известного специалиста по Восточной Европе, западногерманская разведка предложила ей место аналитика. Строгие условия ее нового работодателя не разрешали ей больше выезды в ГДР. Встречи для Габи возможны были только со многими сложностями во время отпуска в третьих странах.
Ее работа для нас была превосходна. Она имела доступ ко многим внешнеполитическим учреждениям в самой Федеративной республике и к НАТО, а также к докладам об оценке положения в восточном блоке. Мы обязаны ей нашими сведениями о позициях Запада по отношению к Востоку, что позволяло нам выработать правильную оценку, когда в начале 80-х годов внутренняя политика Польши претерпела драматические изменения.
Аналитические материалы, которые она составляла для нас, свидетельствовали о ее выдающихся способностях, умении выделить и обрисовать самое главное. Я знаю, что и ее начальники в БНД разделяли эту точку зрения. Когда нам нужны были оригинальные документы, она изготовляла микрокопии, которые прятала в туалетных или косметических принадлежностях. Поначалу Габи Гаст прятала материалы для нас в туалетах поездов, следовавших из Мюнхена на Восток, но это было слишком рискованно и сложно, поэтому дело было поручено курьеру, который забирал их в Мюнхене в основном в кабинах для переодевания в плавательных бассейнах.
Поскольку Габи за короткое время стала одним из наших главных источников, я счел разумным в середине 70-х годов встретиться с ней сам. Мы увиделись в бунгало на побережье югославской Адриатики. Сначала мы чувствовали себя несколько скованно, но чем дальше, тем больше наш разговор становился непринужденным и захватывающим. Острый и живой ум этой женщины произвел на меня глубокое впечатление.
Когда несколько лет спустя мы увиделись вновь, я отметил, что на ней сказались длительное напряжение от конспиративной работы, личные проблемы и бремя ответственности за ребенка. Однажды мы говорили с ней о Нюрнбергском процессе. После этого она прислала мне книгу с видами Нюрнберга, сделав при этом надпись: “Новый Нюрнберг – старый за новыми фасадами или новый за восстановленными старыми стенами? Через тридцать лет после “Нюрнберга” борьба должна продолжаться”. Боевой дух в ней не угас. Проблемы начали возникать потому, что контакт между ней и нами становился все менее личным, все более опосредованным, так что она даже начала нас спрашивать, “не становится ли она винтиком в машине”. Из разговоров с ней я понял, как для нее важно, чтобы все, что она для нас делает, было исполнено смысла. Появившиеся было у меня опасения, что она хочет отказаться от работы с нами, оказались несостоятельными. Габи только хотела открыто поговорить со мной о своей ситуации и о своих политических заботах. Она прогнозировала, что автономные реформаторские движения распространятся из Польши на весь восточный блок. Она считала, что большая самостоятельность малых государств, их возросшее самосознание являются логическим следствием преимущественно экономических процессов. От нее, конечно, не укрылась моя озабоченность застоем в социалистической системе, особенно после смерти Андропова.
Была одна встреча, когда мы очень серьезно с ней поговорили и после которой нам было о чем подумать.
Карьера нашего важнейшего информатора, казалось, неудержимо шла вверх. О том, сколь высоко ценили ее в ведомстве, свидетельствует тот факт, что в 1986 году ей было поручено составить секретный доклад для федерального канцлера о том, что западногерманские фирмы подозреваются в участии в строительстве в Ливии завода по производству химического оружия. Годом позже она была назначена заместителем руководителя Отдела восточного блока в западногерманской разведке.
После развала ГДР у нас состоялась еще одна встреча в Зальцбурге в начале 1990 года, на которой мы, так сказать, подводили итоги. Все документы, к которым она имела отношение, были уничтожены, чтобы избежать ее идентификации. Но это оказалось заблуждением.
Как выяснилось, некоторые сотрудники нашей разведки пришли к мысли обезопасить себя в воссоединенной стране доносами на других. Особенно в этом отличился Карл-Кристоф Гроссман (всего лишь однофамилец Вернера Гроссмана). Он дал решающую улику против Габи, поскольку слышал, как другие сотрудники говорили, что одна женщина с ребенком-инвалидом в западногерманской разведке работает на нас. Поздней осенью 1990 года она была арестована на австрийской границе.
После известия о ее аресте, приведшего меня в состояние шока, я спрашивал себя: а не следовало ли мне отпустить ее уже тогда, в середине 80-х годов, открыто поделиться с ней моими сомнениями и признаться, что “реальный социализм” уже и для меня стал миражом и я в него больше не могу верить? В письме из следственной тюрьмы она обрисовала мне свое положение и особенно свой ужас, когда поняла, что ее предал один из руководящих офицеров нашего центра, что случилось как раз то, что, вопреки моим неоднократным заверениям, никогда и ни при каких обстоятельствах не должно было случиться.
Прошло два года между нашим обменом письмами и новой встречей на моем процессе. То, что ее выступление в качестве свидетельницы, привезенной из тюрьмы, стало для нее большой нервной нагрузкой, было заметно. В перерыве мы смогли с ней побеседовать без помех и договорились встретиться как можно скорее, чтобы подробнее обсудить все, что нас волновало. В начале февраля 1994 года дела сложились так, что Габи Гаст после сокращения наполовину срока заключения была выпущена на свободу. В конце марта она приехала ко мне. Мы часами гуляли и говорили до глубокой ночи.
Она постоянно возвращалась к тому, что мучило ее на протяжении всех лет заключения: откуда допрашивавшие ее следователи получили такие подробные сведения? Поведение Карла-Хайнца Шмидта, ее Карличка, который в суде именовался совершенно иначе, и ее последнего ведущего офицера стало для нее тяжким разочарованием. Возвратившись домой, она написала мне, что наши беседы облегчили ей осмысление прошлого, хотя и принесли новые глубокие огорчения.
Правда может не только помогать, но и причинять боль. Именно в этом письме я вновь почувствовал незаурядность ее характера и душевную чуткость. Поэтому я хотел бы верить, что на “пути познания” мы и впредь будем постоянно встречаться с ней и не пропадет то, что пришло на место нашей работы в разведке – дружба.
Блеск и нищета шпионажа
Сейчас, когда холодная война стала достоянием истории, легко сделать вывод, будто Советский Союз был слабым, недостойным противником, во многих отношениях уступавшим своему главному сопернику – Соединенным Штатам, и чуть ли не изначально был обречен на провал. Однако в течение четырех десятилетий, когда конфликт этих сверхдержав определял мировую политику, так вовсе не казалось. Напротив, движимый страхом, что Москва выполнит обещание Никиты Хрущева догнать и перегнать капиталистические страны, Запад на всю мощь запустил машину беспрецедентного в истории наращивания шпионских и пропагандистских усилий. Помимо того, Запад был глубоко уязвлен несомненными успехами советской разведки. В свою очередь, разведку и контрразведку восточного блока подгонял страх перед декларированной Западом политикой “отбрасывания коммунизма” и угрозой рейгановских “звездных войн”. Каждый из противников опасался, что стратегически может взять верх другая сторона.
Как бывший шеф одной из самых действенных и успешных разведслужб социалистического лагеря, я способен правильно оценить как наши успехи, так и неудачи.
В разведывательных кругах Востока и Запада я имел репутацию “человека Москвы” в восточном блоке. Так ли это было на самом деле? И да, и нет.
Если кто-то предполагал, что я по понедельникам с утра звонил в Кремль или в КГБ, чтобы получить инструктаж, то он ошибался. Но если он считал, что я пользовался доверием и взаимным уважением самых влиятельных фигур внутри Советского государства с самых ранних послесталинских дней вплоть до распада восточного блока, то он прав. Благодаря свободному владению русским языком и тем корням, которые связывали меня с Советским Союзом в 30-е годы и в годы второй мировой войны, я был в уникальной позиции, позволявшей судить и изнутри, и извне о его политической стратегии и действиях советских секретных служб на протяжении всей холодной войны.
Советская разведка имела громадные успехи в Америке и Европе перед второй мировой войной, когда у нее были исключительные возможности опереться на компартии и интеллигенцию, симпатизировавшую Москве, особенно в Германии и Англии, а также в США. Советский Союз был маяком, который привлекал к себе (и к своим разведывательным службам) людей, руководствовавшихся глубокими убеждениями. Агенты, завербованные в то время, были лучшими, ибо служили идеи. Они-то и дали Советскому Союзу возможность не отстать в ядерной гонке, и, кстати, многие из них остались нераскрытыми даже после маккартистских чисток и бегства в Канаду в 1945 Игоря Гузенко.
Советская разведка всегда была моделью и образцом для зарубежных разведок в послевоенные годы. С середины 50-х годов мы часто приезжали для консультаций с руководителями советской зарубежной разведки из Первого главного управления, а также для более общего инструктажа с шефом КГБ. Тогда мы были уверены, что наши наставники относились к нам как к простым подчиненным с окраин огромной империи.
После 1953 года в наших отношениях с КГБ возникла некоторая напряженность из-за изменений, происшедших в советском руководстве после смерти Сталина и казни его ближайшего соратника палача Лаврентия Берия. После Сергея Круглова, который сменил Берия, пост перешел к Ивану Серову; он формировал советские структуры в Восточной Германии: организовал штаб-квартиру КГБ в Берлине, назначил представителей КГБ во всех округах ГДР, создал огромный Департамент военной разведки в Потсдаме. Серов был за то, чтобы ГДР сама вела собственные разведывательные и контрразведывательные операции.
Я впервые встретился с ним в марте 1955 года на совещании представителей служб безопасности восточного блока. Он всегда был в мундире – ив буквальном, и в переносном смысле этого слова, и в своих речах всегда сосредоточивался на необходимости объединить наши усилия против общего врага – США. Моим советским ангелом-хранителем был Александр Панюшкин, бывший посол в Вашингтоне, а позже руководитель Отдела загранкадров в Центральном Комитете КПСС.
Серова на его посту сменил властный и амбициозный Шелепин, который продержался только три суровых года. Его приемником стал Владимир Семичастный. Это был доброжелательный и дружелюбный руководитель. Но за внешней приветливостью скрывался умный, расчетливый, идеологически жесткий человек, который сделал стремительную карьеру в КГБ, сумев занять правильную позицию и перейти на нужную сторону, когда в 1964 году Хрущев был смещен со своего поста и его пост занял Леонид Брежнев. Семичастного мало интересовала внешняя разведка, которую он целиком доверил Александру Сахаровскому, глубоко уважаемому как своими коллегами, так и мной. Впрочем, ко мне лично Сахаровский относился как к сыну, что соответствовало и разнице в возрасте.
…Все изменилось к лучшему с приходом Юрия Андропова в качестве руководителя КГБ в 1967 году. Наконец-то появился человек, которым я восхищался, не связанный протоколом и далекий от мелких интриг, которые занимали умы его предшественников на этом посту. Он был свободен от советского высокомерия, когда автоматически полагалось, что эта великая империя безупречна. Лучше многих других в Москве он понимал, что военные вторжения в Венгрию в 1956 году, а позже в Чехословакию в 1968 году свидетельствовали скорее о слабости Москвы, чем о ее силе. Он делал все возможное, чтобы подобное не повторилось. Андропов отличался от всех своих предшественников и преемников на посту руководителя КГБ и как политик, и как человек. Горизонт его интересов был много шире. Он понимал основные аспекты внутренней и внешней политики, идеологические и теоретические проблемы, необходимость радикальных перемен и реформ, а также их последствия и опасности, связанные с ними.
В отличие от его предшественников, Андропова больше всего интересовала внешняя политика и иностранная разведка. Он также произвел управленческие реформы в структуре КГБ и ввел систему более строгой отчетности. Что касается деятельности за рубежом, он быстро понял, что традиционная практика шпигования посольств, торговых представительств-и других официальных учреждений агентами КГБ легко отслеживалась контрразведками этих стран. Я знаю это и по моему собственному опыту, как правило, неудачных попыток вести наших агентов из посольства в Вашингтоне: они с трудом могли даже покинуть здание посольства без хвоста ФБР. Еще одним недостатком работы под дипломатическим прикрытием был риск репрессивных дипломатических отзывов, когда любой агент, работающий под посольским или иным прикрытием, мог быть выслан в 24 часа в качестве ответной меры противоположной стороны. Достаточно вспомнить, как однажды англичане выслали одновременно 105 подозреваемых в шпионаже работников советского посольства в Лондоне. Андропов же предложил сделать больший упор на внедрение “нелегалов” (т. е. засылку агентов на чужую территорию под фальшивыми документами и “легендой” о причинах пребывания); конечно, такая практика, хотя и более профессиональная, не вызывала энтузиазма среди сотрудников, которые предпочитали иметь формальную защиту.
Но этот упор в работе разведки на нелегалов был для нас реальностью, вызванной необходимостью, и с ней пришлось смириться. Так как ГДР не была дипломатически признана на Западе, пока не был подписан Основной договор с Западной Германией, у нас все равно не было такой роскоши, как возможность использования посольств для своей деятельности, и нам легче было принять курс Андропова на работу с “нелегалами” (мы еще до его предложения пользовались этим старым термином большевиков – “нелегал”). Андропов внимательно ознакомился с нашими методами работы и пришел к выводу, что благами легализованного положения должно пользоваться меньше агентов и больше агентов следует отправлять нелегально, с тем чтобы они самостоятельно действовали по обстоятельствам. Он тщательно изучил деятельность разведки ГДР и попросил меня подробно объяснить схему работы с агентами. Я был польщен и рад поделиться своим опытом и знаниями.
Мы никогда не обменивались сведениями о подлинных именах агентов. Первое правило нашей разведывательной традиции заключалось в том, что каждый знал только то, что ему полагалось знать. Это разумное ограничение часто предотвращало взаимные упреки, если появлялся предатель, и взаимные обвинения различных служб.
Если же рассматривать влияние Андропова в более широком плане, то я знаю, что многие его реформаторские идеи были заимствованы Горбачевым и позже выданы им за свои. Андропов признал, что одна из причин резкого отставания советской экономики от западной заключалась в централизованном контроле и тотальном разделении военного и гражданского секторов. Гигантские правительственные инвестиции в военно-промышленный комплекс в США и других развитых капиталистических странах давали спиральный эффект в гражданских отраслях высокоприбыльного использования передовой технологии, например в развитии реактивной авиации или производстве компьютеров. В Советском Союзе, где секретность была фетишем, это было невозможно, что могли бы подтвердить и представители ГДР по собственному опыту общения с военно-промышленными ведомствами СССР. Когда я затронул эту проблему в беседе с Андроповым, он сказал мне, что пытается привить подобное понимание через различные комитеты, где он собрал и военных, и гражданских экспертов, которые должны были извлечь уроки из сравнения двух соперничающих экономических систем. Андропов рассматривал разведку как важный инструмент получения знаний для совершенствования социалистической системы, и его стремление изучать другие пути резко отличалось от окружавшего его застойного мышления. Он размышлял о возможности социал-демократического “третьего пути”, за который выступала Венгрия и некоторые силы в ГДР, и даже в период репрессий против диссидентов в Союзе, за что он же и был ответствен, и в частном порядке обсуждал эксперименты политического плюрализма и экономического либерализма в Венгрии.
Я часто думал, что сделал бы Андропов, если бы ему было отпущено лет десять, а не то короткое время у власти, когда он был уже тяжело болен. Он наверняка не сделал бы того, что сделал Горбачев. Он выражал надежду, что каким-то способом можно совместить социалистическую собственность со свободным рынком и политической либерализацией, но наверняка его шаги к реформам были бы более тщательно продуманы.
К социалистическим странам Андропов никогда не относился покровительственно, как его предшественник Брежнев или как сменивший его Черненко. Вячеслав Кочемасов вспоминает, что, когда его назначили послом в Берлине, Андропов сказал ему: “Нам нужен новый посол в ГДР, а не колониальный наместник”. Привел бы отказ от старого русского имперского стиля к успешному реформированию социалистической системы – остается открытым вопросом.
Возможно, эти воспоминания помогут решить парадокс, который Андропов представлял для Запада. Его рекламировали как человека либерального, даже любителя джаза, и вместе с тем западные аналитики не могли найти объяснения его жесткости по отношению к диссидентам. Они не поняли главного. Я могу засвидетельствовать, что он безусловно был за проведение реформ, но не в западном духе – он посчитал бы их анархическими. Реформы Андропова проводились бы сверху вниз, со всеми ограничениями, неизбежными при таком подходе. И все же я полагаю, что это было бы более разумное и выверенное движение к реформам.
То, что я восхищался Андроповым, вовсе не означает, что я всегда добивался от него желаемого, особенно когда предпринял в 1978 году попытку обменять кого-либо на Гюнтера Гийома. Я просчитал, что Бонн может освободить Гийома только в обмен на какую-нибудь действительно крупную фигуру со стороны Москвы. Это подтвердило бы ее репутацию сильных партнеров в глобальной дипломатической игре, а включение в обмен нескольких западногерманских агентов сделало бы всю операцию более приемлемой с внутриполитической точки зрения ФРГ. Когда я подбирал возможные подходящие кандидатуры на обратной стороне какого-то конверта, я вдруг понял, что ключ к решению – как, впрочем, и главная трудность – это Анатолий Щаранский, вернее, то, что Кремль просто помешался на нем.
Так же, как моралист и хроникер ГУЛАГа Александр Солженицын, так же, как диссидент и ученый, создавший атомную бомбу, а потом ставший борцом за права человека Андрей Сахаров, Щаранский за пять лет неустанной борьбы за права евреев получил статус диссидента с большой буквы. Это можно отнести за счет его “харизмы”, а также за счет везения – он встретился с симпатизирующими ему журналистами, ведь существовали сотни не менее страстных борцов за права человека, но их имена совершенно не известны в СССР. Застенчивый, но несгибаемый академик Сахаров стал объектом прямо-таки патологической ненависти со стороны КГБ и партии. Я знал из предыдущего опыта общения с Москвой, как они разбираются с внутренними врагами – просто пытаются избавиться от них. Солженицына посадили в самолет и отправили в Германию, Сахарова – по личному распоряжению Андропова – сослали не за рубеж, а в Горький. Почему бы так же не избавиться от Щаранского? Но у Андропова было на этот счет совсем другое мнение.
“Товарищ Вольф, – сказал он мне, – разве вы не знаете, что произойдет, если мы дадим такой сигнал? Этот человек – шпион (Андропов думал, что Щаранский связан с ЦРУ), но еще важнее то, что он – еврей и выступает в защиту евреев. Слишком много групп людей пострадали от репрессий в нашей стране. Если мы освободим Щаранского – борца за права евреев, то и другие народности могут последовать этому примеру. Кто же будет следующим? Немцы Поволжья? Крымские татары? Может быть, калмыки или чеченцы?” В КГБ для этих народов, изгнанных Сталиным с их родных земель, даже изобрели бюрократический термин, который я никогда раньше не слышал, – контингентирование, от слова “контингент”, имея в виду “квоту” “ненадежного населения”. Этот контингент рассматривался как потенциально враждебный, и Андропов полагал, что в общей сложности их насчитывалось – астрономическая цифра – восемь с половиной миллионов человек. “Мы не можем в эти трудные времена разрешить эти проблемы одним махом, – продолжал он, – если мы откроем все клапаны и народ начнет вываливать все свои беды и претензии, нас захлестнет эта лавина, и мы не сможем ее сдержать”.
Это был тот правдивый Андропов, которого я знал в прежние времена, отбрасывающий надуманные и лживые официальные версии и раскрывающий подлинный смысл непримиримой позиции СССР в отношении прав человека: страх – страх заложенного в сталинском наследии конфликта с потенциальными врагами внутри страны. Щаранский мог бы стать ключевой фигурой не только для советских евреев, но и многих, многих других из “контингентированных”.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































