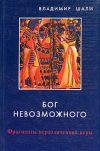Текст книги "Титус Гроан"

Автор книги: Мервин Пик
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
«ЕЛОВЫЕ ШИШКИ»
Ветер стих, но воздух был холоден, и Стирпайк похвалил себя за то, что прихватил накидку. Он поднял жесткий ее воротник, почти закрывавший уши. Никуда, в частности, он не спешил, просто вышел на ночную прогулку. Передвигался он своей всегдашней полупоступью, полупробежкой, отчего казалось, будто юноша этот вечно бежит выполнять некое тайное поручение, да так оно, по внутреннему его чувству, на самом деле и было.
Он вошел в глубокие тени под аркой, затем снова возник в лежащем за арочным проходом полусвете-полутьме, словно часть чернильного мрака, пробудившаяся и оторвавшаяся от основного его тела.
Долгое время он держался поближе к замковым стенам, неуклонно двигаясь на восток. Первое намерение его, состоявшее в том, чтобы совершить своего рода détour[13]13
Обход (фр.).
[Закрыть] террас и лужаек, по которым прогуливается перед завтраком Графиня, было теперь отставлено, ибо едва Стирпайк выступил в путь, как уже его охватило наслаждение тем, что он шагает один, совершенно один под светом звезд. Прюнскваллоры его ждать не станут. У него имелся собственный ключ от парадной двери и, вернувшись, он, как и в прочие ночи, после таких же вот поздних прогулок, нальет себе на сон грядущий стаканчик коньяка и, может быть, позаимствует у Доктора немного табаку для своей кургузой трубчонки.
Или же он может, что также нередко делалось им по ночам, зайти в аптеку и позабавиться составлением какого-нибудь губительного зелья. Приходя туда, Стирпайк первым делом устремлялся к полке с ядами и смертельно опасными порошками.
Он наполнял четыре тонких склянки самыми убийственными из этих смесей и уносил их в свою комнату. Он быстро усвоил все, что рассказал ему на сей счет Доктор, обладавший обширными познаниями по этой части. Под его руководством юноша, собирая росшие в окрестностях ядовитые травы, приготовил из них, путем перегонки, немало смертоносных настоев. Доктору эксперименты Стирпайка представлялись забавными – с чисто научной точки зрения.
Или же можно, вернувшись к Прюнскваллорам, заняться чтением одной из многих книг Доктора – в те дни Стирпайком владела страсть к накоплению всех и всяческих знаний, но лишь как к средству для достижения цели. Ему необходимо знать все, ибо только так сумеет он, в предвидении положений, которые могут возникнуть в будущем, держать на руках полную колоду карт. Он представлял себе ситуации, в коих разговор с человеком, способным стать подспорьем в его продвижении, коснется вдруг астрономии, метафизики, истории, химии или литературы, и понимал, что умение вставить в такой разговор суждение яркое и точное, суждение, которое будет выглядеть итогом учености, приобретенной трудом всей жизни, способно мигом принести ему выигрыш больший, нежели часы хождения вокруг да около в ожидании, когда беседа вдруг обратится к предметам, принадлежащим к кругу его понятий.
В будущем он видел себя человеком начальствующим. Помимо способности быстро принимать смелые решения, он обладал еще и бесконечным терпением. И вечерами, читая после того, как Доктор и Ирма укладывались спать, он шлифовал длинный, тонкий вкладной клинок, который некогда приглядел, и который через две недели после того вытащил-таки из груды старого оружия, сваленного у холодной стены. Когда он извлек ее оттуда, рапира была прискорбно тускла, но искусное прилежание и терпение, которое юноша вкладывал во все, за что брался, обратили ее в узкую ленту белой стали. Потратив еще час, он откопал полую трость, привинчивавшуюся к невинной на вид рукояти одним поворотом запястья.
Займется ли он по возвращении клинком или трудом по геральдике, уже почти им дочитанным, или пройдет в аптеку, чтобы растолочь в ступе, подливая в нее красного масла, зеленый, перистый порошок, с которым он экспериментировал в последнее время, или же на него нападет такая усталость, что он просто нальет себе стакан коньяку и поднимется в свою спальню, Стирпайк пока что не знал, да он и не заглядывал в будущее на сроки столь краткие. Споро шагая, он так и этак прокручивал в голове не только каждую запомнившуюся фразу из оброненных нынче близняшками, но и общее направление вопросов, которые станет им задавать послезавтрашним вечером.
Мозг его работал, как выверенная машина, он обдумывал возможные ходы и контрходы, но сознавал при этом, что, имея дело с тетушками, строить догадки и планы весьма затруднительно – по причине отсутствия в их головах каких ни на есть логических связей. Приходилось работать с материалом низкого качества, содержащим, однако же, элемент, коего недостает натурам, более возвышенным, – непредсказуемость.
Он достиг уже восточного угла срединной части замка. Слева различались высокие стены крыла западного, выходящие из затемненного плющом, глядящего на закат рукотворного каменного утеса, отрезавшего северные залы Горменгаста от вечернего света. Кремнистая Башня узнавалась лишь как узкий участок неба, долгий, черный, вертикальный очерк каменного властелина, окруженный сгущеньями звезд.
Увидев Башню, Стирпайк подумал вдруг, что так до сей поры и не изучил строений, которые, как ему говорили, уходили в ту сторону. Впрочем, сейчас время для такого похода было слишком позднее, и он решил уже сделать широкий круг по привядшим лужайкам, бывшим в этой части замка лучшим для прогулок местом, когда вдруг увидел приближающийся к нему неясный свет. Он огляделся и приметил в нескольких ярдах от себя черные очертания карликовых кустарников. Присев за одним из кустов на корточки, юноша смотрел, как источник света, в котором он уже признал фонарь, подвигается к нему все ближе и ближе. Похоже, человек с фонарем пройдет от него на расстоянии в несколько футов. Оглянувшись через плечо, чтобы прикинуть, в каком направлении движется фонарь, Стирпайк сообразил, что находится прямо между ним и Кремнистой Башней. Что и кому может понадобиться такой холодной ночью в Кремнистой Башне? Происходящее заинтриговало Стирпайка. Он набросил накидку на голову, оставив доступными для ночного воздуха одни лишь глаза. И замер, точно припавшая к земле кошка, вслушиваясь в близящиеся шаги.
Несший фонарь человек еще не успел отделиться от тьмы, а навостривший уши Стирпайк уже уловил звук размашистой поступи, сопровождаемый мерным треском ломаемой палки. «Флэй», – сказал себе Стирпайк. Но там и еще что-то шебуршит. Между размеренными шагами и хрустом коленных суставов ухо его различило нечто, не столь основательное, сколь поспешающее.
Почти в тот самый миг, как Стирпайк понял, что слышит шелест маленьких ножек, он различил выступившие из ночи, безошибочно узнаваемые силуэты Флэя и госпожи Шлакк.
Скоро скрипучие шаги Флэя прошлись, как показалось Стирпайку, прямо по нему. Оставаясь неподвижным, точно куст, под которым он скорчился, Стирпайк смотрел на быстро проплывавшую над ним развинченную фигуру слуги лорда Сепулькревия, и вдруг слух его резанул неожиданный вопль. Трепет пробежал по спине Стирпайка, ибо если он чего и боялся, так это явлений сверхъестественных. Казалось, кричит какая-то птица, может быть, чайка, но самая близость вопля делала такое объяснение несостоятельным. Никаких птиц этой ночью он поблизости не замечал, да их никогда и не было слышно в этот час, и потому Стирпайк с немалым облегчением услышал, как нянюшка Шлакк нервно зашептала во тьме:
– Ну, ну, единственный мой… Уже скоро, миленькая моя светлость… теперь уже скоро. Ох, бедное мое сердце! и почему обязательно ночью? – Нянюшка, видимо, подняла личико от своей маленькой ноши, чтобы взглянуть на долговязую фигуру, механически шагавшую рядом с ней, но ответа не дождалась.
«А вот это уже интересно, – сказал себе Стирпайк. – Его светлость, Флэй, Шлакк, и все направляются к Кремнистой Башне».
Когда тьма почти поглотила этих троих, Стирпайк приподнялся, поприседал немного, возвращая гибкость опутанным накидкой ногам и, стараясь не выпускать из пределов слышимости хруст Флэевых колен, беззвучно двинулся следом.
Ко времени, когда все они добрались до библиотеки, бедная госпожа Шлакк почти совершенно лишилась сил, ибо она упорно отказывала Флэю, вызывавшемуся понести Титуса, – слуга, вопреки доводам собственного рассудка, делал это всякий раз, как Нянюшка спотыкалась о неровности почвы, а после, уже в бору, запиналась о сосновые корни и плети ползучих растений.
Холодный воздух совсем пробудил Титуса, и хоть он не плакал, ясно было, что путешествие во тьме необычностью своей привело его в полное замешательство. Когда же Флэй стукнул в дверь и все они вошли в библиотеку, младенец начал поскуливать и ерзать на руках няньки.
Флэй воротился во мрак своего угла, где для него было поставлено особое кресло. Он только и сказал:
– Я их привел, светлость. – «Ваша» Флэй, как правило, опускал, почитая это слово ненужным для него, первого слуги лорда Сепулькревия.
– Вижу, – отозвался, подойдя, граф Гроанский, – я потревожил тебя, няня, верно? Снаружи холодно. Я сейчас выходил, чтобы собрать для него вот это.
Он повел Нянюшку к дальнему краю стола. На ковре, под светом ламп, в беспорядке валялись еловые шишки, десятка два, деревянные лепестки каждой срезались тенью, отбрасываемой лепестками, лежавшими выше.
Госпожа Шлакк взглянула на лорда Сепулькревия. На сей раз она, в виде исключения, сказала именно то, что следовало сказать.
– Это для его маленькой светлости, сударь? – спросила она. – Ох, они ему понравятся, правда, единственный мой?
– Усади его среди них. Мне нужно поговорить с тобой, – сказал Граф. – Присядь.
Госпожа Шлакк огляделась в поисках стула и, не сыскав ни единого, жалостно уставилась на его светлость, и тот устало повел рукой, указывая на пол. Титус, уже сидевший там в окружении шишек, брал их одну за другой, вертел в пальчиках и, поднося ко рту, посасывал.
– Не волнуйся, я их промыл дождевой водой, – сказал лорд Гроан. – Садись на пол, няня, садись на пол.
И не дожидаясь, когда она сделает это, Граф сам присел на край стола, скрестив ноги и опершись ладонями о мраморную столешницу.
– Прежде всего, – сказал он, – я заставил тебя проделать весь этот путь, дабы сказать, что я решил устроить здесь, ровно через неделю, встречу всех членов нашей семьи. Я хочу, чтобы ты всех оповестила об этом. Они удивятся. Но пусть их. Придут. Скажи Графине. Скажи Фуксии. Извести также их светлостей Кору и Клариссу.
Стирпайк, который во все это время дюйм за дюймом приоткрывал дверь, уже прокрался, тихо закрыв ее за собою, вверх по лестнице, обнаруженной им сразу налево от входа. На цыпочках, поднялся он к каменной галерее, шедшей вокруг библиотеки. Здесь, точно на заказ, сгущались самые плотные тени. Прислонясь к покрывающим стены книжным полкам, Стирпайк наблюдал за происходившим внизу и беззвучно потирал руки.
Интересно, куда подевался Флэй, гадал юноша, – насколько ему удалось разглядеть, другого выхода, кроме главного, здесь не имелось, а главный был заложен засовом и заперт. Видимо, Флэй, решил он, подобно ему, тихо стоит либо сидит в тени, и поскольку Стирпайк не мог понять, где именно, он старался не производить никаких звуков.
– В восемь вечера я буду ждать его и всех, ты же скажи им еще, что я намерен дать завтрак в честь моего сына.
Пока Граф густо, грустно произносил эти слова, бедная госпожа Шлакк, для которой гнет, томивший его душу, был непосилен, все туже сжимала морщинистые ладошки. Даже Титус почуял, казалось, печаль, струившуюся в неторопливых и точных словах отца. Он оставил шишки и заплакал.
– Ты принесешь моего сына Титуса в его крестильной одежде, возьми также с собой корону прямого наследника Горменгаста. Когда меня не станет, у замка не останется без Титуса будущего. И потому я должен попросить тебя, его няню, с первых же дней мальчика каплю за каплей вливать в его вены любовь к месту, в котором он появился на свет, к его наследию, уважение ко всем писаным и неписаным законам обители его предков… Я стану говорить с ними, хоть это и будет мне стоить душевного покоя: я скажу им то, что сказал сейчас тебе, и многое иное из того, что у меня на уме. За Завтраком, подробности которого будут обсуждены здесь в вечер, отстоящий от нынешнего на неделю, мы провозгласим тосты в его честь. Завтрак состоится в Трапезной.
– Но ему всего только два месяца, малюточке, – вставила Нянюшка сдавленным от слез голосом.
– И все же, времени терять не следует, – ответил Граф. – Да, и скажи мне, бедная старая женщина, отчего ты плачешь так горько? Пришла осень. Листья падают с дерев, точно жгучие слезы, воют ветра. Зачем же и ты уподобляешься им?
Старые глаза, глядевшие на него, затянула поволока влаги. Губы старушки подрагивали.
– Я так устала, сударь, – сказала она.
– Так приляг же, добрая женщина, приляг, – сказал лорд Сепулькревий. – Ты проделала долгий путь. Приляг.
Лежа навзничь на полу огромной библиотеки и слушая, как граф Гроанский произносит где-то вверху фразы, не имевшие для нее смысла, госпожа Шлакк особого удобства не ощущала.
Прижимая к себе Титуса, она глядела в потолок, слезы стекали по щекам ее в сухонький ротик. Титус совсем замерз и уже начал дрожать.
– А теперь дай мне взглянуть на сына, – медленно произнес его светлость. – На моего сына Титуса. Правда ли, что он уродлив?
Няня кое-как поднялась и Титуса подняла повыше.
– Он не уродлив, ваша светлость, – дрожащим голосом сказала она. – Он красавчик, мой маленький.
– Дай мне взглянуть. Держи его выше, няня, поближе к свету. А! неплохо. Он похорошел, – сказал лорд Сепулькревий. – Сколько ему уже?
– Почти что три месяца, – ответила нянюшка Шлакк. – Ох, бедное мое сердце! ему почти уж три месяца.
– Хорошо, добрая женщина, хорошо, закончим на этом. Я слишком разговорился нынешней ночью. Это все, что я хотел – увидеть сына и сказать тебе, чтобы ты уведомила семью о моем желании собрать ее здесь через неделю, в восемь часов. Пускай придут и Прюнскваллоры. Саурдусту я сообщу сам. Ты все поняла?
– Да, сударь, – отозвалась няня, уже направившаяся к двери. – Я им скажу, сударь. Ох, бедное мое сердце, до чего ж я устала!
– Флэй! – окликнул слугу лорд Сепулькревий. – Проводи няню до ее комнаты. Сегодня можешь не возвращаться. Я останусь здесь еще на четыре часа. Приготовь все в спальне, да не забудь оставить каганец на столе у кровати. Можешь идти.
Вышедший на свет Флэй покивал, запалил фитилек своего фонаря, и следом за нянюшкой Шлакк пройдя в дверь, поднялся тремя ступеньками под звездный свет. На сей раз он не стал слушать ее протестов, но, отобрав у Нянюшки Титуса, с осторожностью уложил его в один из поместительных карманов своей куртки, взял на руки крохотную, бьющуюся старушку и торжественно зашагал лесом в сторону замка.
Следом двинулся и Стирпайк, настолько углубившийся в размышления, что он не пытался даже не упустить Флэя из виду.
Лорд Сепулькревий зажег свечу, поднялся по лестнице у двери и прошел деревянным балкончиком к полке, уставленной пыльными томами. Указательным пальцем наклонив один из них к себе, Граф сдул с пергаменового корешка серый прах, просмотрел одну-две начальных страницы и, вернувшись балкончиком, спустился снова.
Когда он достиг кресла и сел, откинувшись на спинку, голова его опустилась на грудь. Книга мирно лежала в руке Графа. Глаза, смотревшие из-под гордого чела, блуждали по библиотеке, пока не уткнулись, наконец, в рассыпанные по полу еловые шишки.
Неожиданный, неуправляемый гнев пронзил его. Каким ребячеством было собирать эти шишки! Титусу никакой радости они не доставили.
Не странно ли, что даже в людях ученых и мудрых кроется некая детскость? Возможно ведь, что вовсе не сами шишки прогневали Графа, но то, что они каким-то образом напомнили ему обо всех его неудачах. Он отшвырнул книгу и тут же снова схватил ее, оглаживая трясущимися руками. Он был слишком горд и слишком подавлен, чтобы попытаться дать себе передышку и стать мальчику отцом хоть в чем-то кроме голого факта; избавиться от своей обособленности было ему не по силам. Он и так уже сделал больше, чем сам от себя ожидал. На завтраке, задуманном им, он произнесет тост в честь наследника Горменгаста. Он выпьет за Будущее, за Титуса, единственного своего сына. Тем все и кончится.
Граф снова откинулся в кресле, но чтение не давалось ему.
КИДА И РАНТЕЛЬ
Когда Кида вернулась к своим, кактусы роняли задержавшиеся на них капли дождя. Дул западный ветер, небо над размытым очерком Извитого Леса давилось мятым тряпьем. Миг-другой Кида постояла, глядя на темные линейки дождя, косо летящие от рваной закраины туч к рваной закраине леса. За непроницаемыми порядками туч скрытно садилось солнце, и лишь малая доля света его отражалась пустынным небом над ее головой.
Мгла эта была ей знакома. Кида привыкла дышать ею. То была мгла поздней осени ее воспоминаний. Но тени, угнетавшие дух Киды в стенах Горменгаста, не примешивались к этой мгле. Вновь соединенная с Внешними, она воздела в знак своего освобождения руки.
– Я свободна, – сказала она. – Я снова дома.
И еще произнося эти слова, она поняла, что правды в них нет. Да, она дома, среди жилищ, в одном из которых родилась. Вон, пообок, стоит, точно давний друг, гигантский кактус, но что осталось от друзей ее детства? Есть ли здесь кто-нибудь, к кому она сможет пойти? Не человек, которому можно довериться, нет. Довольно было бы и такого, к кому она могла бы обратиться без колебаний, кто не стал бы задавать ей вопросов, с кем не будет нужды разговаривать.
Кто остался здесь у нее? Ответ пришел сразу, ответ, которого Кида страшилась: остались двое мужчин.

И внезапно страх, обуявший ее, улегся, сердце в необъяснимой радости встрепенулось и, в самый тот миг, когда тучи, сгущавшиеся над ее головой, перевалили зенит, рассеялись и те, что давили ей сердце, оставив в Киде лишь бестелесный восторг и отвагу, понять которых она не могла. Она шла в сгущавшейся мгле и, миновав пустые столы и скамьи, неестественно светившиеся во мраке от еще покрывавшей их пленки дождя, оказалась, наконец, на окраине Нечистых Жилищ.
На первый взгляд, узкие улочки были пусты. Глинобитные хижины, как правило, не поднимавшиеся выше восьми футов, смотрели одна на другую над улочками, будто над тесными рытвинами, только что не смыкаясь вверху. В этот час на проулки уже налегла бы непроглядная тьма, если б не местный обычай – вешать над дверьми лампы, зажигая их на закате.
Кида свернула за угол, потом за другой, она миновала их несколько, прежде чем увидела первые признаки жизни. Мелкая собачонка той вездесущей породы, представители коей часто трусят бочком по грязным проулкам, проскочила мимо на шелудивых ножках, на бегу притираясь к стене. Кида улыбнулась. С детства ее приучали презирать этих чахлых, роющихся по помойкам дворняг, но в неожиданной радости, переполнившей ее сердце, Кида увидела в собачонке лишь часть собственного существа, своей всеприемлющей гармонии и любви. Дворняга, пробежав еще немного, присела на клочкастый зад и принялась скрести задней лапой зудливое место под ухом. Кида ощущала, как сердце ее разрывается от любви, столь всеохватной, что она вбирает в свою жгучую атмосферу все и вся, просто потому, что оно существует: добро, зло, богатство, бедность, уродство, красоту – и почесушку этой палевой сучки.
Кида так хорошо знала проулки, которыми шла, что темнота не замедляла ее продвижения. Она знала, что запустение слякотных улочек лишь естественно в этот вечерний час, когда обитатели их в большинстве своем сидят, сгорбясь, у очагов, в которых горят корневища. Она потому так поздно и покинула замок, направляясь домой. У здешних жителей водился обычай, в силу которого они, проходя ночью один мимо другого, подставляли лицо под свет ближайшей дверной лампы, а затем, окинув встречного взглядом, шли каждый своею дорогой. Выражения лиц почитались при этом неважными – шансы признать во встречном друга насчитывались небольшие. Соперничество между семьями и разными школами ваяния было безжалостным, ожесточенным и нередко случалось, что один из врагов видел другого, освещенного свисающей лампой, лишь в нескольких футах от себя, однако обычай соблюдался неукоснительно – глянуть встречному в лицо и идти себе дальше.
Кида рассчитывала добраться до дома, отошедшего ей после смерти старого мужа, так, что не придется войти под свет, и Внешний, попавшийся навстречу, ее не узнает, но теперь и это стало ей безразличным. Киде казалось, что переполнившая ее красота – острее лезвия меча и способна защитить ее от любого навета, любых сплетен, от ревности и подспудной ненависти, некогда так ее страшивших.
Что же это нашло на нее? – дивилась она. Безрассудство, столь чуждое спокойной ее природе, и пугало, и захватывало Киду. Самые те мгновения, которые, как ей твердили предчувствия, овеют ее тревогой, – когда все невзгоды, от которых она укрылась в замке, навалятся на нее, ужасая, как непроглядная тьма, – обернулись вечером пламени и листвы, тихо струящейся ночью.
Кида все шла и шла. За деревянными дверьми домов звучали гулкие голоса. Она уже добралась до длинной улицы, ведшей к отвесу наружной стены Горменгаста. Эта улочка была попросторнее прочих, футов в девять шириной, кое-где и в двенадцать. То была главная улица Внешних, место каждодневных встреч враждующих сообществ ваятелей. Старики и старухи сидели здесь у своих дверей или тащились, ковыляя, по своим делам, дети играли в пыли под наползающей тенью великой Стены, постепенно съедавшей улицу и к вечеру поглощавшей ее, и тогда загорались лампы. На кровлях многих жилищ стояли деревянные статуи, солнечными вечерами фигуры восточного ряда тлели и вспыхивали, а западные черными силуэтами маячили в сияющем небе, предъявляя лишь плавные линии да резкие углы, которые так любили сочетать резчики.
Сейчас изваяния терялись во мраке над дверными лампами, и Кида, припоминая их на ходу, тщетно вглядывалась, стараясь различить в небе их очертания.
Дом ее стоял не на главной улице, но на маленькой грязной площади, где дозволялось селиться лишь самым почтенным и почитаемым из Блистательных Резчиков. В середине площади возвышалась гордость Нечистых Жилищ – статуя высотой в четырнадцать футов, созданная несколько столетий назад. То была единственная работа этого мастера, которой владели Внешние, еще несколько созданных им творений хранилось в замке, в Зале Блистающей Резьбы. Относительно личности мастера мнения расходились, но то, что резчиком он и поныне остался непревзойденным, не оспаривалось никогда. Статуя – ее каждый год подкрашивали, восстанавливая начальные цвета, – изображала всадника. Редкостно стилизованная и на удивление простая, исполненная собственных ритмов деревянная громада парила над темной площадью. Чистейшей серой масти лошадь дугой изгибала шею, так что голова ее смотрела в небо, а кольца белой гривы, точно замерзшая пена, вились по загривку, переливаясь через колени всадника, с плеч которого спадал складками черный плащ. Темно-красные звезды были разбросаны по плащу. Всадник сидел очень прямо, но руки его, составляя контраст живой энергии серой, мускулистой лошадиной шеи, вяло свисали по бокам. Резко очерченная голова его была так же бела, как грива, лишь губы и волосы оживляли эту мертвую маску, первые были бледно-коралловыми, вторые отдавали в темно-каштановый тон. Матери иногда приводили шалунов к этой зловещей фигуре, грозя им, если они и впредь будут озорничать, ее немилостью. Детям изваяние внушало ужас, но для родителей их оно было творением, дышащим необычайной жизнью и красотою форм, исполненным непостижимого настроения, мощное присутствие которого в любой скульптуре почиталось у них мерилом ее превосходства.
Об этой фигуре и думала Кида, приближаясь к повороту, который привел бы ее с главной улицы на топкую площадь, когда внезапно услышала сзади звук чьих-то шагов. Впереди дорога оставалась безмолвной, дверные лампы тускло высвечивали небольшие участки земли, не обнаруживая, впрочем, ни единого идущего человека. Слева, за площадью, залаяла собака, и Кида, вслушиваясь в настигавшие ее шаги, услышала вдруг и собственные.
До ближайшей лампы оставалось совсем немного и, сознавая, что если она минует эту лампу прежде преследователя, то придется в темноте идти с незнакомцем до следующей, под которой оба смогут исполнить ритуал взаимного узнавания, Кида замедлила шаг, чтобы поскорее сбыть эту обязанность с рук, позволив преследователю, кем бы он ни был, продолжить путь.
Войдя под свет, Кида остановилась – ни в этом ее поступке, ни в последовавшем за ним ожидании не содержалось ничего необычного, ибо таково было, пусть и нечастое, обыкновенье людей, подходивших к дверным фонарям, обыкновенье, считавшееся, в сущности, проявлением учтивости. Она слегка сместилась вперед, чтобы, когда настанет миг обернуться, свет упал на ее лицо и преследователь получше ее разглядел.
Кида переступила под лампой, свет заплясал в темно-каштановых ее волосах, сообщив самым верхним прядям почти ячменный оттенок, и облил ее тело, полное и округлое, но и прямое, и гибкое, и новые чувства, в этот вечер владевшие ею, приподнятость, возбуждение, вырвавшись из глаз Киды, почти ощутимо ударили в шедшего за ней человека.
Вечер пронизывало электричество, ощущение нереальности, и все-таки, думала Кида, возможно, это и есть реальность, а вся моя прошлая жизнь была бессмысленным сном. Она сознавала, что шаги в темноте, звучавшие уже в нескольких ярдах, были частью этого вечера, которого она никогда не забудет, его она, казалось, уже давным-давно проиграла в себе – или просто предвидела. Она сознавала, что стоит шагам замереть, а ей обернуться к преследователю, пред нею окажется Рантель, более пылкий и неловкий из тех двоих, что любили ее.
Она обернулась, он стоял перед нею.
Они простояли так долгое время. Непроницаемый мрак ночи замкнул их, словно в узкое пространство, в тесную комнату с лампой на потолке.
Кида улыбалась, почти не разделяя спелых, сострадательных губ. Взгляд ее скользил по лицу Рантеля, по темной копне его волос, по мощно выступающему лбу, по теням в глазницах, из которых неотрывно смотрели его глаза. Она видела высокие скулы, щеки, конусом сходящиеся к подбородку. Тонко очерченный рот и мощные плечи. Грудь Киды вздымалась и опадала, она ощущала себя сразу и слабой, и сильной. Она слышала, как кровь струится по ее жилам, и чувствовала, что должна либо умереть, либо расцвесть листьями и цветами. То была не страсть: не жаркое желание тела, хотя присутствовало и оно, но скорей ликование, тяга к жизни, ко всей полноте жизни, какую Кида могла вместить, и средоточием этой смутно угадываемой ею жизни была любовь, любовь к мужчине.
Рантель чуть придвинулся к ней, так что свет больше не падал на его сразу потемневшее лицо, только взлохмаченные на макушке волосы сверкали, как проволочные.
– Кида, – шепнул он.
Кида взяла его за руку.
– Я вернулась.
Он чувствовал ее близость, ее плечи под своими руками.
– Ты вернулась, – сказал он, словно затверживая урок. – Ах, Кида – это ты? Ты уходила. Каждую ночь я ждал тебя.
Руки Рантеля дрогнули на ее плечах.
– Ты уходила, – повторил он.
– Ты шел за мной? – спросила Кида. – Почему ты не окликнул меня там, в скалах?
– Я хотел, – ответил он, – но не смог.
– Почему же?
– Давай уйдем от света и я тебе все расскажу, – сказал он, помолчав. – Куда ты идешь?
– Куда? Куда ж мне идти, как не туда, где я живу – в мой дом?
Они неторопливо шли бок о бок.
– Я скажу, – выпалил он. – Я следил за тобой, чтобы узнать, куда ты идешь. Когда я понял, что не к Брейгону, я нагнал тебя.
– К Брейгону? – повторила она. – Ах, Рантель, ты все так же несчастен.
– Я не могу, Кида: не могу измениться.
Они уже достигли площади.
– Зря мы сюда пришли, – сказал, остановившись во тьме, Рантель. – Зря, ты слышишь Кида? Я должен сказать тебе. О, говорить об этом мне горько.
Ничто из того, что он смог бы сказать ей, не могло заглушить голос, твердивший внутри нее: «Я с тобой, Кида! Я – жизнь! Я – жизнь! О Кида, Кида, я с тобой!» Собственный же ее голос спросил Рантеля – так, словно принадлежал он кому-то отдельному от нее:
– Почему зря?
– Я шел за тобой, а после дал тебе прийти сюда со мной, но твой дом, Кида, дом, в котором работал твой муж, они отобрали его у тебя. И ты ничего уже сделать не сможешь. Когда ты ушла, собрались Старейшины, Старые Резчики, и отдали твой дом одному из своих, сказав, что теперь, раз муж твой умер, ты недостойна того, чтобы жить на площади Черного Всадника.
– А работы мужа, – сказала Кида, – что стало с ними?
Ожидая ответа Рантеля, она слышала, как убыстрилось его дыхание, и неясно различила во мраке, что он провел рукою по лбу.
– Скажу и это, – ответил он. – О пламя! Почему я был так туп – так туп! Пока я ждал тебя в скалах, – каждую ночь, с тех пор, как ты ушла, – Брейгон ворвался в твой дом и застал в нем Старейшин, деливших между собой твои изваяния. «Она не вернется, – говорили они о тебе. – Да и кто она такая? А изваяниям нужен уход, – говорили они, – иначе их источат древесные черви». Но Брейгон выхватил нож и загнал их в чулан под лестницей, и в двенадцать заходов перенес изваяния к себе, и спрятал их там до твоего, как он сказал, возвращения… Кида, Кида, но что же я могу для тебя сделать? О Кида, что могу сделать я?
– Обними меня, – сказала Кида. – Откуда эта музыка?
В безмолвии ночи послышался голос какого-то музыкального инструмента.
– Кида…
Руки Рантеля оплели ее тело, лицо зарылось ей в волосы.
Кида слышала, как стучит его сердце, ибо голова ее почти притиснулась к телу Рантеля. Музыка вдруг прервалась, вернулось безмолвие, такое же нерушимое, как окружавший их мрак.
И вот, Рантель нарушил его.
– Не будет для меня жизни, пока я не получу тебя, Кида. Только тогда я начну жить снова. Я Ваятель. Я сотворю из дерева красоту. Я вырежу для тебя образ моей любви. Он будет изгибаться в полете. В прыжке. Темно-красная, с руками, нежными, как цветы, с ногами, сливающимися с грубой землей, ибо рваться ввысь будет лишь тело. И у нее будут глаза, чтобы видеть все сущее, фиалковые, как кромка весенней молнии, а на груди ее я вырежу твое имя – Кида, Кида, Кида – три раза, потому что я изнемог от любви.
Кида подняла руку и холодные пальцы ее ощупали лоб Рантеля, его высокие скулы и спустились ко рту, коснувшись губ.
Немного погодя Рантель спросил:
– Ты плачешь?
– От счастья.
– Кида…
– Да…
– Ты сможешь снести дурную весть?
– Ничто больше не способно причинить мне боль, – сказала Кида. – Я уже не та, какой ты знал меня. Я – живая.
– Закон, заставивший тебя выйти замуж, Кида, может снова сковать тебя по рукам и ногам. Есть, есть еще один претендент. Мне сказали, он ждет тебя, Кида, ждет твоего возвращения. Но я готов убить его, Кида, если ты хочешь. – Тело Рантеля напряглось в ее объятиях, голос звучал теперь резко. – Хочешь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.