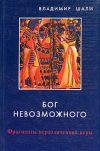Текст книги "Титус Гроан"

Автор книги: Мервин Пик
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
– Флэй, – говорит она, – мы должны сейчас же найти доктора Прюна. Отпусти меня, я пойду сама, я могу. Спасибо тебе, Флэй, но только не медли, только не медли. Опусти меня.
Флэй снимает ее с плеча, она опускается на землю. Фуксии попался на глаза стоящий на краю двора дом Доктора, и теперь девочка не понимает, как это она раньше о нем не подумала? Припустившись бегом, Фуксия подлетает к парадной двери Доктора и колотит в нее дверным молотком. Солнце уже встает над болотами, высвечивая длинный водосток и свес докторского дома, а когда Фуксия вновь принимается лупить по двери, зацепляет и странную голову Прюнскваллора, сонно выставившуюся в высокое окно. Что творится в тени под ним, он видеть не может и потому кричит:
– Во имя всяческой сдержанности и всех, кто вкушает сон, оставьте вы в покое мой молоток! Что там у вас приключилось?.. Не слышу ответа. Что, повторяю, приключилось?… Чума, что ли, пала на Горменгаст – или кому-то потребовались хирургические щипцы? Полночная чесотка вернулась или просто кто помер? Что, пациент буйствует?.. Он толстый или тощий?… Пьян или всего-навсего спятил?… Он…
Тут Доктор зевает и Фуксии удается, наконец, вставить слово:
– Да, о да! Скорей, доктор Прюн! Я вам все расскажу. О, прошу вас, я все расскажу вам!
Высокий голос по ту сторону подоконника вскрикивает:
– Фуксия! – как бы обращаясь к себе самому. – Фуксия!
Окно с треском опускается.
Флэй бежит к девочке, но еще не успевает достичь ее, когда дверь отворяется и перед ними предстает одетый в расшитую цветами пижаму доктор Прюнскваллор.
Взяв Фуксию за руку и кивком попросив Флэя следовать за ними, Доктор торопливо семенит в направленьи гостиной.
– Присядьте, присядьте, безумица моя! – восклицает Прюнскваллор. – Что за дьявольщина стряслась? Расскажите старику Прюнскваллору все по порядку.
– Отец, – говорит Фуксия и, наконец, заливается слезами. – Отцу очень плохо, доктор Прюн, очень, очень плохо… Ах, доктор Прюн, он стал черным сычом… Помогите ему, Доктор! Помогите!
Доктор не отвечает. Он резко поворачивает розовое, чрезвычайно чувствительное, умное лицо к Флэю и тот кивает, делая шаг вперед, о чем свидетельствует хруст коленей.
– Сыч, – сообщает он. – Мышку хочет! …И сучков: на камине! Ухает! Его светлость рехнулся!
– Нет! – восклицает Фуксия. – Он болен, доктор Прюн. Болен, вот и все. Его библиотека сгорела. Его чудная библиотека, и он заболел. Но он не безумен. Он разговаривает так спокойно. Ах, доктор Прюн, что вы собираетесь делать?
– Он у себя? – спрашивает Доктор – кажется, что теперь говорит уже совсем другой человек.
Фуксия, роняя слезы, кивает.
– Ждите здесь, – негромко приказывает Доктор, исчезая с последним словом и через несколько секунд возвращаясь в лимонно-зеленом халате, в лимонно-зеленых под пару ему туфлях и с саквояжем в руке.
– Фуксия, дорогая, пришлите-ка мне Стирпайка, в комнату вашего отца. Юноша расторопен и может помочь. Флэй, возвращайтесь к своим обязанностям. Как вам известно, сегодня Завтрак. Ну-с, цыганочка – смерть или слава.
И Доктор, испустив самое высокое свое и самое безответственное ржание, исчезает в проеме двери.
СМЕНА ОКРАСКИ
Свет утра густеет, близится час Великого Завтрака. Пребывающий в чрезвычайном смятении Флэй слоняется взад-вперед по освещенным свечьми Каменным Проулкам, в которых, как он знает, никто не потревожит его одиночества. Он уже успел собрать сучья и с отвращением выкинуть их, и снова собрать, поскольку даже мысль о том, чтобы ослушаться хозяина, почти так же страшна для него, как воспоминание о существе, увиденном на каминной доске. В конце концов, впав в отчаяние, он разломал их, сдавливая пальцами, и треск сучьев, которому вторил треск его коленных суставов, раскатился в тени деревьев, подобный рокоту недолгой, раздраженной грозы. Затем он вернулся в Замок и с тяжестью на душе спустился в Каменные Проулки. Здесь очень холодно, и, тем не менее, лоб Флэя усеян крупными каплями пота, и в каждой колеблется отраженье горящей свечи.
Госпожа Шлакк находится сейчас в спальне Графини, которая укладывает на голове свои отливающие ржавчиной волосы так, словно замок возводит. Время от времени госпожа Шлакк украдкой поглядывает на застывшую перед зеркалом гору плоти, но внимание ее поглощено лежащим на кровати предметом. Предмет этот завернут в кусок бледно-лилового бархата, к которому тут и там приколото множество фарфоровых колокольчиков. Конец золотой цепочки закреплен в самой середке того, что после заворачивания обратилось в бархатный цилиндрик, или мумийку в три с половиною фута длиной и дюймов восемнадцати в поперечнике. Цепочка тянется к лежащему пообок сиреневого свертка мечу с тяжелым, иссиня-черной стали клинком и с выдавленной на рукояти буквой «Г». Меч соединен с золотой цепочкой кусочком тесьмы.
Госпожа Шлакк легонько припудривает то, что шевелится в тени, накрывающей один конец свертка, потом оглядывается вокруг, ибо различить, что она, собственно, делает, ей трудно – слишком темны тени, в которые погружена спальня Графини. Глаза Нянюшки мечутся туда-сюда в красных ободах век, и, подергав себя за нижнюю губу, она еще раз склоняется к Титусу. Затем взгляд ее снова обращается к Графине, которой, похоже, уже надоело возиться с волосами – сооружение на голове остается незавершенным, – как будто некий порывистый архитектор скончался, не успев возвести причудливую постройку, а как ее достраивать, никто больше не знает. Госпожа Шлакк оставляет кровать и полушажком, полупробежкой подлетает к столу под люстрой, срывает с него свечу, ввосщенную в усеянное птичьим семенем дерево и, засветив ее от другой, высокой, мерцающей, возвращается к сиреневому цилиндрику, уже начавшему дергаться и вертеться.
Рука старушки, поднимающая восковой свет над головкой Титуса, подрагивает, пламя свечи колеблется, и кажется, будто головка скачет с ним вместе. Глаза Титуса широко открыты. При виде свечи губы его напучиваются, дергаются, и сердце самой земли сжимается от любви, видя, как он неверной походкой приближается к кладезю слез. Тельце его извивается, один из фарфоровых колокольцев издает сладкий звон.
– Шлакк, – хрипло произносит Графиня.
При этом неожиданном звуке легкая, точно пух, Нянюшка взлетает на дюйм-другой в воздух и вновь приземляется с болезненной дрожью в сухих коленках, – но не вскрикивает, успев, пока в глазах ее темнело от страха, закусить нижнюю губу. Старушка не ведает, какую совершила оплошность, да никакой она оплошности и не совершила – просто, стоит ей оказаться в комнате Графини, как Нянюшка сразу ощущает себя кругом виноватой. Отчасти ощущение это порождается тем, что Нянюшка раздражает Графиню и неизменно чувствует это. Поэтому отвечает она, заикаясь, тонким, дрожащим голосом:
– Да, о да, ваша светлость? Да… да, ваша светлость?
Графиня не оборачивается, она разглядывает себя в треснувшем зеркале, опершись локтями о столик и опустив подбородок в сложенные чашей ладони.
– Ребенок готов?
– Да, да, совсем, совсем готов. Уж так готов, ваша светлость, да благословят небеса его крохотную малость… да… да…
– Меч прикреплен?
– Да, да, меч, про…
Она едва не сказала «противный, черный меч», но успела нервно одернуть себя, ибо кто она такая, чтобы высказывать свои чувства, когда дело идет о ритуале?
– Но только ему жарко, – торопливо продолжает она, – его тельцу так жарко во всем этом бархате, хотя, конечно, – старушка, кивает, глуповатая улыбочка то появляется на ее сморщенных губках, то исчезает, – он очень красивый.
Графиня медленно поворачивается в кресле.
– Шлакк, – говорит она, – подойди-ка сюда, Шлакк.
Старушка с буйно бьющимся сердцем обходит кровать и замирает близ туалетного столика. Сложенные ладошки ее прижаты к плоской груди, глаза вытаращены.
– Ты так и не приобрела представления о том, как следует отвечать на простые вопросы? – медленно произносит Графиня.
Нянюшка трясет головой, на каждой щеке ее вдруг расцветает по красному пятнышку.
– Я умею отвечать на вопросы, умею! – вскрикивает она, сама пугаясь своей бестолковой пылкости.
Графиня, похоже, не слышит ее.
– Попытайся ответить хотя бы на следующий, – мурлычет она.
Госпожа Шлакк склоняет головку набок, насторожившись, будто серая птичка.
– Ты внимательно слушаешь, Шлакк?
Нянюшка кивает, судорожно, точно разбитая параличом.
– Где ты познакомилась с этим юнцом?
Наступает молчание.
– Со Стирпайком, – добавляет Графиня.
– Давно, – отвечает Нянюшка и в ожидании следующего вопроса закрывает глаза. Ответом своим она очень довольна.
– Где, спрашиваю я, где, а не когда, – бухает голос.
Госпожа Шлакк пытается собраться с мыслями. Где? Ох, где ж это было? – гадает она. Так давно… И тут она вспоминает, как юноша вдруг появился вместе с Фуксией на пороге ее комнаты.
– Он… с Фуксией… О да… да, там была Фуксия, ваша светлость.
– Откуда он взялся? Ответь мне, Шлакк, а потом доделай мою прическу.
– Да я и не знаю… И не знала никогда… Мне никто ничего не говорит. Ох, бедное мое сердце, нет. Откуда же он мог взяться-то? – И она вперивает взгляд в нависающую над ней темную тушу.
Леди Гертруда медленно проводит ладонью по лбу.
– Ты все такая же, Шлакк, – говорит она, – все та же умница Шлакк.
Нянюшка начинает плакать, ей ужасно хочется быть поумнее.
– Что толку плакать? – произносит Графиня. – Никакого нет толку. Никакого. Мои птицы не плачут. Во всяком случае, не часто. Ты была на пожаре?
Слово «пожар» пугает госпожу Шлакк до колик. Она стискивает ладошки. В слезящихся глазках ее мелькает что-то дикое. Губы Нянюшки дрожат, ибо воображение рисует ей взвивающиеся вокруг языки пламени.
– Закончи мою прическу, Нянюшка. Встань на стул и займись ею.
Нянюшка оборачивается в поисках стула. Комната походит на корабль, потерпевший крушение. Красные стены кажутся в свете свечей раскаленными. Старушка, топоча, семенит меж сальных сталактитов, ящиков, старых диванчиков. Графиня присвистывает, и миг спустя комнату наполняет биение крыльев. Ко времени, когда госпожа Шлакк подтаскивает к туалетному столику стул и взгромождается на него, Графиня уже погружается в беседу с сорокой. К птицам Нянюшка относится с решительным неодобрением, ей никак не удается примирить поведение Графини с Домом Гроанов, но она успела привыкнуть к такого рода вещам, все-таки, семьдесят лет – не шутка. Чуть наклонясь над головой ее светлости, старушка с трудом, ибо ей не хватает света, довершает постройку волосяного карниза.
– Ну вот, дорогая моя, ну вот, – произносит под нею тяжкий голос и тело старушки наполняется сладким трепетом, потому что Графиня никогда еще так с ней не говорила. Впрочем, глянув через горный отрог Графинина плеча, она обнаруживает, что ее светлость обращается к чумазому зяблику, и сердце Нянюшки безутешно сжимается.
– Стало быть, это Фуксия отыскала его, так? – спрашивает Графиня, водя по горлышку зяблика пальцем.
Госпожа Шлакк, испугавшись, как пугается она всякий раз что с ней заговаривают, неуверенно вертит в руках красную прядь.
– Кто? А, вы насчет этого… ваша светлость? …Ох, она такая хорошая девочка, Фуксия, всегда такая… да, да, всегда.
Графиня монументально поднимается на ноги, локтем сметая несколько вещиц со столика на пол. Вставая, она слышит плач и поворачивает голову к лиловатому свертку.
– Ступай, Шлакк, – ступай и его забери с собой. Фуксия уже одета?
– Да… ох, бедное мое сердце, да… Фуксия совсем готова, да, совсем-совсем, ждет в своей комнате. О да, она…
– Скоро начнется его Завтрак, – говорит Графиня, переводя взгляд с бронзовых часов на сына. – Очень скоро.
Нянюшка, подхватив Титуса с покрывала кровати, останавливается в дверях, прежде чем засеменить по залитому светом зари коридору. Она оглядывается на Графиню едва ли не с торжеством, жалкая улыбка играет в сморщенных уголках ее рта.
– Его Завтрак, – шепчет она. – Ох, слабое мое сердце. Его первый Завтрак.
Стирпайк, наконец, отыскался, Фуксия наткнулась на него, когда юноша, возвращаясь от тетушек, свернул за угол лестницы. Он в щегольском наряде, на высоких плечах ни пылинки, ногти подстрижены, волосы гладко лежат на мертвенно-бледном лбу. Увидев Фуксию, он удивляется, но удивления не показывает, лишь заводит брови с выражением и вопросительным, и почтительным.
– Вы очень рано встали, леди Фуксия.
Секунду-другую Фуксии, грудь которой ходит ходуном от беготни по лестницам, не удается вымолвить ни слова, наконец она говорит:
– Ты нужен доктору Прюну.
«Это еще зачем?» – спрашивает сам себя юноша. Но вслух произносит:
– Где он?
– В комнате отца.
Стирпайк медленно проводит языком по губам.
– Ваш отец заболел?
– Да, о да, он очень болен.
Стирпайк отворачивается от Фуксии, поскольку мышцы его лица сводит от напряжения судорога. На долю секунды он дает им волю, затем, придав лицу прежнее выражение и вновь повернувшись к Фуксии, говорит:
– Сделаю все, что могу.
С редкостным проворством он проскальзывает мимо нее, перепрыгивает сразу четыре ступеньки и сбегает по каменной лестнице, направляясь к спальне Графа.
Он уже несколько времени не виделся с Доктором. После того как юноша оставил его службу, в отношениях их возникла некая холодность, но в это утро, войдя в дверь Графа, Стирпайк понимает, что ни в его, ни в Докторовой голове не найдется сейчас ни места, ни времени для воспоминаний.
Облаченный в лимонно-зеленый халат Прюнскваллор прохаживается взад-вперед вдоль камина крадущейся поступью кошки, пусть даже и вставшей на задние лапы. Ни на миг не отрывает он взгляда от Графа, который, по-прежнему сидя на каминной доске, следит за Доктором огромными глазами.
При звуке шагов Стирпайка круглые глаза на долю секунды смещаются, взглядывая поверх докторова плеча. Прюнскваллор же не отрывает от Графа цепкого, увеличенного очками взгляда. Сейчас на длинном, эксцентричном лице его нет и следа обычной шаловливости.
Вот этой минуты Доктор и ждал. Прыгнув вперед, он протягивает белые длани и, крепко прижав руки Графа к телу, сдергивает его с каминной доски. В тот же миг Стирпайк оказывается рядом с Доктором, вместе они переносят священную особу на кровать и укладывают лицом вниз. Сепулькревий не сопротивляется, лишь испускает короткий, сдавленный крик.
Стирпайку хватает одной руки, чтобы удерживать темную фигуру, поскольку та и не пытается вырваться, а Доктор вонзает в запястье его светлости тонкую иглу, впрыскивая наркотик, обладающий силой столь сверхъестественной, что, когда они переворачивают больного на спину, Стирпайк с испугом видит, что лицо его изменилось, приобретя меловато-зеленый оттенок. Но изменились и глаза, вновь обратись в осмысленные, человеческие, столь хорошо знакомые Замку. Пальцы Графа распрямились, когти исчезли.
– Будь добр, задерни шторы, – говорит Доктор, выпрямляясь у кровати в полный рост и укладывая иглу в серебряную коробочку. Покончив с этим занятием, он принимается задумчиво постукивать одним о другой кончиками длинных белых пальцев. Теперь, когда шторы преградили путь свету встающего солнца, окраска лица его светлости выглядит не столь устрашающей.
– Быстрая работа, Доктор.
Стирпайк покачивается на каблуках.
– Что дальше? – Ожидая ответа Доктора, он с сомнением прищелкивает языком. – Что вы ему вспрыснули?
– Я не в том настроении, чтобы отвечать на вопросы, милый юноша, – откликается Прюнскваллор, показывая Стирпайку все свои зубы сразу, без всякой, впрочем, веселости. – Совершенно не в том настроении.
– А как же Завтрак? – ничуть не смутившись, спрашивает Стирпайк.
– Его светлость будет на Завтраке.
– Да? – удивляется юноша, бросив взгляд на лицо Графа. – С такой-то раскраской?
– Через полчаса кожа приобретет обычный оттенок. Он будет там… А теперь, приведи сюда Флэя и принеси горячей воды, да, и полотенце. Его надо омыть и переодеть. Поторопись.
Прежде чем выйти из комнаты, Стирпайк, монотонно посвистывая сквозь зубы, склоняется над лордом Сепулькревием. Глаза Графа закрыты, в лице воцарился покой, какого оно не знало многие годы.
КРОВЬ НА ЩЕКЕ
Поиски Флэя занимают изрядное время, но в конце концов Стирпайк сталкивается с ним в устланной голубым ковром Котовой Комнате, через которую оба они ровно год назад, при совершенно иных обстоятельствах, прошли, миновав залитых солнцем котов. Флэй только что выбрался из Каменных Проулков. Он весь в грязи, длинный, нечистый моток паутины свисает с его плеча. При виде Стирпайка губы Флэя по-волчьи оттягиваются назад.
– Чего тебе? – спрашивает он.
– Как ты, Флэй? – спрашивает Стирпайк.
Коты сгрудились на гигантской оттоманке, резные изголовье и изножье которой, покрытые плетением золотого узора, возносятся вверх, будто две волны, восставшие и замершие под закатным светилом, с белой пеной меж ними. Коты безмолвствуют и не шевелятся.
– Ты нужен Графу, – продолжает Стирпайк, наслаждаясь испытываемой Флэем неловкостью. Он не знает, известно ли слуге, что случилось с хозяином.
Услышав, что его светлость нуждается в нем, Флэй непроизвольно кидается к двери, но, сделав один только шаг, приходит в себя и смеривает юнца в безупречных черных одеждах еще более неприветливым и подозрительным взглядом.
Внезапно Стирпайк, не обдумав с обычно присущей ему доскональностью возможных последствий своего поступка, большими и указательными пальцами растягивает глаза. Ему охота понять, видел ли стоящий перед ним тощий человек обезумелого Графа. Вообще говоря, юноша полагает, что ничего Флэй не видел, и стало быть, он, Стирпайк, соорудив совиные глаза, не произведет на него никакого впечатления. Но в это раннее утро Стирпайк совершает одну из столь редких у него ошибок.
С хриплым, надломленным криком Флэй, лицо которого наливается кровью от ярости, вызванной нанесенным хозяину оскорблением, доковыляв до дивана, протягивает костлявую руку, погружает ее в снежный холм, за голову вытягивает оттуда кота и швыряет его в своего мучителя. В самое это мгновение в комнату входит закутанная в плащ грузная женщина. Живой снаряд, ударив Стирпайка в лицо, выбрасывает вперед белую лапку и, когда молодой человек отдергивает голову, пятерка когтей выдирает из его щеки, прямо под глазом, багровый лоскут.
Воздух мгновенно наполняется гневным мявом сотен котов, которые лезут на стены и на мебель и со скоростью света скачут и кружат по голубому ковру, создавая в комнате подобие белого смерча. Кровь, текущая по щеке Стирпайка, кажется, соскальзывая ему на живот, теплым чаем. Рука, которую он машинально поднял к лицу в пустой попытке защититься от удара, переползает к щеке, Стирпайк отступает на шаг, кончики пальцев его увлажняются. Полет же кота завершается ударом о стену – рядом с дверью, в которую только что вошло третье действующее лицо. Наполовину оглушенное животное, у которого между когтей левой передней лапы так и застрял обрывок землистой кожи Стирпайка, рушится на пол и, увидев нависшую над ним фигуру, со стоном подползает на шаг к новой гостье, а следом, сделав сверхкошачье усилие, прыжком взвивается на ее высокую грудь, где и сворачивается, сверкая желтыми лунами глаз над белизною охвостья.
Флэй отводит взгляд от Стирпайка. Вид красной крови, пузырящейся на щеке выскочки, поднимает ему настроение, но радости этой тут же и приходит конец, ибо теперь он помраченно глядит в суровые глаза графини Гроанской.
Большое лицо ее наливается тусклым, ужасным цветом марены. Взгляд напрочь лишен милосердия. Причина ссоры между Флэем и юным Стирпайком ей нимало не интересна. Графине довольно того, что одного из ее котов саданули о стену, причинив несчастному боль.
Флэй ожидает ее приближения. Костистая голова старого слуги остается неподвижной. Неуклюжие руки безвольно свисают вдоль тела. Флэй понимает, какое совершил преступление, и пока он ждет, мир его Горменгаста – уверенность в будущем, любовь, вера в Дом, преданность – все разваливается на куски.
Графиня замирает в футе от него. От близости ее уплотняется воздух.
Голос Графини, когда она отверзает уста, звучит очень хрипло:
– Я свалю его на пол одним ударом, – тяжко произносит она. – Вот что я сделаю с ним. Я разобью его на куски.
Флэй поднимает глаза. В нескольких дюймах перед собою он видит белого кота. Видит волоски на его спине – каждый стоит дыбом, обращая спину в пригорок, поросший жесткой белой травой.
Графиня опять произносит что-то, погромче, но у нее так перехватило горло, что Флэй ничего не понимает. В конце концов, ему удается различить несколько слов:
– Тебя больше нет, ты сгинул. Тебе конец.
Рука Графини, поглаживающая белого кота, неудержимо дрожит.
– Я с тобою покончила, – говорит Графиня. – И Горменгаст тоже.
Слова с великим трудом продираются сквозь ее горло.
– Тебе конец… конец.
Голос ее вдруг возвышается.
– Жестокий дурак! – кричит она. – Жестокий, никчемный дурак, животное! Прочь! Прочь! Замок отвергает тебя! Уходи! – ревет она, прижимая ладони к коту на груди. – Меня мутит от твоих длинных мослов!
Флэй еще выше поднимает маленькую костистую голову. Постичь происшедшее ему не по силам. Флэй сознает лишь, что оно слишком ужасно для его восприятия, немота окутывает ужас, случившийся с ним, как бы стеганым одеялом. Плечи засаленного черного одеяния Флэя отливают зеленым блеском – это солнце, внезапно пробившееся в эркерное окно, играет на них. Стирпайк вглядывается в старого слугу, прижимая к щеке пропитанный кровью платок и постукивая ногтями о стол. Нельзя не отдать старику должного – голове его присуще редкостное изящество. И какой он быстрый. Нет, право же, очень быстрый. Это стоит запомнить – из кота получается отличный метательный снаряд.
Флэй обводит комнату взглядом. Пол за спиною Графини переливается белизной, ноги ее облила застывшая пена тропического прибоя, сквозь которую тут и там проступает лазурный ковер. Флэй понимает, что видит все это в последний раз, и поворачивается, чтобы уйти, но, поворачиваясь, вспоминает о Завтраке. И с удивлением слышит собственный голос, произносящий:
– Завтрак.
Графиня знает, что первый слуга ее мужа обязан присутствовать на Завтраке. Поубивай он хоть всех котов на свете, ему все равно надлежит явиться на Завтрак, даваемый в честь Титуса, семьдесят седьмого графа Горменгаст. Надлежит. Это превыше всего.
Теперь и Графиня поворачивается и, медленно перейдя комнату и прихватив из каминной стойки тяжелую железную кочергу, подходит к эркерному окну. С приближеньем к нему правая рука Графини начинает раскачиваться – с неспешностью, с какой мохнатая нога битюга опускается в дождем оставленную лужу. Пронзительный дрязг и треск, звонкая осыпь стекла на каменные плиты под окном, затем тишина.
Стоя спиною к комнате, Графиня глядит сквозь звездообразную дыру в стекле. Зеленая лужайка лежит перед нею. Она смотрит на солнце, на свет его, сквозящий в далеких кедрах. Нынче день Завтрака в честь ее сына. Она оборачивается.
– Даю тебе неделю, – говорит она, – потом ты покинешь эти стены. Для Графа подыщут другого слугу.
Стирпайк навостряет уши, на миг перестав даже барабанить пальцами по столу. Когда дробь его ногтей возобновляется, в пробоину проскальзывает и опускается на плечо Графини пустельга. Графиня, ощутив хватку птичьих когтей, морщится, но глаза ее становятся ласковыми.
Флэй в три медленных, паучьих шага подходит к двери. Это та самая дверь, что ведет в Каменные Проулки. Он извлекает из кармана ключ, поворачивает его в замке. Прежде чем возвратиться к Графу, он должен перевести дух, отсидеться в местах, принадлежащих только ему. И Флэй окунается в протяжную тьму.

Графиня вспоминает, наконец, о Стирпайке. Она медленно ведет глазами туда, где в последний раз его видела, но юноши нет ни там, ни вообще в комнате.
В коридоре за Котовой Комнатой ударяет колокол, и Графиня понимает, что времени до Завтрака осталось совсем немного.
Она ощущает брызги воды на руках и, обернувшись, видит, что небо укрылось, как одеялом, зловещей, тускло-розовой тучей, а лужайка и кедры вдруг помутнели, лишенные света.
Стирпайк, идущий к спальне Графа, на миг останавливается у лестничного окна, чтобы посмотреть на первые струи дождя. Дождь нисходит с неба длинными, отвесными, внешне бездвижными нитями розоватого серебра, крепко входящими в почву, как будто они – струны арфы, вертикально натянутые между небом и сплошнотою земли. Отходя от окна, Стирпайк слышит первый раскат летнего грома.
Слышит его и Графиня, глядящая в зубчатую пробоину эркерного окна. И Прюнскваллор, помогающий Графу встать на ноги у постели. Слышит, должно быть, и Граф, так как он по собственному почину делает шаг к середине комнаты. Лицо его вновь стало прежним.
– Это гроза, Доктор? – спрашивает он.
Доктор пристально вглядывается в него, в каждое его движение, хотя немногие, увидев приоткрытый в привычном весельи длинный, подвижный рот Прюнскваллора, догадались бы о том, насколько внимательно изучает он своего пациента.
– Да, ваша светлость, гроза. Весьма внушительные раскаты. Я ожидаю пришествия воинственных туч, которые определенно должны появиться после такой увертюры, не правда ли? Ха-ха-ха-ха-ха!
– Это из-за нее вы пришли в мою спальню, Доктор? Не помню, чтобы я посылал за вами.
– Вполне естественно, ваша светлость. Вы не посылали за мной. Меня призвали сюда несколько минут назад, из-за того, что вы упали в обморок, – прискорбное, но ни в коей мере не редкостное происшествие, такое может случиться с каждым. Вы помните, как лишились чувств? – Доктор потирает подбородок. – Что стало причиной? В комнате слишком натоплено?
Граф подходит поближе к Доктору.
– Прюнскваллор, – говорит он, – я не падал в обморок.
– Ваша светлость, – отвечает Доктор, – когда я вошел к вам в спальню, вы были в беспамятстве.
– С чего бы мне падать в обморок? Я не падал в обморок, Прюнскваллор.
Граф отводит взгляд от Доктора. На него вдруг наваливается такая усталость, что он садится на край кровати.
– Ничего не могу вспомнить, Прюнскваллор. Совсем ничего. Помню только, я страстно жаждал чего-то, но чего именно – не знаю. Мне кажется, все это было месяц назад.
– А вот это я могу объяснить, – говорит Прюнскваллор. – Вы готовились к торжественному Завтраку в честь вашего сына. Время поджимало, вы боялись опоздать. Вы и без того уже пребывали в слишком большом напряжении, так что эти опасения оказались для вас непосильными. Вы, что называется, «страстно жаждали» поскорее увидеть вашего годовалого сына. Об этом у вас и сохранились смутные воспоминания.
– А когда состоится Завтрак моего сына?
– Через полчаса или, если быть точным, через двадцать восемь минут.
– Вы хотите сказать, нынешним утром? – На лице лорда Сепулькревия возникает тревожное выражение.
– Нынешнее утро было, есть и будет – или не будет – ничем не хуже другого, да снизойдет благодать на его громовое сердце. Нет, нет, господин мой, пока не вставайте. (Лорд Сепулькревий попытался подняться на ноги.) Через мгновенье-другое вы будете чувствовать себя лучше некуда. Завтрак откладывать не придется. О нет, ни в коем случае – у вас еще есть в запасе двадцать семь долгих, по шестидесяти секунд в каждой, минут, и Флэй, надо думать, уже приближается, чтобы приготовить для вас одежду – да вот и он.
Флэй не просто приближается, он уже на пороге спальни, он не смог задержаться в Каменных Проулках больше времени, чем потребовалось, чтобы прорезать их и неприметным, одному ему известным проходом добраться до комнаты хозяина. Но и при этом он всего на несколько секунд опережает Стирпайка, который, едва Флэй успевает открыть дверь спальни, проскальзывает у него под рукой.
Стирпайк и слуга с изумлением видят, что лорд Сепулькревий, похоже, вновь обрел свое всегдашнее меланхоличное «я». Флэй, подволакивая ноги, подходит к Графу и падает перед ним на колени – неожиданным, неуправляемым, неловким движением, – колени с хрустом ударяются о пол. На миг изящная, бледная ладонь Графа ложится старому пугалу на плечо, но произносит он всего лишь:
– Мой церемониальный бархат, Флэй. Как можно скорее. Бархат и опаловую брошь в виде птицы.
Флэй тяжело поднимается на ноги. Он – первый слуга своего господина. Он обязан разложить одежды Графа и помочь ему приготовиться к Великому Завтраку, даваемому в честь его единственного сына. Что до этого жалкого сопляка, то он в спальне его светлости и не у места, и не ко времени. Да и Доктору делать здесь больше нечего.
Положив ладонь на дверь гардероба, Флэй с хрустом поворачивает голову.
– Я справлюсь, Доктор, – говорит он.
Взгляд его перемещается с Доктора на Стирпайка, и Флэй поджимает губы, выражая смесь презрения с отвращением.
Выражение это не минует внимания Доктора.
– Совершенно верно. Совершенно, совершенно верно! Его светлости с каждой проходящей минутой становится лучше, так что мы здесь более не нужны, определеннейшим образом не нужны, клянусь всем и всяческим тактом. Вот именно так бы я и сказал, ха-ха-ха! Подумать только, не нужны да и все тут! Пойдемте, Стирпайк. Пойдемте. А кстати, откуда это у вас кровь на лице? В пиратов играли или застукали тигра в своей постели? Ха-ха-ха! Впрочем, об этом после, друг мой, об этом после.
И Доктор начинает теснить Стирпайка к двери.
Однако Стирпайк не любит, когда его оттесняют.
– После вас, Доктор, – говорит он, вынуждая Доктора выйти первым. Прежде чем закрыть за собой дверь, Стирпайк оборачивается и доверительным тоном сообщает Графу:
– Я позабочусь о том, чтобы все было готово. Предоставьте это мне, ваша светлость. Еще увидимся, Флэй. Ну что же, Доктор, в путь.
Дверь закрывается.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.