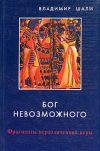Текст книги "Титус Гроан"

Автор книги: Мервин Пик
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Она не потрудилась задуматься ни о том, могут ли в простиравшейся перед нею пресной влаге водиться акулы; ни о том, стал ли Доктор бы столь легкомысленно высказываться относительно гибели единственного наследника рода; ни о том, что если акула и вправду съела Титуса, то она, нянюшка Шлакк, навряд ли сможет тут что-то поправить. Она знала только одно: нужно бежать туда, где прежде был Титус.
Старые слабые глазки позволили ей увидеть мальчика лишь после того, как она одолела половину разделявшего их расстояния. Но и это нисколько не снизило скорости, которую ей удалось развить. Акула-то все едино могла, того и гляди, слопать его, хоть еще и не слопала; и когда Титус наконец оказался в объятьях старушки, его оросил слезный душ.
Заковыляв со своей драгоценной ношей назад, она бросила на сверкающий водный простор последний опасливый взгляд, сердце ее гулко билось.
Доктор Прюнскваллор сделал на цыпочках несколько неровных шагов ей вослед, все еще не понимая, какие сокрушительные последствия могла иметь его шуточка. Но понимая, однако ж, что, поскольку без акулы все равно теперь не обойтись, будет лучше, если госпожа Шлакк сама сорвет ее злодейские планы, к будущему своему вящему удовлетворению, – он опасался лишь, как бы Нянюшка не надсадила старое сердце. То, чего Доктор надеялся достичь этим удивительным восклицанием, было достигнуто – дурацкая распря прервалась, а нянюшка Шлакк была избавлена от дальнейших унижений.
Некоторое время близнецы пребывали в полнейшей растерянности.
– Я ее видела, – сказала, наконец, Кора.
Кларисса, ни в чем сестре уступать не желавшая, тоже видела ее, и не менее ясно. Ни ту, ни другую акула особенно не заинтересовала.
Когда Нянюшка, еле дыша, уселась на ржавый ковер, и Титус выскользнул из ее рук, Фуксия повернулась к Доктору.
– Не стоило вам так поступать, доктор Прюн, – сказала она. – Но, господи, как же это было смешно! Вы видели лицо госпожи Прюнскваллор? – Она хихикнула, впрочем, без веселья во взоре. И следом: – Ох, доктор Прюн, напрасно я это сказала – она же ваша сестра.
– Вы были к ней справедливы, не более того, – сказал Доктор и, приблизя все зубы свои к уху Фуксии, прошептал: – Воображает, будто она – леди. – Тут он улыбнулся да так, что, казалось, того и гляди заглотнет озеро. – Подумать только! бедняжка. И ведь как старается, и чем больше старается, тем хуже у нее получается. Ха! ха! ха! Поверьте мне, Фуксия, дорогая, единственные леди на свете суть те, кто никогда не задумывается – леди они или не леди. С происхождением у нее все в порядке – у Ирмы, – как и у меня, ха-ха-ха! но ведь это не происхождением определяется. Соразмерность, цыганочка моя, соразмерность, вот в чем вся штука – с добавлением изрядной доли терпимости. Батюшки, уж не добрел ли я, часом, до околицы серьезности, да оберегут небеса мою несуразную душу. Ах ты ж, господи, похоже, что так!
К этой минуте все они уже сидели на ржавом ковре, образуя монументальную группу, наделенную редкостным благородством очертаний. Ветерок по-прежнему порывисто пронизывал рощу, ероша поверхность озера. Ветви деревьев за ними терлись одна о другую, и листья их, подобные миллионам заговорщицких языков, хрипло вышептывали всякую ересь.
Фуксия совсем уж было собралась спросить, что такое «соразмерность», когда глаза ее уловили под деревьями дальнего берега какое-то движение, а миг спустя она удивленно уставилась на колонну людей, спустившихся к воде, вдоль которой они устремились на север, исчезая и вновь появляясь, по мере того, как росшие в воде кедры сгущались, заслоняя их, и вновь разрежались.
Все они, кроме человека, шедшего впереди, несли на плечах мотки веревки и древесные ветви, все, кроме главенствующего, были, похоже, людьми немолодыми, поскольку шагали тяжело.
То были Плотостроители, направлявшиеся в освященный традицией день по традиционной тропинке к традиционному ручью – к затянутой знойным маревом, защищенной искрошенной изгородью и кустами бухточке, чьим пескарям, головастикам и мириадам микроскопических мальков, сновавших в нагретой, мелкой воде, предстояло столь скоро лишиться покоя.
Сомнений насчет того, кто возглавляет шествие, никто не питал. Невозможно было не признать этой проворной, но в то же время и шаркающей, бочком-бочком, походки, этого страшновато неспешного перемещения – ни тебе ходьба, ни пробежка, – этого припаданья к земле, как бы в стремлении принюхаться к следу, но и свободного, легкого паренья над нею.
Фуксия зачаровано наблюдала за ним. Не часто случалось ей видеть Стирпайка, не знавшего, что за ним наблюдают. Доктор, проследив ее взгляд, также узнал молодого человека. Розовое чело Прюнскваллора затуманилось. В последнее время он много размышлял о том и о сем – то по преимуществу касалось непостижимого и неуяснимо «чужого» юноши, сё по большей части сводилось к загадочному Пожару. Слишком уж странное обилие таинственных происшествий вместили последние месяцы. Не имей они значения столь важного, Доктор, пожалуй, отыскал бы в них разве что развлечение. Неожиданное столь приятно оживляло монотонность бесконечного повторения неколебимых ритуалов Замка, однако Смерть и Исчезновение не походили на лакомые кусочки, возбуждающие пресыщенного гурмана. Слишком велики они были, чтобы их проглотить, да и на вкус отзывали желчью.
При том, что доктор Прюнскваллор, будучи человеком себе на уме, придерживался положительно еретических мнений относительно определенных сторон жизни Замка – мнений, слишком вольных, чтобы открыто выражать их в этой мрачной обители, чьи уток и основа и самое прошлое были синонимами венозной системы, возобновляющей жизнь в телах ее насельников, – все же он принадлежал к ней, оставаясь оригиналом лишь в том, что ум Доктора забирал широко, но при этом соотнося и связуя мысли его так, что заключения, им порождаемые, часто оказывались ясными, точными и никаких ересей не содержащими. Это, впрочем, не значило, что он ставил себя выше всех прочих. О нет. Ни в малой мере. Слепая вера есть вера чистая, сколь бы ни мутен был разум ее обладателя. Умозаключения Доктора, возможно, и походили на самоцветы чистой воды, но душа и дух его деформировались в прямой пропорции к его неверию в ценность даже самого поверхностного соблюденья традиции. Он не был посторонним – и разразившиеся трагедии сильно задевали его за живое. Легкомысленная, глуповатая повадка Доктора была обманчива. Он мог заливаться трелями, щебетать, предаваться своим внезапным «причудам», нелепо жестикулировать, изображая хлыща, но увеличенные глаза его между тем сновали за стеклами очков туда-сюда, как снует по дну ванной кусок мыла, а мозг пребывал нередко в иных местах, – и в последние дни мозг этот занят был постоянно. Доктор расставлял в должном порядке имевшиеся в его распоряжении факты – разрозненные, в сущности, обрывки сведений – и вглядывался в них глазами разума, то с одного боку, то с другого; то снизу, то сверху; разговаривая и вроде бы слушая собеседника, днем, и ночью, и вечером, когда он, вытянув ноги к камину, сидел с бутылкой ликера у локтя и с сестрой в кресле насупротив.
Он глянул на Фуксию, желая удостовериться, что та узнала далекого юношу, и поразился выражению недоуменной сосредоточенности на ее смуглом лице, ее рту, приоткрытому как бы в легком волнении. К этому времени состоящий из человеческих тел крокодил уже огибал излуку озера далеко слева от тех, кто сидел на ковре. И внезапно остановился. Стирпайк, отделясь от слуг, спустился к воде. По-видимому, юноша отдал им какой-то приказ, поскольку они расселись меж береговых сосен, наблюдая за тем, как он, воткнув трость в грязь у кромки воды, снимает с себя одежду. Даже на таком расстоянии видно было, как горбятся его высокие плечи.
– Во имя всей и всяческой общественной деятельности, – сказал Прюнскваллор, – выходит, у нас появилось новое должностное лицо, не так ли? Приозерное предзнаменование предстоящего – свежая кровь в летнюю пору и лет еще сорок впереди. Занавес расходится, на сцену выпархивает скороспелка, ха-ха-ха! Чем это он там занят?
Фуксия негромко ахнула от удивления, ибо Стирпайк нырнул в озеро. За миг до этого он помахал им рукой, хотя на таком расстоянии невозможно было сказать, бросил ли он хотя бы взгляд в их сторону.
– Что это было? – спросила Ирма, поворачивая голову так плавно, как если бы шейные позвонки ее только что на славу смазали наилучшим маслом. – Я говорю «что это было?», Бернард. Мне показалось, будто что-то плеснуло, ты слышишь меня, Бернард? Я говорю, мне показалось, будто что-то плеснуло.
– Именно потому, – ответил ее брат.
– «Именно потому»? Что ты хочешь сказать, Бернард, этим «именно потому»? Как я устала от тебя! Я говорю, как я устала от тебя. Почему потому?
– Потому что услышанное тобой, мой мотылечек, весьма походило на всплеск.
– Но почему? И отчего мне не достался нормальный брат? Почему, Бернард, почему это весьма-походило-на-всплеск?
– Единственно потому, что это он и был, пава моя, – сообщил Прюнскваллор. – Аутентичный, неразбавленный всплеск. Ха! ха! ха! Совершенно неразбавленный всплеск.
– Ой! – вскрикнула госпожа Шлакк, хватаясь пальчиками за нижнюю губку. – Это ведь не акула, Доктор, сударь, не она? Ох, слабое мое сердце, сударь! Не акула?
– Чушь! – сказала Ирма. – Чушь, глупая вы женщина! Акулы в озере Горменгаст? Что за мысль!
Фуксия не отрывала глаз от Стирпайка. Плавал он хорошо и уже наполовину пересек озеро, тонкие белые руки его, согнутые в локтях под тупым углом, размеренно погружались в воду и выпрастывались из нее.
Голос Коры произнес:
– Я кого-то вижу.
– Где? – спросила Кларисса.
– В воде.
– Как? В озере?
– Да, другой воды тут нету, дура.
– Нет, другой нет.
– Значит, вся вода, какая тут есть, это та, у которой мы сидим.
– Верно, здесь только и есть воды, что этого сорта.
– А ты его видишь?
– Я еще не смотрела.
– Так посмотри.
– А нужно?
– Да. Сейчас же.
– О… вижу, мужчина. Ты видишь мужчину?
– Я же тебе о нем и сказала. Конечно, вижу.
– Плывет ко мне.
– Почему к тебе? Может, как раз ко мне.
– Почему?
– Потому что мы с тобой одно и то же.
– И в этом наше величие.
– И наша гордость. Не забывай о ней.
– Ничего, не забуду.
Обе уставились на приближавшегося пловца. Лицо его по большей части либо скрывалось под водой, либо ложилось на нее щекою, чтобы набрать воздуху в грудь, а потому им и в голову не пришло, что это Стирпайк.
– Кларисса, – сказала Кора.
– Да.
– Мы ведь тут единственные леди, ты да я, правильно?
– Правильно. И что?
– А то, что нам следует спуститься к воде и, когда он подплывет, оказать ему снисхождение.
– А это не больно? – спросила Кларисса.
– Почему до тебя не доходят самые простые слова? – Кора обратила взгляд к профилю Клариссы.
– Не понимаю, о чем ты? – пробормотала та.
– У меня нет времени, чтобы давать тебе уроки языка, – сказала Кора. – Да это и не важно.
– Не важно?
– Нет. Важно другое.
– Что?
– К нам плывут.
– Да.
– Значит мы должны сойти к воде, чтобы он засвидетельствовал нам свое почтение.
– Да… да.
– Ну так пойдем, возьмем его под наше покровительство.
– Сейчас?
– Да, сейчас. Готова?
– Вот встану и буду готова.
– Ну, закончила?
– Почти. А ты?
– Да.
– Тогда пошли.
– Куда?
– Не изводи меня своим невежеством. Просто иди за мной следом.
– Хорошо.
– Смотри!
– Смотри!
Стирпайк, нащупав ногами опору, встал. Вода плескалась прямо под его ребрами, донная тина сочилась между пальцами ног, и когда он, приветствуя бывших на берегу, поднял над головою руки, яркие капли осыпались с них искристыми нитями.
Фуксию охватило волнение. Ей понравилось то, что он сделал. Внезапно увидеть их, скинуть одежду, броситься в глубокую воду, перерезать, направляясь к ним, озеро, и наконец встать, задыхаясь, в воде, бурлившей вокруг его тонкой, гибкой талии – это было красиво; да и проделал он все единым духом, без подготовки.
Ирма Прюнскваллор, уже несколько недель не встречавшаяся со своим «кавалером», взвизгнула, завидев его восстающее из воды голое тело, и прикрыла лицо руками, подглядывая, впрочем, сквозь пальцы.
Нянюшка так и не разобрала, кто там такой стоит, и еще несколько месяцев после терялась в догадках.
Голос Стирпайк пронесся над мелководьем.
– Приятная встреча! – крикнул юноша. – Я только что вас заметил! Леди Фуксия! добрый день. Счастлив снова увидеть вас. Как вы себя чувствуете? Госпожа Ирма? Простите мне мою наготу. А вы, Доктор, как вы поживаете?
Затем он наставил темно-красные, близко посаженные глаза на близняшек, ковылявших к нему, совершенно не сознавая того, что лодыжки их уже поглотила вода.
– Вы промочили ноги, ваши светлости. Надо быть осторожней! Вернитесь назад! – с насмешливым опасением в голосе воскликнул юноша. – Вы оказываете мне слишком большую честь. Ради бога, вернитесь назад!
Кричать приходилось так, чтобы ничем не выдать власти, которую он возымел над ними. В общем-то, ему было вдвойне наплевать далеко ли зайдут они в воду – пусть хоть по самую шею. Но ситуация сложилась скользкая. Благопристойность не позволяла ему продвинуться дальше к берегу.
Сестры, а таково и было его намерение, не услышали в голосе юноши властности, которой давно уж привыкли подчиняться. Они входили в воду все глубже, и Доктор, Фуксия и нянюшка Шлакк с изумлением обнаружили, что Двойняшки уже по самые бедра погрузились в озеро, величаво раскинув по воде обширные подолы пурпурных платьев.
Стирпайк на миг отвел взгляд от сестер и, беспомощно пожав плечами и разведя руки в стороны, дал понять, что не в его силах сделать что-либо. Сестры подошли к нему совсем близко. Достаточно близко, чтобы поговорить с ними, оставшись неуслышанным теми, кто стеснился теперь у самого края воды.
Негромко и торопливо, тоном, который, как знал он по опыту, мгновенно приводит их в чувство, Стирпайк сказал:
– Стоять, на месте. Ни шагу дальше, слышите? Я должен вам кое-что сказать. Если не будете стоять и слушать меня, проститесь с золотыми тронами, а они уже готовы и находятся на пути к вашим апартаментам. А теперь возвращайтесь.
Возвращайтесь в Замок – в вашу комнату, иначе вас ждут неприятности.
Произнося все это, он делал знаки стоящим на берегу – бессильно пожимал плечами. Тем временем быстрые слова его текли, гипнотизируя Двойняшек, застывших по бедра в пурпурной зыби.
– И ни слова о Пожаре – сидите дома, никуда не выходите и не с кем не встречайтесь, как сделали сегодня вопреки моему приказу. Вы ослушались меня. Сегодня вечером, в десять, я буду у вас. Я недоволен, поскольку вы нарушили данное мне слово. И все же, величие осенит вас, но только никогда, никому ни слова о Пожаре. Сесть! – От этого властного приказа Стирпайк удержаться не смог. Пока он говорил, сестры не отрывали от него глаз, и он решил убедиться в том, что в мгновенья, подобные этим, ослушаться его они не способны – что они не способны думать ни о чем, кроме того, что он внедряет в их головы усвоенным им странно низким голосом, постоянным повторением нескольких простеньких фраз. Губы его, когда он увидел, как две пурпурные куклы погружают зады в тепловатую воду, чуть изогнулись в низменном, самоуверенном удовлетворении. Только длинные шеи сестер, да схожие с блюдцами лица и остались торчать над поверхностью озера. Каждую окружали волнуемые водой подрубы пурпурных юбок.
Прямо перед собой смотрел Стирпайк, впитывая и смакуя сладостную суть ситуации, а губы его выплевывали слова:
– Ступайте назад! Назад в ваши комнаты и ждите меня. Немедля назад – и никаких разговоров на берегу.
Когда они по его приказу ухнули в воду, Стирпайк, рисуясь перед наблюдателями, схватился, как бы в отчаянии, за голову.
Тетушки поднялись, облепленные пурпурной тканью, и взявшись за руки, направились к замершим на песке пораженным зрителям.
Урок, преподанный Стирпайком, оказался усвоен ими на диво, так что они, торжественно прошествовав мимо Доктора, Фуксии, Ирмы и нянюшки Шлакк, вошли под деревья, свернули налево, в ореховую аллею, и удалились, в своего рода вымокшем трансе, в сторону Замка.
– Это выше моего понимания, Доктор! Решительно выше! – крикнул стоящий в воде юноша.
– Вы меня удивляете, милый мальчик! – крикнул в ответ Доктор. – Клянусь всем земноводным, вы меня удивляете. Поимейте совесть, дорогое дитя, поимейте совесть и плывите прочь, – нас уже утомило созерцание вашего живота.
– Простите мне присущий ему магнетизм! – ответил, отступая поглубже, Стирпайк; минуту спустя он был уже далеко, плывя прямо на Плотостроителей.
Фуксия, следя за бликами солнца, игравшими на мокрых руках юноши, обнаружила вдруг, что у нее колотится сердце. Она не доверяла своим глазам. Высокий, выпуклый лоб и задранные плечи Стирпайка отвращали ее. Он не был частью Замка, и девочка это знала. Но сердце ее колотилось, потому что он был живым – таким живым! и безрассудно смелым, казалось, никому не по силам его обуздать. Отвечая Доктору, он смотрел на нее. Фуксия не понимала. Печаль клубилась в ней подобием темной тучи, но, когда она думала о Стирпайке, ей чудилось, будто тьму эту пронзает ветвистая молния.
– Я возвращаюсь, – сказала она Доктору. – Мы встретимся вечером, спасибо. Пойдем, Нянюшка. До свидания, госпожа Прюнскваллор.
Ирма произвела всем телом странно извилистое движение и деревянно улыбнулась.
– Приятного дня, – сказала она. – Все было чудесно. Более чем. Вашу руку, Бернард. Я говорю – вашу руку.
– Ты получишь ее, о белоцветная, можешь не сомневаться. Я услышал твои слова, – сказал ее брат. – Ха! ха! ха! Вот она. Рука, исполненная трепетной красы, и каждая пора на ней взбудоражена прикосновением твоих вялых перстов. Ты примешь ее? Примешь. Ты ее примешь – но прими ее со всею серьезностью, ха! ха! ха! Со всей серьезностью, умоляю тебя ласковый лягушонок, и возвращай ее мне время от времени. Пойдем. До свидания, Фуксия, пока – до свидания. Мы расстаемся лишь для того, чтобы встретиться вновь.
Он нарочито задрал локоть, и Ирма, раскрыв над головой парасоль, покачивая бедрами и выставив нос, словно компасную иглу, взяла его под руку, и так они вошли под сень древес.
Фуксия подняла с земли Титуса и уложила его себе на плечо, а Нянюшка свернула ржавый ковер, после чего и эти трое тронулись, своей чередою, в обратный путь.
Стирпайк уже достиг противного берега, и ведомая им ватага возобновила détour озера, неся на плечах толстые ветви каштана. Юноша живо шагал впереди, покручивая в пальцах трость с потайным клинком.
ГРАФИНЯ ГЕРТРУДА
Еще долгое время после того, как капля сорвалась с листа падуба и мириады отражений, плававших по ее поверхности, стали частью всего, что ушло навсегда, лицо, маячившее в схожем с шипом боярышника окне, продолжало глядеть в лето.
Лицо это принадлежало Графине. Она стояла на стремянке, потому что только так удавалось ей выглянуть в высоко расположенное, заросшее плющом оконце. Темную комнату за ее спиной наполняли птицы.
На багряных обоях лежало несколько пламенеющих пятен – это солнечные лучи, сумевшие протиснуться мимо Графининой головы, с безмолвным ожесточением били в стены. В полусвете они оставались полностью неподвижными, горя бестрепетно и потопляя все окружающее в еще пущем сумраке, в своего рода покорном движении, в контригре теневых объемов с оттенками от густой пепельной серости до черноты.
Птиц различить было трудно – в спальне Графини не горело ни единой свечи. Лето пылало за высоким оконцем.
В конце концов, Графиня спустилась с лестнички, делая один мамонтовый шаг за другим, пока обе ноги ее не стали на пол, и, повернувшись, направилась к тусклой кровати. Достигнув изголовья, она запалила фитилек полуистаявшей свечки, села, откинувшись на подушки, и вывела огромными губами до странного сладкую, низкую, свистящую ноту.
При всей ее необъятности, впечатление получилось такое, словно гигантское зимнее дерево вмиг обратилось в летнее. Но не листья покрыли ее, а птицы – покровом таким же плотным, как листва. Глаза их мерцали, отражая пламя свечи, как сотни стеклянных бусин.

– Слушайте, – сказала она. – Мы здесь одни. Дела принимают дурной оборот. Что-то разладилось. Затевается нечто злое. Я в этом уверена.
Глаза ее сузились.
– Но пусть попробуют. Мы подождем. Мы торопиться не станем. Пусть поднимут на нас свою мерзкую руку, и тогда, клянусь Погибелью, мы свернем им шеи. Через четыре дня Вографление – а там я заберу его к себе, мальчика, ребенка – Титуса Семьдесят Седьмого.
Графиня встала.
– И бог да простит мою душу, ибо я буду в этом нуждаться! – пророкотала она, и птицы забили крыльями, переступая, чтобы сохранить равновесие. – Бог да простит ее, когда я найду негодяя! Не знаю, как там насчет отпущенья грехов, но удовлетворение я получу!
Она извлекла из ближайшей корзинки несколько хлебных крошек и вложила их себе в губы. Одна из пичуг, заслышав дробное цоканье ее языка, принялась склевывать крошки, но глаза Графини все еще были полуприкрыты и остававшиеся на виду малые доли райков поблескивали жестко, как мокрый кремень.
– Удовлетворение, – хрипло повторила она, словно бы вымурлыкивая слоги. – Все сходится к Титусу. Гора и камень, Род и Обычай. Пусть попробуют тронуть его. За каждый его волос я остановлю чье-то сердце. И если, когда все уляжется, милость Господня почиет на мне – хорошо; а если нет, то и пусть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.