Текст книги "По ту сторону кожи (сборник)"
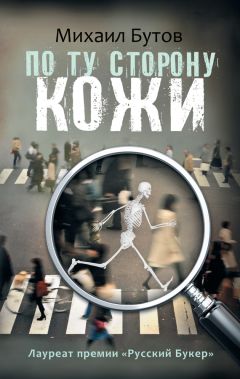
Автор книги: Михаил Бутов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Потом, дома, я много раз напоминал себе, что надо взять у Пудиса сохранившиеся миланские негативы, прилично напечатать и оцифровать, ну или хотя бы отсканировать прямо с пленки – но так и не собрался.
Пудис фотографировал с удовольствием. Но с еще большим – торговал тем, что у него получалось. В хорошие дни, когда был наплыв посетителей, он просто сиял. Ему нравилось распускать хвост и корчить из себя художника перед туристками всех мастей и рас. Нравилось – да и мне тоже – в ожидании новой экскурсии, отправляющейся после посещения замка и расположенной в нем пинакотеки (вход бесплатный всегда; Пудису особенно полюбилась там поздняя «Пьета» Микеланджело, как бы грубо вырубленная, недоработанная и выглядевшая на удивление современно, чуть ли не авангардно) прогуляться по парку, болтать не пойми о чем с красивыми, длинными дагомейскими неграми в растаманских вязаных шапках и порой колотить вместе с ними в барабаны – до их мастерства нам, может, и далеко оставалось, но выходило, по-моему, у нас в целом не так уж и плохо. Вообще приятно было чувствовать себя при деньгах – ощущение, от которого я за последний месяц отвык начисто, словно вовсе никогда его прежде не испытывал, – и обедать не остывшим кебабом с кока-колой на лавочке, а по меньшей мере в итальянском ответе Макдоналдсу, где подавали разную вкусную пиццу, я брал с осьминогами. (Я уже не понимал, не мог разобраться, это я нынешний смотрю как сквозь стекло, вчуже, на себя московского, привыкшего с иронией относиться к фастфуду такого пошиба, – или наоборот.)
И в какой-то момент я с недоумением спросил у Пудиса: а что ж ты дома-то дурака валяешь, если тебя так прет от возможности заработать? Занял бы денег, завел себе какое-нибудь коммерческое предприятие с артистическим уклоном… Ну, не знаю, можно ведь что-то привлекательное придумать, многие добиваются успеха. Ведь сам Бог велел, смотри: глаза сверкают хищным блеском, ходишь – воздух рассекаешь, свистит, голова идеи производит сама собой, без специальных усилий, и тут же подсчитывает барыши. Я же видел правильных в этом отношении людей – у тебя как раз то, что надо!
– Ну да… – отмахнулся Пудис. – Как-то там у нас все больно тяжеловесно. Представляю себе всю эту кодлу мелких начальничков, блюстителей, проверяющих, как бы охранничков. Это мне сперва придется у них разрешения получать, а потом отстегивать на лапу, чтобы позволили существовать. И тратить свое время – жизнь, в сущности, – на выполнение бессмысленных и тягомотных правил, которые они устанавливают, чтобы было на чем срубить себе денег. Знаешь, меня ведь не то бесит, что каждая из этих рож чувствует себя осью мира, солью земли. Хуже всего, что они не ошибаются. Все так уже переделано, устроено, что действительно крутится вокруг них. Выходит, что и я буду работать на такое положение дел. Деньги – отличная штука, кто бы спорил. Могут обеспечить тебе массу интересных вещей. Но как-то уж слишком много народу не сомневается, что я им должен. У нас ничего нельзя иметь просто так, безнаказанно.
– Но ты ведь даже не пробовал! – возмутился я. – А рассуждения многоопытные, как будто тебя уже десять раз обломали. Получается, вообще ни в коем случае нельзя заводить никакого собственного дела, лишь бы не запачкаться?
– Нет, – засмеялся Пудис, – речь только обо мне. Чего злишься? Конечно, есть люди, которые во всем этом видят лишь необходимое зло, даже чувствуют особый азарт от того, что умеют к нему подлаживаться или его преодолевать. А я раз в год езжу к гаишнику покупать техосмотр. И он нормальный, в общем-то, мужик. И то меня воротит. Такой вот неприспособленный. А ты говоришь – предприятие, фирма! Да на меня дело заведут после первого же визита какого-нибудь мента или налогового инспектора. Я элементарно не смогу с ними договориться.
Кстати, о ментах. От некоторого страха перед здешними полицейскими я так и не избавился. Я именно все время ждал, что у нас потребуют официальное разрешение на то, чтобы здесь стоять и торговать, а поскольку это все-таки не московские менты, парой купюр тут явно не обойдешься, грозят неприятности. Но полицейские, проплывая мимо, скользили по нам, как, впрочем, и по барабанящим неграм, взглядом пустым и отрешенным. Они носили фашистского вида черную униформу и черные фуражки супердембельского фасона, взмывающие спереди вверх наподобие корабельного носа, с немыслимой совершенно кокардой – массивной, серебряной, неопределенных, крылато-развевающихся очертаний («Барочная какая-то фуражка, – сказал Пудис, – ее бы еще спиралью закрутить»). Выглядели наряженные таким образом полицейские и смешно, и грозно. У них были короткие автоматы. Потом я сообразил: они привыкли (или им просто удобнее так считать, ведь, если денег запросто с любого подозрительного прохожего не состричь, нет и причин особо усердствовать, только лишнюю работу найдешь себе на голову), что, раз уж люди чем-то занимаются, и не явно преступным, и в открытую, – значит, имеют на это право. И без специальных указаний подвергать это право сомнению нет причин. А специальные указания по нашему поводу – откуда могли поступить? Мы были слишком маленькие для большой объединенной Европы. И еще, наверное, у нас на лбу было написано, что мы не задержимся здесь надолго.
Сколько я слышал потом, что в Милане, по сравнению с Римом, Флоренцией, Неаполем, и делать-то особенно нечего. Собственно, противоположное мнение встретилось только однажды, когда мы разговорились на станции метро с тремя индийцами-мусульманами. Они, вообще-то, сильно напоминали наших кавказцев – только без мачизма и агрессивности. Тех мирных кавказцев, что торгуют с лотков на московских улицах. Они были частью эдакой «кровеносной системы» полулегальной экономики непарадной Европы. Мотались из города в город, из страны в страну, даже из одной части света в другую, торговали чем придется – китайской одеждой, цветами, подержанными машинами. Разве что вместо наличных, зашитых в пояс или подколотых к трусам, возили с собой целые колоды кредитных карт – и нам показали такую, развернув веером на всю руку. Узнав, что Пудис ездил в Индию, они с ним долго перебирали географические названия, но совпадений не нашли: Индия – большая страна. Потом один признался, что бывал в наших краях. «Я в Россия, – сообщил он, – видел четыре города: Тьомск, Йомск, Мьосква и Кьосино».
Так вот. Индусы, чью жизнь составляла и обеспечивала свободная торговля на неконтролируемом рынке, оказались коммунистами (вообще это странное несоответствие торчит в явно симпатизирующей коммунизму Европе отовсюду). Прослышав про наши планы – уже, впрочем, для нас самих очевидно призрачные – отправиться дальше в Рим, они дружно замахали руками: мол, зачем, что вы там увидите, скукотища, одна буржуазия. То ли дело Милан! Вот живой коммунистический город!
Думаю, все-таки не в этом причина, что Милан пришелся мне по мерке. Даже его отнюдь не исторические районы, напоминающие (только поаккуратнее и посветлее) спальные кварталы какого-нибудь областного центра. Областного – потому что дома не такие высокие, как в Москве. Я бродил по нему с ощущением, что вот на этих улицах я бы, пожалуй, задержался на год, на два. Все время нашего путешествия я практически не оставался один – и мне стало уже не хватать одиночества. Это не переходило в раздражение по отношению к Пудису, однако в Милане я старался при всякой возможности от него оторваться. Не так уж часто она появлялась. Во всяком случае, чтобы можно было погулять одному – покуда Пудис рыскал где-то с фотоаппаратом на пузе и не нуждался в моих услугах по перемещению штатива, – а не сидеть в парке с фотографиями.
Было часов девять утра, я оказался один на маленькой улочке возле Северного вокзала. Посетил пустое интернет-кафе, здесь они были куда опрятнее, чем подвал в Гамбурге, и располагались выше уровня земли. Получил мейл от той подруги, которая возила меня в Англию. Трудно было поверить, что всего два месяца назад. Подруга злилась. Я совершенно не помнил, сообщил ли ей перед отъездом, когда меня следует ждать назад. Вряд ли. Сам понятия не имел. Судя по письму, она рассчитывала, что я вернусь через неделю и мы будем благопристойно ходить по бутикам. В общем, ей меня не хватало. Сначала. А потом она сообразила, что все к лучшему. Я представлялся ей существом надежным и ориентированным на правильные ценности. Но теперь открылись мои настораживающие устремления к бродяжничеству и подзаборному образу жизни. Она хочет, чтобы я знал, что это ее не устраивает.
Ответ я писать не стал, почистил спам и вышел на воздух. Я вообразил полярного исследователя, благополучно вернувшегося домой и уже забывающего про ужасы льдов и мрака, – и тут ему доставляют (написанное, наверное, на шкуре нерпы) требовательное послание эскимоски, с которой он от тоски имел на зимовке пятиминутную любовь. Но прогнал эти мысли: аналогия была нечестной, и цинизм вообще мне противен, не мое.
Из подъезда передо мной появилась женщина лет тридцати пяти, в черных брюках, короткой замшевой куртке, на высоких каблуках. Я успел увидеть ухоженный цветной садик во внутреннем дворе ее дома. Не то чтобы она сразу чем-то особенно привлекла мое внимание. Я остановился, потому что нужно было навести ревизию мелкого барахла в карманах. И вдруг поймал себя на том, что мне интересно за ней наблюдать. Присел на низкий карниз или, может быть, ложный подоконник. Крошечное – на три столика – кафе располагалось прямо через улицу. Там она устроилась у самой витрины, съела булку, тонко переложенную какой-то ветчиной, и выпила стакан молока. Затем перешла улицу еще раз – теперь по диагонали – к другому кафе, чуть побольше первого. Я тоже перешел на другую сторону, чтобы видеть ее. Сидит у стойки, пьет из маленькой чашки эспрессо, курит, осторожно посматривает на меня – заметила. Я, разумеется, делаю отсутствующий вид. После кофе пересекла мостовую еще раз – на улице тихо, машин нет, вообще никого сейчас нет, кроме меня и ее (итальянцы – это вам не немцы, прущие плотным потоком по служебным делам с пяти утра), каблуки стучат по асфальту, от стен отлетает быстрое, легкое эхо (акустический образ Европы); ключом отперла другую дверь, скрылась за ней, но через минуту опять выходит – поднимать жалюзи на витрине своего магазина. Женские сумки из кожи, из ковровых тканей… День начался. Не слишком-то оживленное место, вряд ли у нее много покупателей. Я уже ухожу, она уже видит меня со спины, дурацкий штатив на плече. Тот, кто с рождения дышал тем же воздухом, что и я (по крайней мере, вырос в интеллигентской семье, где часто говорили про искусство, про человеческое предназначение и спорили, существует ли духовность), всегда будет считать, что от покоя обязательно попахивает застоявшимся временем (кивок нелогичному Пудису), тиной, болотом. А здесь, в Италии, меня в который раз задевает такая вот самодостаточная мерность их жизни, видимая правильная любовь к себе, доверие к миру, за которыми угадывалась изначальная неоскорбленность. Наверняка и тут под поверхностью гуляют свои демоны, но – свои, не такие, как наши. А вот этого всего не сымитируешь просто ради сохранения приличий, не изобразишь – глаза выдадут, жесты. И я думаю: надо бы попробовать самому, надо бы как-то так устроить, чтобы вернуться сюда уже не туристом.
Покой покоем, а такой плотности магазинов со снаряжением для экстремального туризма я не встречал больше нигде.
Мне кажется, промышленный, совершенно не аристократичный, но все же и не превратившийся полностью в индустриального или делового монстра Милан – подходящий город, чтобы жить здесь совсем чужим. Не сливаться с ним, остаться посторонним – и не ощущать ущербности, получать от этого удовольствие. С тех пор как Пудис погиб, потребность пожить вот так делается для меня все насущнее.
К тому же здесь, говорят, мягкая зима, вроде нашего дождливого позднего октября. И мне это по душе.
Тем же вечером удалось лицезреть самых настоящих исламских радикалов. Непосредственной угрозы для нас от них, конечно, не исходило, однако впечатление осталось тяжелое, оно не развеялось и не развеется, наверное, никогда – так человек вряд ли когда-нибудь забудет встречу с инопланетянином или привидением, посланцами мира иного, с его миром заведомо несовместимого. Неподалеку от хостела, где мы ночевали, располагался магазинчик, и в нем был кафетерий. Владел магазинчиком немолодой уже иранец. По-моему, ничего специфически восточного здесь не продавали, разве что расфасованные сладости и булки какой-то особой выпечки. Может быть, продукты как-то и отличались от тех, что продаются повсюду, но я в этом разобраться не мог. Во всяком случае, заходили сюда все подряд: арабы, негры, итальянцы. Бизнес иранца держался, судя по всему, на том, что до ближайшего супермаркета было четыре квартала и многим из живущих в округе просто лень было ходить так далеко за каждой мелочью. Мы облюбовали этот кафетерий, потому как там можно было выпить не дорогое эспрессо или капучино, а обычный пластиковый стакан кофе с молоком типа «три в одном» – в Италии такой простенький столовский вариант, которого, кстати, нам, русским водохлебам, ощутимо недоставало, можно встретить только в Макдоналдсе.
Иранец был молчаливый и замкнутый. Зато помогал ему в магазине улыбчивый парень из Афганистана по имени Амир. С Амиром мы подружились. Он хорошо относился к русским – у него отец был врачом, несколько лет проучился в Советском Союзе и потом работал в Кабуле с русскими врачами. Амир рассказывал о себе много интересного. Последняя война застала его студентом, он изучал историю и, кстати, вместе с английским еще и русский язык: были хорошие преподаватели. Вообще я никак не ожидал, что мы встретим в Европе столько людей, более-менее говорящих по-русски. Амир объяснил, что при талибах ввели много разных ограничений, но преподавания истории они почти не коснулись. Только очень часто приходилось прерываться и вставать на молитву – и попробуй сачкани! А вот обучение языкам прекратилось сразу, и учителя по большей части куда-то пропали. Теперь мы общались с ним, мешая русский с английским. У Амира было увлечение – крикет! Он входил в сборную Афганистана, состоявшую из студентов и торговцев коврами. Они мечтали достигнуть уровня команд Австралии и Англии и встретиться с ними на поле. А пока что ездили на товарищеские матчи со сборной Пакистана. Уже вовсю шла война, а они продолжали тренироваться. Тренировки проходили на центральном стадионе Кабула. В остальное время стадион использовался для публичных казней.
А потом у Амира появилась возможность переехать к родственникам сюда. Нет, иранец ему не родственник, просто взял на работу. Иранец перебрался в Италию уже давно, сразу после революции. А сам Амир не жалеет, что приехал. Он думает, ему бы не удалось сейчас продолжать там учебу. А здесь он надеется опять поступить в университет. У него уже отложено немного денег, к тому же существуют разнообразные программы, фонды, стипендии – нужно только знать, как предлагать себя, как и к кому обращаться, и он все время занимается этим.
Мы сидели со своим теплым кофе за пластмассовым столиком на пластмассовых стульях. Пудис сматывал пленку – у него появилась привычка подносить фотоаппарат к уху, слушать щелчок, когда пленка заканчивается. Амир подошел поздороваться и перекинуться с нами парой слов. Иранец что-то переставлял на полках возле кассы. Вообще Амира иранец как-то мало замечал – при нас никогда не отдавал ему распоряжений, совсем, по-моему, к нему не обращался. Видимо, парень его всем устраивал, хотя афганец явно проводил в болтовне с посетителями многовато служебного времени: надо думать, мы не одни были у него здесь такие приятели.
Вот тут они и появились. Их было трое, все, видимо, арабы, причем двое одеты цивильно – куртки, джинсы, а третий, тоже молодой, но с бородой до груди, был в тюрбане и белом бурнусе (потом Амир скажет: странно, после одиннадцатого сентября на них здесь смотрят все-таки настороженно, и они стараются не привлекать к себе лишнего внимания). Разговаривали по-итальянски. Вернее, говорил, быстро говорил, только белый. Он что-то коротко спросил, показав подбородком в нашу сторону, иранец коротко ответил. После этого на нас больше не обращали внимания, обступили хозяина. Иранец отвернулся от полок и стоял совершенно неподвижно, смотрел не на них, а перед собой, глаза у него остекленели. Эти трое не были похожи на рэкетиров, не казались опасными. Напротив, выглядели очень даже интеллигентно, как какие-нибудь молодые научные сотрудники. И лица их вполне можно было назвать светлыми, одухотворенными. Так что все это отнюдь не напоминало бандитский наезд. Но я почувствовал, как сразу напрягся Амир. «Что творится?» – шепотом спросил Пудис. «Они приходят ко всем мусульманам, – также тихо ответил Амир. – Приходят говорить о Коране. Они хотят, чтобы все отдавали им деньги на их борьбу. И чтобы молодые уезжали обратно воевать. В вашу Чечню тоже. Мне уже предлагали – я отказался. Мне не угрожают. Может быть, они оставили меня в покое. Но многие едут. Я знаю несколько человек. Не из страха. Они чувствуют себя здесь – как это сказать – неполными людьми. Они хотят быть героями. Сражаться за веру».
Белый говорил страстно, с напором. Двое его спутников стояли с каким-то отрешенным видом, возможно, они по-итальянски не понимали. Но белый то и дело указывал на них рукой. Наше присутствие его совершенно не смущало – впрочем, хозяин мог ответить ему, что мы не знаем языка. Иранец смотрел перед собой. Что-то происходило у него с лицом. Лицо не двигалось, не дергалось, даже желваки не ходили – но оно словно выбирало, как бы ему лучше окаменеть. Было видно, что мышцы под кожей натягиваются то так, то эдак и с каждым разом все туже. И вдруг иранец резко рванул на себе строгую белую рубашку. Пуговицы звонко запрыгали по полу, одна закатилась под наш столик, а визитеры от неожиданности отшатнулись, даже шагнули назад. На безволосых груди и животе хозяина отчетливо выделялись три отвратительно аккуратных, лишь чуть-чуть радиально лучащихся круглых рубца, расположенных по диагонали вниз от правого плеча. Я никогда прежде не видел следов от пулевых ран, но по поводу этих отметин сомневаться не приходилось. Между двумя верхними пролегал бурый хирургический шрам, и белые пятнышки шва шли по сторонам от него. Иранец что-то даже не сказал, почти выкрикнул, негромко, но сорвавшись на хрип – а получилось как-то по-птичьи, – теперь уже на своем. Но, видно, араб его понял. И молча отступил. Иранец, постаревший разом лет на десять, глядя в пол, прошел к кассе, ударом задвинул ее денежный ящик и скрылся за дверью, ведущей во внутреннее помещение. Гости, после минутной заминки, молча ушли. Но на прощание белый не по-хорошему пристально посмотрел на сидевшего с нами афганца. «Вот это, – Амир проглотил комок и перевел нам слова хозяина, не дожидаясь нашей просьбы, – я получил за Коран. Что еще вы можете мне о нем рассказать?»
Все, пора заканчивать описание путешествия. Собственно, на этом месте оно, путешествие, и переламывается, а дорога домой есть дорога домой. Заигравшись в творчество и малый бизнес, Пудис как-то забыл о сроках, чему я, впрочем, был даже рад – это уравновешивало мое зависание в Ганновере и я мог не чувствовать себя виноватым. Когда мы наконец очнулись и вспомнили, что наши визы истекут меньше чем через неделю, состоялся военный совет – стоит ли нам переходить на положение серьезных уже стопщиков, бродящих по объединенной Европе безо всяких разрешающих документов. Я-то, самое смешное, был по-неофитски за, но Пудис, имевший опыт, мой пыл умерил, объяснив, что, если попадешься, это может обернуться действительно большими проблемами – ну, не тюремным сроком, но долгими разбирательствами, тем более что платить огромные предусмотренные тут штрафы нам к тому моменту уже наверняка будет нечем. Так что из Милана, вместо Рима и Флоренции, мы повернули назад, на север, на северо-восток, если точнее. Денег у нас теперь было достаточно, и мы потакали себе в чем могли, а передвигались автобусами.
Вечер и ночь в Венеции, полдня в Вене, день в Праге, куда мы решили заехать, уже убедившись, что всюду успеваем, а также чудесный польский Вроцлав тоже, конечно, заслуживают рассказа. Но я читаю все, что успел написать, и вижу: получилось у меня не то, что я хотел. Вышла какая-то череда забавных историй, а ведь намерение было другое. Я теперь догадываюсь, что настоящий писатель должен уметь обходиться вообще без историй. Хотелось побольше рассказать о Пудисе. Вот, пока он был рядом, не чувствовалось в нем ни загадки, ни пустоты (не в смысле никчемности – я имею в виду затушеванность простых свойств, о которых легко говорить). А теперь обнаружилось и то и другое, теперь он от меня ускользает. Я хотел изобразить особое, сплошное и плотное течение времени – пожалуй, главное открытие для меня в той поездке. А получилось как в кино: кадр, перемиг, новый кадр. И еще мне не удалось передать ощущение, в котором я дал себе отчет, только вернувшись домой, но тут же понял, что оно, оказывается, сопутствовало мне все время, было, пусть слабым и дальним, фоном для всех без исключения впечатлений. Я чувствовал, что здешний большой праздник, на который мы вдруг попали, на самом деле давно уже закончен, его догуливают по инерции, потому что никто не отваживается первым признать, что все уже позади и пора расходиться. Кожей ощущал, как хрупок и просрочен европейский покой. Его чудесным образом не нарушили даже войны последних десятилетий. Обычному немцу, баварцу, да что там, даже итальянцу, который мог бы доехать на автомобиле до Сараева за световой день, а до Косова меньше чем за сутки, представляется, что это все-таки где-то далеко, в ином совсем мире, куда порой отправляются с очередной благородной миссией европейские солдаты, не приученные к мысли, что на войне могут и убить; откуда появляются беженцы, создающие проблемы.
Кто-то мне говорил – из русских, разумеется, – на той вечеринке у фотографа в Милане: «Никакой Европы больше не существует. Есть некоторая иллюзия, миф, доживающий последние дни. Ну, и камни стоят». Не то чтобы механизм устроенной и аккуратной жизни был уже неисправен. Нет, его отлично выделанные шестеренки долго еще могут цепляться друг за друга. Но стоит ему дать хотя бы единственный сбой, назад уже ничего не вернешь. Потому что потерялась сама идея, воплотившаяся в нем. Чтобы отстаивать себя и свое перед лицом злого, агрессивного и сильного (а то и наоборот – слишком привлекательного) чужого, вряд ли достаточно только любви к комфорту и привычки к богатству. Потребуется самоограничение, придется даже терпеть лишения, даже самопожертвование будет необходимо – а ради чего? Я, понятное дело, ни у каких немцев или итальянцев ничего такого не спрашивал – даже если было бы у кого, выглядело бы по-хамски. Но отчего-то я уверен, что любого из них такой вопрос поставил бы в затруднительное положение, вздумай он постараться ответить серьезно. Впрочем, он ставит в тупик и меня, когда я задаю его себе самому. Ну хотя бы (а может быть, прежде всего) животная жажда жизни здесь необходима. Я не переживал пока еще, слава богу, действительно больших несчастий, которые, говорят, только и делают такие вещи совершенно ясными, но все же и мне кажется: в благополучной Европе представление о сути и выносимости человеческого существования слишком уж тесно связано с тем, что мой старавшийся быть независимым от всего на свете папаша саркастически называл культурной обстановочкой. Боюсь, мы бы все очень удивились, узнав, сколько, например, нынешних французов предпочтут эвтаназию потере возможности регулярно посещать ресторан. Действительно злую и дееспособную кровь гонят сегодня по жилам Европы бывшие и нынешние переселенцы, иммигранты: от полунищих нелегалов до сделавших состояние и давно натурализовавшихся, от программистов и биологов до уличных торговцев и разнорабочих. И многие из них осознают это. И многие считают, что настоящие европейцы пользуются слишком высоким статусом уже не по праву (а сами «настоящие» все еще рады им поддакивать: это считается гуманностью и стремлением к справедливости в мировом масштабе). И очень на многих давит европейское прошлое, все, целиком: древние греки, Каролинги, рыцари, монахи, мушкетеры, замки, университеты, дворцы, соборы, картины… Тяжеловесное наследие не дает им забыть, что, кем бы они тут ни стали, к этому, к этой Европе, они все равно никогда не будут иметь отношения. Вот это их и не устраивает.
Они уже уверены в своем праве на европейскую благодать, и им нет дела до того, кем была когда-то выстроена и налажена здешняя жизнь. Они готовы переналадить ее под себя, потому что не желают ощущать себя просто прививкой на чужом стебле. Они могут стать реальной силой, если найдут какой-то способ объединения. И вряд ли останутся на стороне старой Европы, когда пойдет заваруха. Наверное, не сегодня и не прямо завтра (и еще можно постараться что-то захватить, прожить, успеть), но и не в теоретическом, отвлеченном будущем этой Европе – и предвестья, по-моему, уже разлиты в воздухе – суждено кануть, сгореть в огне какой-то новой войны. Действительно, останутся камни. Если еще останутся.
Я не испытываю азарта или злорадства сейчас, когда говорю об этом. Я предпочел бы верить, что все обойдется, сохранится хотя бы таким же, каким застали мы, и останется возможность совершать время от времени приятное бегство в атмосферу благополучия, безопасности и уважения к человеку. Я сам себе кажусь кликающим беду.
И потом я уже ничего не мог с собой поделать. Я больше не воспринимал Европу без этой печальной и как бы прощальной ноты. Впрочем, настроение, которым она окрашивала для меня две наши с Пудисом следующие поездки, предпринятые с интервалом в полгода, было таким поэтическим, отрешенным, приятным. Пудис соглашался, когда я делился с ним своими мыслями, – он тоже чувствовал что-то подобное, и для него это было даже более болезненно. В будущем мы собирались поменять направление. Пудис тянул меня в Индию, где был однажды, вернулся завороженный и с тех пор скучал по ней; он говорил, что из всех знакомых ему стран только в Индии, как ни странно, несмотря на ее пугающий поперву облик, мог бы остаться и жить. И уж Индия-то никуда не денется и вряд ли в скором времени превратится во что-то иное, так что нам не придется снова ощутить горечь потери.
Ну а пока мы, стало быть, прощались с Западом. Сначала поездкой на две недели, с автобусным забросом, во Францию, откуда сперва думали, глядя по обстоятельствам, либо в Испанию с Португалией, либо в Голландию, либо даже в Англию – возможно, и нелегалами, – а в итоге попали, почти как в Гамбурге, в приятную интернациональную компанию, правда, уже не аспирантов, а так, всяческой богемы, не слишком, впрочем, сумасшедшей и разгульной – и на этот раз без русских. Так что время мы проводили в основном в Париже или в предместьях, три дня прожили в доме на побережье под Булонью, смотрели на корабли в проливе да съездили оттуда на стареньком мини-вэне на сутки в Бельгию, где, в общем-то, не было ничего особенно интересного. В третьей экспедиции произошел и вовсе головокружительный поворот от намеченного маршрута. Намеревались мы добраться все-таки до Португалии, а попали в Словению, и даже объяснить трудно, как это получилось: надоело торчать на заправке, решили ехать хоть куда, хотя бы приблизительно в нужном направлении, оказались за Дрезденом, на чешской границе, а там две симпатичные украинки на собственном автомобиле; и совсем немного нам вроде бы было с ними по пути, но Пудису жаль стало так скоро расставаться: в конце концов, мы что, на задании? Разве мы обязаны придерживаться каких-то планов? Украинки оказались поэтессами: они сперва навестили друзей в Берлине, а теперь спешили в Любляну на какой-то литературный фестиваль. В Вене мы смотрели Брейгеля, на которого не попали в прошлый раз – Пудис тогда сильно сокрушался, а теперь долго еще ходил под впечатлением, ошарашенный. Вообще неплохо провели время, даже не очень расстроились, узнав, что за несколько часов парковки в центре сумму нам насчитали астрономическую.
Мы, собственно, думали только проводить девушек до границы и были уверены, что нас завернут. В Словении, насколько мы знали, свой порядок, свои визы – но по шенгенской пропустили без проблем. В Любляне поэтессы мгновенно погрузились в бурную литературную жизнь и начисто про нас, невдохновенных, забыли. Пудис погоревал пятнадцать минут, потом махнул рукой и забыл про них тоже.
Любляна – маленький город, к тому же студенческий, там сразу ясно, что где и что к чему. Мы тут же забурились в эдакий альтернативный центр – собственно, целый квартал. Поели не знающей государственных границ шурпы из котла у арабов в платках, немного поспали в пустом и тихом в такое время хостеле (сперва по ошибке сунулись было в специальный корпус для встреч однополых любовников), а вечером уже сидели тут же, по соседству, в антиглобалистском клубе за грубо сбитым столом возле пылающей печки-буржуйки и слушали радикального индустриального диджея, и длинноволосый мужик лет тридцати пяти объяснял нам по-английски, что до восьми часов вечера клуб используется как университет для рабочих, им тут доктора философии из большого, настоящего университета растолковывают механизмы порабощения и новейшие методы борьбы с транснациональным капитализмом. Я посмотрел вокруг: по крайней мере портретов бен Ладена на стенах не было. Зато прямо у стойки бара девушка с истощенным лицом и готично подкрашенными глазами продавала, отрывая от листа, яркие бумажные марки и еще маленькие, аккуратно сложенные бумажные конвертики – вряд ли внутри было средство от насморка. Потом кто-то шуганул ее, я не видел. Мужик попрощался и собрался уходить; напоследок выяснилось, что это был атташе по культуре здешнего французского посольства. Диджей закончил, рассоединял свои аппараты и убирал диски в чехол. Следующий концерт – приезжего джазового авангардиста, знаменитого – начинался через полтора часа, и за билет нужно было платить заново. Мы спросили парня на входе, что тут еще есть в округе, и переместились в рок-бар.
Он весь был какой-то красно-розовый изнутри. Наверху танцевали. Музыка была старая, не позже восьмидесятых годов, и орала очень громко. За большим столом рядом с нами праздновала день рождения девица отличных рок-н-ролльных форм. Потреблялось здесь, как и положено, в основном пиво. Я-то потом пристрастился в Словении к зеленоватому албанскому коньяку, но его продавали не везде. «Сиськи и пиво, – сказал Пудис. – У меня дома винил Фрэнка Заппы, там есть такая песня. Глупая, но смешная». В торжественный момент свет в зале погасили, внесли именинный торт. В центре у него горели свечи, а по окружности располагались шесть больших марципановых пенисов. Дальше все долго фотографировали, как именинница их кусает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































