Текст книги "Большая чи(с)тка"
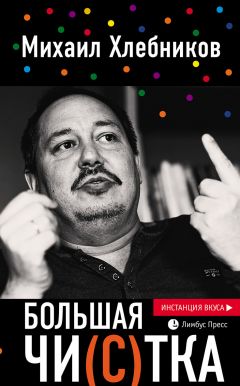
Автор книги: Михаил Хлебников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Венедикт Ерофеев, или Хризантема на тахте
Последний – хочется сказать «крайний» – подъём интереса к отечественной литературе пришёлся на так называемые перестроечные годы. Не каждый знаток литературы сегодня может вспомнить гремевшие тогда имена. Сергей Каледин, Валерия Нарбикова, Леонид Габышев, Виктор Ерофеев объявлялись «открытиями», «вехами», «создателями нового языка». Иногда творцы вступали между собой в заочный конфликт. Многие критики тогда серьёзно обсуждали вопрос: Виктора Ерофеева или Валерию Нарбикову следует считать основоположниками современной эротической прозы? Всерьёз, по-взрослому сравнивали такие шедевры, как «Русская красавица» и «Около эколо». По степени присутствия и влияния этих текстов на современную словесность их можно сравнить с шумерской литературой. Хотя, наверное, я неправ: сегодняшние российские фантасты с интеллектуальной подкладкой время от времени обращают свой взор на мифических героев, к которым относится и Гильгамеш.
За прошедшие десятилетия кто-то из звёзд перестроечной прозы ушёл из жизни, а по поводу остальных публика просто не знает, что они живы. Заметим, что некоторые из авторов и сами разочаровались в литературном творчестве. Так, Валерия Нарбикова переключилась в основном на живопись, а немногочисленные прозаические вещи публикует в таких солидных и не всякому доступных издательствах, как «ДООС и Елена Пахомова». Её собрат по терпкому эротическому слову Виктор Ерофеев в основном посещает культурные ток-шоу и пытается интриговать читателя сочинениями типа «Хороший Сталин». Аудитория на провокацию не ведётся, и автор возвращается в пыльный уют телевизионных студий – говорить о загадках русской души.
Впрочем, Виктору Ерофееву ещё относительно повезло. Его иногда путают с однофамильцем (неискушённый читатель может по ошибке и прикупить «Хорошего Сталина») – Венедиктом Ерофеевым, посмертная литературная судьба которого оказалась интересней творчества его здравствующих коллег – звёзд перестроечной литературы. Венедикт Ерофеев скончался в мае 1990 года на пороге тогда ещё всесоюзной славы: при его жизни вышли первые издания его главной книги «Москва – Петушки», на сцене поставлена пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», журналисты успели взять интервью, критики написали первые статьи, в которых отметили и выделили.
Смерть Ерофеева и геополитические сдвиги эпохи не погасили интереса к его творчеству. Несмотря на общее падение интереса к литературе, его немногочисленные тексты переиздаются в различных комбинациях и вариантах: от «малого собрания сочинений», что само по себе тавтологично в случае Ерофеева, до солидного двухтомника – в уменьшенном формате, иначе на два тома объёма просто не набирается. Творчество Ерофеева становится предметом живых научных дискуссий. Например, в Твери прошла целая научная конференция, посвящённая анализу «Петушков», устроители которой подчёркивали в предисловии к изданию материалов «строго академический» характер мероприятия. Наконец, в прошлом году вышла первая биография писателя – «Венедикт Ерофеев: посторонний», написанная О. Лекмановым, М. Свердловым, И. Симановским. Четырёхтысячный – немалый по нашим дням – тираж был не просто быстро распродан. Буквально через несколько месяцев, уже в начале 2019 года, выходит второе издание: исправленное и дополненное. Согласимся, что на фоне вялого литературного процесса перед нами, несомненно, событие, требующее своего анализа и толкования.
Нужно отдать должное авторам «Постороннего»: они систематизировали и обработали практически все доступные материалы, касающиеся жизни своего героя. В ходе работы дополнительно опросили лиц, знавших Ерофеева в разные периоды его биографии. Авторы книги в предисловии особо подчёркивают объективный характер своего труда: «Себе мы отвели роль отборщиков, тематических классификаторов, а также проверщиков всего этого материала на фактологическую точность». Собранный, можно сказать, сгущённый житейский материал разбавляется анализом поэмы Ерофеева: жизнеописательные главы строго чередуются с литературоведческими. При этом возникает ощущение, что последние добавлены для объёма, настолько они вторичны, бледны, попросту инородны по отношению к самому биографическому жанру. Но эти главы срабатывают, в известной степени опровергая концепт авторов бестселлера.
Но начнём с главного вопроса, возникающего в ходе чтения книги, на который её создатели не смогли, на мой взгляд, дать ответа. Был ли Венедикт Ерофеев писателем? Вопрос этот, на первый взгляд, излишен. Объёмом написанного невозможно измерить принадлежность к литературе, которая определяется качеством, а не количеством. Это так. И как бы мало ни написал Ерофеев, тексты его востребованы, вызывают живой читательский интерес до сих пор. Об этом уже также было сказано выше. Но писательство – это не только то, что написал человек, но и то, как он сам относится к собственному слову. И в этом отношении Ерофеев демонстрирует несомненную уникальность. По характеру письма прозу Ерофеева можно отнести к так называемому советскому андеграунду в его экстрим-варианте. «Петушки» были написаны для узкого круга поклонников Ерофеева и предназначались для чтения в этом небольшом сообществе. Выход текста – «забавной штуки», по определению самого автора, – за пределы сообщества и его последующая популярность – эффект не прогнозировавшийся и неожиданный. Об этом говорит и герметический характер сочинения: шутки для своих, обороты речи, принятые в ерофеевском кругу, намёки, аллюзии и прочие услады для вдумчивого филологического анализа.
И филология не подвела в очередной раз. Авторы предисловия к материалам уже упомянутой тверской конференции не без растерянности пишут об уникальном разнообразии подходов к решению вопроса о жанровой природе «Петушков». Настоящее буйство и цветение, конгениальное горячечному сознанию ерофеевского Венички: «Текст охотно откликается на любой подход: он может быть прочитан как пародия (А. Комароми), как трагическая ирония, выступающая в облике карнавального комизма (В. И. Тюпа, Е. И. Ляхова), как травестийный текст (Е. А. Козицкая), как единство двух автономных начал – пародийного и личностного (Н. С. Павлова, С. Н. Бройтман). Он (текст) охотно откликается на то, чтобы основным его жанрообразующим принципом считать тошноту как экзистенциальную категорию (Н. И. Ищук-Фадеева) или тему пути/путешествия (об этом не пишет только ленивый). Её структурообразующим началом может выступать и гоголевский (Е. А. Егоров), и библейский (Г. С. Прохоров) пласт».
Опустим последующие трактовки поэмы, скажу лишь, что там начинают мелькать уже такие философские величины, как Кант, Гегель, Ницше, Шопенгауэр, Камю.
Что касается личного восприятия всего предложенного спектра трактовок и интерпретаций, то тошнота – да, присутствует в поэме Ерофеева, но не в высоком сартровском толковании, а как знакомое, увы, многим читателям физиологическое состояние. Символом отчаяния ведущих ерофееведов выступает следующее итоговое заявление:
«Загадка поэмы в том, что всякое её понимание убедительно и не противоречит другим. Она опровергает привычные представления об интерпретациях как вариантах некоего инварианта, потому что в ней нет (или пока невозможно найти) доминанты. Её можно читать так и эдак, и всё будет “правильно”, убедительно, доказательно…»
Конечно, недурственно, когда можно «так и эдак», но сомнения рождаются.
Поиск ответа неизбежно приводит к источнику написания пародийно-карнавально-травестийно-автономного текста с библейским пластом. Источник этот известен – записные книжки Ерофеева. Они стоят на особицу в литературном наследии автора. В любых вариантах изданий Ерофеева, рассчитанных на массовость, записные книжки присутствуют в сокращённом, усечённом виде. Это объясняется тем, что туда вписывалось многое, слишком многое, излишнее для творческой лаборатории писателя. К примеру, мы можем найти там расписанную по дням температуру воздуха за три месяца. Есть примеры чуткого вслушивания в речь окружающих: Шутки железнодорожников: «На половом довольствии». Смешно. Ещё пример уникального чувства юмора: Висит груша, нельзя скушать (тётя Груша повесилась). Потом трудолюбивой рукой на многих страницах воспроизводятся пословицы народов мира. Ерофеев начинает с бенгальских, тамильских, японских… переходит к пословицам народов СССР – армянским, грузинским, чечено-ингушским. Успокаивается автор на мудрости народов Африки. Что тут можно сказать: «Не мешай фонтану – пусть бьёт!» (башкирская пословица). Имеются также многочисленные записи энциклопедического характера: от изложения философских принципов экзистенциализма до цитат из Отцов Церкви, Толстого, Достоевского. Записные книжки отражают и вдумчивую работу молодого автора над языком. Вот он составляет синонимические ряды: дуться, вздорить, препираться, брюзжать, ворчать.
Иногда «Записные книжки» особым образом удивляют читателей. М. Гринберг – известный переводчик – делится своим открытием: «Всё время что-то в этих записных книжках записывал, ловил из воздуха. Я даже с удивлением обнаружил там одну свою очень среднего качества хохму». Но не будем брюзжать и ворчать: в текстах записных книжек Ерофеева, помимо указанного материала, присутствуют и вещи ручной, ерофеевской работы, ставшие не просто источником, но и основой как поэмы, так и единственной пьесы Ерофеева «Вальпургиева ночь». По подсчётам А. С. Поливанова, в тексте поэмы обнаруживаются до восьмидесяти фрагментов, прямо восходящих к содержанию «Записных книжек». Наличие их одновременно объясняет и факт быстрого написания «Петушков», и факт последующего молчания «писателя Ерофеева», о котором так много говорится на страницах его жизнеописания. Говорится, но не объясняется, хотя понимание этого феномена находится на поверхности.
Но сначала вспомним одного из героев повести Сергея Довлатова «Заповедник» Митрофанова – звезду экскурсионного бюро в Михайловском. Митрофанов прекрасно учился в школе и без проблем поступил на филологический факультет университета, на котором выяснилось, что «уникальная память и безмерная жажда знаний» не просто составляли яркую основу личности юного эрудита, но были её единственными элементами. Его первая курсовая работа состояла из фразы: «Как нам известно…» Митрофанова отчисляют из университета. Последующие попытки применить на практике тот гигантский объём знаний, которым владеет несостоявшийся филолог, приводят к череде неудач. Секретарство у почтенного академика с несостоявшейся перспективой совместного научного труда, работа консультантом на «Ленфильме», для которой Митрофанов был вроде бы предназначен самой судьбой:
«Это была редкая удача. Митрофанов знал костюмы и обычаи всех эпох. Фауну любого уголка земли. Мельчайшие подробности в ходе доисторических событий. Парадоксальные реплики второстепенных государственных деятелей. Он знал, сколько пуговиц было на камзоле Талейрана. Он помнил, как звали жену Ломоносова…»
Нежелание заполнить анкету перечеркнуло эту возможность. При этом Митрофанов продолжал читать и изучать иностранные языки… Работа ночным сторожем в кинотеатре, требующая единственного осознанного усилия – выключения рубильника, также оказалась чрезмерной для знатока фауны. Довлатов заканчивает рассказ о своём михайловском знакомце словами, которые приложимы, увы, ко многим когда-то подававшим надежды: «Он был явлением растительного мира. Прихотливым и ярким цветком. Не может хризантема сама себя окучивать и поливать».
Биография Ерофеева не просто рифмуется с его книжным двойником, хотя здесь есть невероятно точные совпадения. Незаконченный филологический факультет, дружба с учёным – в случае Ерофеева это академик Дело-не, – поражающая окружающих эрудиция, любовь к иностранным языкам, бытовая лень. Так же как и Митрофанов, Ерофеев бросает учёбу внешне необъяснимо, чем ставит в тупик своих биографов.
Блестяще, с золотой медалью окончив школу, он рассылает заявление о поступлении в ведущие университеты СССР. Первым откликнулся Московский государственный университет. Без труда сдав устное собеседование, Ерофеев становится студентом первого вуза страны. Легко, с отличными оценками прошла и первая сессия. Второй сессии уже не было. Молодой перспективный студент, попавший в Москву прямиком с Кольского полуострова, отказывается учиться. Можно лишь строить предположения по поводу того, что сломало провинциального эрудита или сломалось у него внутри. Вариантов много: от нежелания следовать достаточно жёстким правилам роста молодого интеллектуала (монотонный каждодневный труд с отложенным и негарантированным результатом) до растерянности перед громадностью культурного пласта, который был освоен многими его столичными однокурсниками по «праву рождения». Догонять Ерофеев никогда не умел. Наверное, он мог попытаться пережить этот или другие кризисы, если бы не случилась роковая встреча. Знакомство с алкоголем окончательно определяет судьбу юного Венедикта. Алкоголизм – главный и единственный двигатель судьбы, объясняющий и определяющий все зигзаги и повороты жизни «свободного человека, которому довелось жить в несвободное время в несвободной стране». Этими словами авторы книги завершают биографию Ерофеева, которая в действительности проще и трагичней этих напыщенных и стёртых слов.
Ерофеев однажды в своей жизни совершает поступок, который можно назвать условным подвигом для алкоголика, не способного сосредоточиться на решении какой-либо задачи, требующей долговременных усилий. Авторы биографии видят в этом продолжение уникальных талантов своего героя:
«Наделённый от природы прекрасными способностями, Ерофеев почти всегда быстро, нахрапом, достигал первых блестящих результатов и ими вполне удовлетворялся. Всё, что требовало усидчивости и долгого, однообразного труда, приводило Ерофеева в уныние, и он, при всей своей тяге к систематизации, остывал и бросал начатое».
В словах соавторов присутствует скрытое лукавство: где примеры «блестящих результатов» Ерофеева? Его единственное достижение, которое я назвал выше подвигом, – написание стостраничных «Петушков». Анкета всё же была заполнена… Точнее сказать, как мы уже знаем, не написание, а компоновка материала из записных книжек, что также не замечается его биографами, для которых необходимо чудо возникновения шедевра. Из ничего, одним усилием таланта. Но на усилие как раз их герой не был способен…
Напомним, что поэма делится внутри на перегоны: Москва – Серп и Молот; Серп и Молот – Карачарово… Обращение к железнодорожному расписанию оказалось единственным возможным способом организации заготовленного словесного материала. В поэме отсутствует сюжет как таковой. Впрочем, ценители поэмы указывают на стилистику и авторский язык как на её главное достоинство. Содержание, как мы уже знаем, можно трактовать «так и эдак». Что касается языка, то тут при спокойном прочтении открываются простые и неприятные для ценителей Ерофеева вещи. Прежде всего это касается, как ни странно, цитатной насыщенности. К настоящему времени издано несколько путеводителей по тексту, да и в «Постороннем», как мы помним, биографические главы чередуются с филологическими изысканиями авторов жизнеописания. Объём комментариев превосходит сам текст, как правило, в несколько раз. Это ещё раз свидетельствует об его конструкторском, техническом происхождении, что противоречит цельной природе творчества как такового. Куски из «Записных книжек» сшиваются механически, что приводит к указанной исследователями жанровой анархии.
Случайно выбранное Ерофеевым определение текста как поэмы прямо противоположно её сути. Стилистически автор, тут ему нужно отдать должное, последовательно следует тому же эклектическому методу. И это не принципиальный выбор, а именно «так проще», тесно связанное с эпическим «так и эдак». Что прочитано, выписано, то и озвучено. Хотите интонацию Достоевского? Пожалуйста:
«Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грёз, и усилий – он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок».
Не знаю, как вам, а для меня это привет от Парадоксалиста, того, который в «Записках из подполья».
Автор с карандашом прочитал библейские тексты, милости просим:
«Но вот ответное прозрение – я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белёсость! О, колдовство и голубиные крылья!»
Вот вам ерофеевский вариант Песни песней, как сумел, как смог. Кроме названных источников можно найти (и находятся) иные разводные ключи, с помощью которых текст разбирается до винтиков: от Блаженного Августина до исповедальной прозы шестидесятников. И вот здесь заключается проблема. Если разложить по кучкам винтики-гаечки и прочий крепёжный материал, что останется перед нами? Где то, что относится к такому понятию, как «литература»?
Для большинства любителей «Москва – Петушки» сводятся к нехитрому набору цитат: «и немедленно выпил», «коса до попы», «я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы мне прежде показали уголок, где не всегда есть место подвигу». В русской литературе есть произведения, которые становятся источником устойчивого цитирования. Не буду трогать Грибоедова, обратимся к двадцатому веку. Книги Ильфа и Петрова, Булгакова и Довлатова не менее цитируемы по сравнению с Ерофеевым. Но в отличие от поэмы цитаты из «Двенадцати стульев», «Золотого телёнка», «Мастера и Маргариты», «Театрального романа», «Компромисса» являются яркой, но всего лишь частью текста с его сюжетными ходами, героями, внутренним движением. Если так можно сказать, то афоризмы работают на текст, помогают его раскрыть, но не заменяют его.
Для Ерофеева писательство невозможно по причине нежелания, невозможности совершить усилие по созданию живого мира. Он пользовался, как мог, популярностью поэмы: устроил себе московскую прописку, второй раз зряче женившись на Галине Носовой, мечтавшей быть «женой писателя», получил стол, чистую одежду и спокойную жизнь. Но стол использовался в основном для интеллектуальных бдений с дионисийским погружением. Попросту за ним пили. За исключением алкоголя Ерофеев вёл жизнь, неотличимую от быта обыкновенного советского обывателя. Его приятели не без удивления отмечали этот факт. Обратимся вновь к тексту жития.
«Пристрастился он и к почти ежевечернему сидению перед телевизором. “«Следствие ведут знатоки» и всё такое прочее, – вспоминает Марк Гринберг. – Я этого не смотрел, разве что футбол”. “Муравьев всё удивлялся: Ерофеев Штирлица смотрит! – писала в мемуарах Галина Ерофеева. – А он смотрел и был в восторге, сколько раз ни передавали – раза три, наверное, – каждый раз смотрел. Или «Место встречи изменить нельзя»… Тем более что там Высоцкий. И программу «Время» всегда смотрел”. “На Флотской он устраивался на широкой тахте и смотрел телевизор” – рассказывает Людмила Евдокимова».
Иногда он устраивался и на работу. Работа была примечательная – дежурство на пульте резервного энергоснабжения Кремля. Снова воспоминания Марка Гринберга: «Он должен был там дежурить. Со смехом говорил: “Если на мой телефон позвонят, то я должен вот эту ручку дёрнуть”. Вот и все его обязанности были». Проработал он там, естественно, недолго. А теперь напомню знаковые моменты биографии эрудита Митрофанова: «Его устроили сторожем в кинотеатр. Ночная работа: хочешь – спи, хочешь – читай, хочешь – думай. Митрофанову вменялась единственная обязанность. После двенадцати нужно было выключить какой-то рубильник. Митрофанов забывал его выключить. Или ленился. Его уволили». Волшебная сила искусства.
Сняв руку с электрического пульса страны, Ерофеев не торопится браться за перо. Всё, что он пишет в это время, – вымученное десятистраничное эссе о Розанове. Вымученность следует понимать не как метафору, а как суровую правду жизни. В благодарность за проживание на даче у Светланы Мельниковой – близкой к православному полуподпольному журналу «Вече», он берётся за написание текста о великом русском философе. Для работы писателя помещают практически под домашний арест, понимая уже тогда, что он является тем самым «свободным человеком». Не без умиления сам арестант вспомнил позже: «Мне в окошечко давали бутылку кефира и два куска хлеба на блюдечке». Но даже кефирная диета не смогла превратить «Розанова глазами эксцентрика» в бриллиант отечественной эссеистики.
Интонационно это те же «Петушки»:
«Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошёл в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило».
И вот здесь возникает странный, но объяснимый эффект. На фоне интимной прозы Розанова эссе Ерофеева выглядит откровенным кривлянием, (под)заборным творчеством. И в этом Ерофеева трудно упрекнуть – иначе писать он просто не умеет. После рассуждений о пропорциях смешивания денатурата, политуры и бархатного пива, как и о том, что Гёте спаивал своих персонажей, соревнование с великим русским философом и писателем проигрывается вчистую. Не зря сам Василий Васильевич называл себя «трезвым русским», подчёркивая тем самым напряжение и внутреннюю собранность, через которые он и пришёл к своему исповедальному, словесно предельно точному письму. Через полный курс университета, кстати, и переводы Аристотеля. А тут просто, без классиков:
«Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицы “кавалерственную даму” Веру Фигнер (она глазом не повела), а всем остальным вдумчиво роздал по подзатыльнику».
Ударно потрудившись, эссеист решает отдохнуть, и процесс восстановления после злоупотребления кефиром растягивается на долгие годы. Но публика ждёт от автора «Петушков» и многообещающей малой прозы нового прорыва. Прорыва не получается. Не от того, что Ерофеев пишет и рвёт написанное. Да, его рвёт, но от выпитого. Постепенно до окружения начинает доходить простая и лежащая на поверхности догадка: может быть, кумир вовсе не писатель? Или писатель, но нового типа? Авторы биографии не смогли избежать этих свидетельств печального прозрения. Владимир Муравьёв, знавший Ерофеева с его первых и, как оказалось, последних университетских месяцев: «Конечно, Ерофеев был больше своих произведений». Лидия Любчикова, познакомившаяся с Ерофеевым ещё до написания эпохальной поэмы: «Все мы, друзья молодости, любили его не как знаменитого писателя, а как прелестного (именно!), обаятельнейшего, необычайно притягательного человека. Мы очень чувствовали его значительность, он был для нас значителен сам по себе, без своих писаний». Людмила Евдокимова – супруга уже знакомого нам Марка Гринберга: «Для меня образ Вени, каким я его помню, совершенно заслоняет его книги или, вернее, книги неотделимы от этого образа (хотя речь там идёт о том времени, когда мы не были знакомы)». Тут только вопрос: какие книги могли заслонить светлый образ Вени? Для «большого русского писателя» приведённые свидетельства убийственны. Представим себе сборник воспоминаний про Достоевского, итогом которого было бы: «Фёдор Михайлович – да, писал какие-то книги. Но сам-то интересней каких-то “Бесов” полуидиотских. Судьба какая – боролся с царизмом, сидел, ссылка, болезнь страшная, на гармонике хорошо играл, стихов много знал, про Пушкина здорово, до слёз, однажды так сказал».
Ерофеев, понимая, что публика проявляет уже признаки нетерпения, создаёт роман «Шостакович». Именно создаёт, а не пишет. Потому что текста такого никогда не было. Совсем не было. Автор напрягся и придумал даже не сюжет романа, а приём оригинальной подачи эротических сцен:
«…Как только герои начали вести себя, ну… как сказать… Вот, у меня этот приём уже украден – как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член ещё такой-то Академии наук, почётный член, почётный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почётный член… Итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то…»
Невероятная игра писательской фантазии. Теперь вместо «и немедленно выпил», вступает в игру иной ёмкий глагол. О трагической судьбе «утраченного» в неизбежной для Ерофеева электричке произведения автор рассказывает со стоицизмом, вызывающим невольное уважение:
«Всё это было в сетке. Я могу назвать точно – вот это знойное самое лето. 72-й год. Знойное лето под Москвою. Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву, и спал в траве превосходно».
В сетке, естественно, перевозился и другой духоподъёмный продукт – на основе которого и создавался знаменитый коктейльный ряд мастера. Двойная потеря, конечно, потрясла автора. Друзья скорбно свидетельствуют: «Надо знать, чем для Ерофеева был Шостакович, чтобы понять важность утраченной “книги” о нём».
В итоге даже самые преданные поклонники писателя начали догадываться о том, что ничего большего, чем отчёт о путешествии от Курского вокзала до подмосковного районного центра и обратно в столицу они не получат. К уже знакомым напевам о широте натуры Ерофеева, не вмещающейся в прокрустово ложе литературы, добавляется новый мотив. Музыкант Марк Фрейдкин предлагает нам новую модель писательства, по-ерофеевски:
«Веня постоянно ощущал себя действующим писателем, и, несмотря на то, что он “молчал” десятилетиями, это вполне соответствовало действительности. Причём он оставался до такой степени погружённым в литературу и словесность, что собственно писать ему было уже необязательно. В нём и подсознательно, и вполне осознанно шла непрерывная, напряжённая и изощрённая словесная работа, заключавшаяся в сочинении и вышелушивании из языковой и житейской реальности анекдотов, каламбуров, аллюзий, парафраз, инверсий, синекдох, литот, оксюморонов, плеоназмов…»
Вот так каламбуры и инверсии с помощью оксюморонов создают великого писателя.
Здесь возникает очередной важный вопрос: почему окружение «писателя» с таким завидным упорством толкало его в гении? При этом многие из энтузиастов уже тогда прекрасно понимали истинный масштаб дарования Ерофеева. За всеми аллюзиями и парафразами скрываются вещи серьёзные, относящиеся к литературе и не только. Напомню, что семидесятые годы были временем расцвета деревенской прозы. Имена Шукшина, Распутина, Белова, Астафьева пришли к читателю и обрели заслуженную известность. Одновременно начался стремительный закат прозы шестидесятников. Сами герои недавних времён объясняли это происками реакционных сил, возрождающимся сталинизмом и старым добрым антисемитизмом. При этом никто не хотел проговорить простую и понятную всем вещь: исповедальная проза Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова просто перестала быть востребованной. Возникший как антитеза положительным героям соцреализма – чубатым комсомольцам, до хруста затянутым в ремни, преодолевшим всё и вся, – ищущий себя, неоднозначный, с гитарой на плече герой был, несомненно, интересен. Он казался свежим и живым на фоне бронзовых неподвижных фигур.
Большое не только видится на расстоянии, но, увы, и забывается. Мы сейчас на одном выдохе говорим про шестидесятые-семидесятые годы, упуская из вида один важный момент. Семидесятые кардинально отличались от шестидесятых, эти близкие, слепленные в нашем сознании десятилетия относятся к разным эпохам. Стоит подробнее остановиться на этом в другой раз, а сейчас лишь конспективно отметить следующее. Для семидесятых характерна установка на прагматизм, отказ от идеологических споров в пользу решения житейских, бытовых вопросов. Поэтому такую популярность приобретает проза Ю. Трифонова, которого в предыдущее десятилетие никто особенно не замечал. Его московские повести – портрет интеллигента, который по чуть-чуть, но фатально смещается из сферы решения, пусть и даже на уровне сознания, высоких проблем в область тех самых ясных, простых, насущных задач. Вспомним название одной из них: «Обмен». Его можно понять и как процесс, далеко выходящий за рамки решения квартирного вопроса одной конкретной московской семьи. Обмен – сдача позиций (неважно, кто кем был или мог стать – либералом, сталинистом, маоистом), за которую ты сейчас получаешь вполне конкретные вещи: квадратные метры, престижную работу, путёвку в Болгарию. Шестидесятники как раз и были теми, кто пострадал от «обмена». У них была возможность влиять, быть в центре внимания, обладать «культурным капиталом». Если продолжить экономическую аналогию, то валюта шестидесятников не исчезла, она резко обесценилась…
Творцы занервничали и принялись реализовывать различные стратегии спасения, как индивидуальные, так и групповые. Например, Анатолий Кузнецов просто сбежал в Англию и принялся по радио рассказывать о своих страданиях, кто-то не такой нервный решил разложить яйца по разным корзинам. Сейчас об этом подзабыли, но многие из шестидесятников (Аксёнов, Гладилин, Войнович, Копелев) подались в авторы серии «Пламенные революционеры» в попытке вернуть утраченное на старых, проверенных временем акциях, одновременно про запас, на случай «варианта Кузнецова», творя «антисоветские шедевры». Чтобы было что показать в свободном мире. Кстати, в «Записных книжках» по поводу революционных сочинений шестидесятников, Ерофеев спрашивает: «Кто же они: бунтари или конформисты?» Парадокс в том, что они были и конформистами, и бунтарями одновременно.
В любом случае ситуация требовала и экзистенциального возмещения. В качестве компенсации требовалось показать публике настоящего русского, чтобы ощутили разницу между литературными образами деревенщиков и действительностью. Кстати, весьма символична неприязнь авторов «Постороннего» к деревенской прозе и сегодня. Вот О. Лекманов пишет в фейсбуке: «Просто вот из интереса перечитал почти все произведения вашего раннего Распутина и теперь (без)ответственно заявляю: “Это – читать невозможно и не нужно, это – очень плохая проза!”». Если автор на полном серьёзе отдаёт предпочтение Ерофееву перед Распутиным, то дело здесь не в эстетической глухоте, а во вполне осознанном идеологическом выборе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































