Текст книги "Большая чи(с)тка"
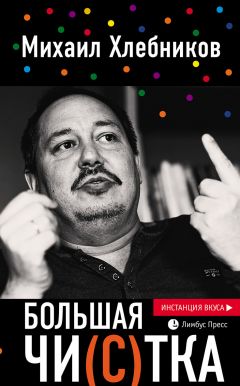
Автор книги: Михаил Хлебников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
И здесь возникает вопрос, касающийся личной и писательской честности Ерофеева, про которые так любят говорить его поклонники. Ерофеева буквально выдернули из уютной маргинальной среды и принялись показывать. Его водили по модным салонам, к нему приводили и его демонстрировали желающим увидеть того самого, «который про портвейн с зубным эликсиром». Понимал ли это сам Ерофеев? Судя по его записным книжкам, осознавал, извините за невольный каламбур, достаточно трезво. И «абсолютно свободный» писатель вёл себя точно также, как и несвободные коллеги-приспособленцы: вслух говорил одно, в мыслях держал совсем иное. Вот Ерофеев правильно шутит в присутствии Феликса Буха: «Если будут бить жидов, то я первым… пойду их защищать». За такое можно и налить, и вообще напечатать поэму в Израиле. А вот из «Записных книжек» по поводу революции в Германии и Венгрии:
«90 % всех ответственных и руководящих постов – евреи. “Красный террор”. Вожди – четырёхчленный ЦК: все четверо – евреи. Ниссен – Левине – Эйслер, Толлер, Ландауэр. В том же 19 г. – венгерская большевистская республика, возглавляемая евреем Бэла Куном. Бэла Кун и сотрудники его бегут в Россию, см. кровавую ликвидацию ими в Крыму остатков врангелевской армии и беженцев».
За проявление такой неправильной эрудиции можно и лишиться расположения прогрессивно мыслящей интеллигенции. Это вам не пуговицы Талейрана пересчитывать. Поэтому только в записях. Для себя.
Рискну предположить, что нежелание Ерофеева писать объясняется, помимо отсутствия собственно творческого дара, ещё и внутренним сопротивлением навязываемому материалу. Негласный заказ на «Петушки-2» означал насилие над природой. Саморазоблачаться на потребу, «валять» пьяного Веньку Ерофеев явно не хотел. В конце концов, творца всё же додавили и на выходе по принципу «на, отвали» получили «Вальпургиеву ночь» – пьесу про сумасшедший дом. Её главный положительный персонаж – Гуревич, который страдает от антисемитских шуток некоего Прохорова. Неплохой шахматный ход для любительской партии в непростых условиях.
Поэтому-то никто из окружения не спрашивал у Ерофеева, желает ли тот быть писателем. Но есть ли этот ответ для нас? Его возможный вариант, скажем словами Фрейдкина, «вышелушивается из житейской реальности». Чем увлекался Ерофеев? Алкоголь оставим в стороне – это способ существования, а не увлечение. Вспоминаем нелёгкую судьбу редкого знатока семейной жизни Ломоносова – Митрофанова. Ерофеев тоже любил учиться и получать хорошие оценки. Его скитания в молодые годы по подмосковным педагогическим институтам нужно понимать не только как поиск пристанища. Ерофеев со зримым удовольствием сдавал экзамены, ему нравилось удивлять экзаменаторов эрудицией, уровнем знаний, недоступным обычному абитуриенту. Позже он постоянно вспоминал с подробностями, которые, впрочем, мог и домыслить, свои экзаменационные триумфы:
«– А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого “хор.”, об этом не беспокойтесь, да вы вроде и не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почётную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших “Учёных записках” с тем, чтобы подкрепить себя материально. Все-таки вам 22, у вас есть определённая сумма определённых потребностей.
– Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуй, есть.
В кольце ободряющих улыбок: “Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустячный вопрос, ну, хоть о литературных критиках 60-х годов?”
– Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?
– По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные валяли дурака более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.
– Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злостного ретрограда тех времён?»
Присутствует ли в описании ирония? Да. Но она подчёркивает чувство лёгкости победы, того самого настоящего признания, которое и было ценным для Ерофеева. Во что он погружается после переезда в Москву и устройства быта? Никаких аллюзий и парафраз. Учёба. В сорок с лишним лет автор поступает на двухгодичные курсы иностранных языков и блестяще их заканчивает. Пишет на немецком языке прекрасные сочинения про Эрнста Тельмана – вождя германских коммунистов в тридцатые годы. Бережно хранит отзывы преподавателей на свои работы, пишет о своих учебных успехах сестре. Стоп… Отмотаем немного назад… И снова «пушкинист» Митрофанов: «Прочитал ещё триста книг. Выучил два языка – румынский и хинди». В несомненной эрудиции Ерофеева есть какой-то школьный привкус, когда на первый план выходит способность к количественному поглощению информации: выучил – рассказал, получил пятёрку. Ольга Седакова вспоминает, что Ерофеев, приходя к ней домой, любил по памяти на пишущей машинке печатать стихи Игоря Северянина:
«За несколько раз во время своих визитов Веня написал стихотворений двадцать. С собой он их не брал, и мне очень понравились эти поэтические кружева. Однажды, после очередного занятия машинописью, я спросила Веню, сколько стихотворений Северянина он знает наизусть. В тот раз он не ответил мне, но обещал подсчитать к следующему визиту. И слово своё сдержал. Оказалось, что он знал наизусть двести тридцать семь стихотворений Северянина».
И за это тоже нужно похвалить и поставить пятёрку.
Поэтому для Ерофеева не существовало писательства как проблемы. Он был равнодушен к каким-то мукам слова, искренне не видел причин для страданий. Одно время он был дачно знаком с Юрием Казаковым – соседом академика Делоне, у которого часто гостил Ерофеев. В конце семидесятых годов Казаков переживает несколько наслоившихся друг на друга кризисов: личный, семейный, писательский. С какого-то времени он потерял свойственную ему уникальную лёгкость письма. Кроме этого, ему казалось, что книги его не нужны, он отстал от жизни, его никто не читает: «Никогда не видел ни в электричках, ни в поездах, ни в читальнях, чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами. Их как будто бы и в помине не было». Выход он находил в алкоголе, повторив, увы, путь многих больших русских писателей. Казаков не просто пил, он сознательно запивался, отрезав для себя любые возможности спасения. Ерофеев в своих абрамцевских записях 1978 года с удивительным спокойствием описывает визиты Казакова, как и свои ответные посещения: «Весь вечер – у пьяного Казакова. Первые свинушки»; «Один подосиновик. Опять весь вечер у пьяного Казакова». Прорывается чувство недовольства по отношению к излишне назойливому соседу: «Вторжение вечером Ю. Казакова с водкой и портвейном». Впрочем, беспокойный сосед не нарушал идиллического настроения автора записок: «Дни начинаются с пива и заканчиваются вермутами и баиньками». Все эти страдания по потерянному слову далеки от автора, сумевшего, как мы помним, мужественно пережить пропажу эпохального романа «Шостакович».
Конечно, можно при желании списать многое на игру, карнавальность, к которым наш герой испытывал особую тягу. Но в жизни Ерофеева был момент, когда маски были сброшены и музыка умолкла. В 1985 году у него был обнаружен рак горла. Сделанная операция притормозила ход болезни, судьба подарила ему ещё несколько лет жизни. Для любого человека подобная ситуация – страшное испытание, и не только физическое, но и психологическое. Всё, что казалось устойчивым, вписанным в привычный порядок вещей и отношений, теряет смысл. У тебя нет завтра, оно остаётся у тех, кто останется. Для писателя положение усугубляется острым осознанием того, что не сказаны главные слова, ради которых ты и выбрал эту судьбу. Отчаяние и ужас имеют и обратную сторону – лихорадочную попытку успеть сказать, поймать те самые слова. История литературы знает такие примеры. В 1959 году непризнанному композитору, пробовавшему свои силы и в литературе, Энтони Бёрджессу был вынесен врачебный приговор – неоперабельная опухоль мозга. За оставшийся год жизни Бёрджесс написал пять романов. Диагноз оказался ошибкой, без которой, впрочем, не был бы создан «Заводной апельсин». Ерофеев отведённые ему пять лет не занимается ничем. В интервью, которое он дал Л. Прудковскому, есть показательный момент. На вопрос, ощущает ли он себя великим писателем, Ерофеев ответил: «Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А всё, что было сделано до этого, это – более или менее мудозвонство». Но ни за какой стол он не сел. Потому что незачем. Потому что, и мы это мы уже знаем, Венедикт Ерофеев никогда не был писателем. До конца дней он занимался тем, что пил и читал.
Мне осталось сказать ещё несколько слов о причинах неувядающей славы нашего уникального автора. Точнее, уникальность, явившая себя полвека тому назад, в наши дни стала рядовым явлением для «литературного процесса», заменившего собой живое, естественное движение литературы. Первая причина носила исторический характер. Парадокс в том, что Ерофеев воплотил в себе образ идеального советского писателя. Странное утверждение объясняется следующим образом. Кризис советского общества в семидесятые годы был связан с размытием его идеологической идентичности. Декларируемые социальные и этические ценности незаметно покинули мир действительности и перешли в область чистой идеологии, превратившись в унылые заклинания, вялые клятвы верности заветам. История подсказывает, что апелляция к славному прошлому, как правило, свидетельствует о больших неприятностях в настоящем. Этот процесс протекал с неодинаковой скоростью в разных социальных группах. Для большей части советского социума кризис был смягчён невероятным ростом социальных благ, благодаря которому, в частности, Ерофеев и получил квартиру, а с ней телевизор вместе с комфортной тахтой. Для наиболее активной, «ищущей» части творческой интеллигенции официальная советская литература становится объектом нигилистического отрицания. Её творцы порицались за двоемыслие, стремление к бытовым благам, конформизм. Общее отношение укладывалось в нехитрую формулу: писатель N съездил на БАМ и написал книгу о строителях-комсомольцах, после издания которой получил премию, купил дачу и автомобиль. N – фальшивый, неискренний человек и плохой писатель. Писатель Ерофеев написал «Петушки» – о том, как он пьёт политуру и за последние три года четыре раза побывал в психушке с приступом белой горячки. Ерофеев – цельный, искренний человек и хороший писатель.
Сегодняшнее кризисное состояние уже российского общества имеет не идентичное, но схожее измерение. Постепенно вызревает, формируется запрос на настоящего русского писателя. Ключевым здесь является слово «настоящий», каким был, например, Горький. Фигура сочинителя, уныло толкующего о том, как он развивает мифотворчество Борхеса в своём последнем романе, вызывает искреннюю зевоту даже у преподавателей университетов – одних из последних зрителей культурных телеканалов. В конце концов, они сами читали Борхеса. Или могут прочитать. Интеллектуал-сочинитель плавно опускается на морское дно. В эти же бездны отправляются щекастые бойкие авторы романов про расстрелянных поручиков, репрессии, гулаговские бараки и про то, как запрещали читать «Лолиту» Набокова. Сочинители в чистом виде уже не так интересны. Анкету читатель ещё не спрашивает, но биографией интересуется, хотя и на балующихся литературкой медийных персонажей уже не клюёт. Малаховых во всех вариантах не предлагать – видели-слышали. Есть потребность открыть писателя всерьёз, того, кто заплатил сам за право писать и говорить. Поэтому к Ерофееву, точнее к ерофеевскому мифу, прилипает из Лермонтова: «Да, были люди в наше время, // Не то, что нынешнее племя… // Плохая им досталась доля». Да, боец, каждый стопарик – выстрел в ненавистный вражеский во всех смыслах строй. Мог, пока позволяло здоровье, и очередями по тоталитарному режиму. А в перерывах – чтение Игоря Северянина вслух. И уже не важно, что за пеленой мифа скрывается всем хорошо знакомый персонаж русской литературы. Маленький человек. Пьющий, бездарно, но мило, с душой играющий роль «большого писателя», который вот-вот создаст нечто невыносимо гениальное. А пока, смотрите, написал для разминки пера. Ребятам нравится, особенно под портвешок. И здесь даже малокнижие Ерофеева играет на образ «настоящего писателя». Не разменивался по пустякам, знал цену выстраданного слова, чутко вслушивался в гул времени. На фоне современных «писателей», переводящих в книжный формат записи в фейбуке, выступления на радио, интервью, которые один кудесник слова берёт у другого (очень экономный вариант: текст один, опубликовать могут оба), писательский аскетизм Ерофеева смотрится особенно выигрышно.
Конечно, интерес к Ерофееву трудно назвать возрождением большой русской литературы. Но, по крайней мере, есть запрос на фигуру писателя, зрительно соотносимого с её масштабом, с теми традициями, которые оказались забытыми и вроде бы ненужными. Но, как было сказано в начале статьи, сегодня преданы забвению именно те, кто забывал, хоронил, объявлял рудиментами, смеялся над моралью, гуманизмом, «достоевщинкой» и прочими архаизмами, с которыми не берут в светлое постмодернистское завтра. Ерофеев сохранил себя благодаря русской литературе. Не как писатель, а в качестве её вечного персонажа. В этом его значение и человеческий урок. А уроки он, как вы знаете, любил.
«Кому на руси жить плохо»
Среди номинантов на премию «Большая книга» выделим «Калечину-малечину» Евгении Некрасовой. И обращает она на себя внимание двумя объективными факторами: молодостью автора и скромным объёмом выдвинутого на премию романа.
Нередко молодые прозаики пытаются удивить читателей и критиков, выкатив нечто основательное, вложившись в листаж. Несмотря на несолидный – для столь солидной премии – возраст, Некрасова уже писатель с биографией. Среди высших, до сегодняшнего дня, достижений – получение премии «Лицей» в 2017 году. Публикации в серьёзных изданиях: «Новый мир», «Знамя», «Волга» (счастливый для А. Сальникова, другого финалиста «Большой книги», журнал). Всё очень неплохо для успешной, если она вообще возможна, писательской карьеры в России. Объём книги (роман растянут почти на триста страниц: солидные поля, размер букв, говорящий об искренней заботе издателей о зрении читателей, и даже немаленькая серия рисунков для наглядности) не может обмануть опытного книгочея. Перед нами, скорее, повесть. Ход событий, персонажи – всё указывает на этот прекрасный и плодотворный для русской литературы жанр. Но выдвигать на премию «Большая книга» повесть – несерьёзно, поэтому простим издателям нехитрые, всем нам знакомые трюки. И большой плюс автору – за отказ лить слова ради самих слов, нагонять количество знаков, которое, по Гегелю, должно перейти в качество. Судя по другим текстам, представленным в коротком списке «Большой книги», многие из современных российских писателей – убеждённые диалектики.
Начну с того, что делаю нечасто: скажу о том, что понравилось.
Первая часть книги произвела сильное впечатление. Серый околомосковский городок, взрослое население которого проводит существенную часть своей жизни в электричках по пути в «гулливерский» город – и обратно, возвращаясь в безликие спальные районы с квартирами по «божеской», немосковской цене. Днём улицы пусты, если не считать пенсионеров и школьников. Первые уже отъездили своё и относятся к категории неудачников, так как не сумели «зацепиться»; вторым ещё предстоит принять участие в этом увлекательном соревновании.
Среди этих вторых – Катя, главная героиня книги. Ей десять лет, она учится в третьем классе. Родители её – пассажиры тех самых электричек, участники лотереи, условия которой понятны, но победить в которой нельзя. Каждое утро они уезжают на работу: первым – папа, через несколько электричек – мама. Возвращаются поздно. Если у папы есть настроение, он изображает строгого родителя: проверяет дневник и даже иногда помогает делать уроки. Мама быстро готовит невкусный ужин и обед на следующий день для Кати. Цель папы – дотянуть до выходных и лечь на диван, чтобы отстреливаться телевизионным пультом от превосходящих сил реальности. У мамы времени тоже немного; чтобы его сэкономить, она расчёсывает и заплетает волосы дочери с вечера. Понятно, что утром Катя идёт в школу с неидеальной причёской.
Одноклассники и учительница Вероника Евгеньевна посмеиваются над растрёпанной девочкой. Пожилая полная учительница вообще смешлива: «Вероника Евгеньевна сдерживала смех, заговорщически прикладывала палец ко рту и подмигивала всему классу. Она прыскала, отчего её глазки совершенно утонули за блестящими щеками».
Для Кати это терпимое неудобство, она ещё не понимает, что смеются над ней.
Незаметно смешки перерастают в нечто иное. Одноклассники чувствуют, что перед ними – жертва, смеяться, а потом и издеваться над которой приятно. Травлю поощряет Вероника Евгеньевна – следовательно, издеваться ещё и безопасно. Чем больше над Катей издеваются, тем больше у неё проблем с учёбой. И чем больше проблем, тем градус издевательств выше. Каждый урок превращается в испытание, звонок не спасает, а только отделяет один вид мучений от другого. Вызов к доске – гарантированный провал, которого с наслаждением ждут все. Даже безопасный раньше урок литературы оборачивается катастрофой:
«Катя один раз повернулась на класс и два раза посмотрела на классную, но больше не стала. Текст на доске расслоился и летал перед доской ошмётками. Усилием, равным стараниям пяти десятилетних невыросших, Катя вернула текст обратно, всмотрелась и стерла “с” в “рассеянной”. Вероника Евгеньевна артистично шмякнулась головой об стол, класс понял команду и взорвался новым дружным хохотом. Катя художником отошла от доски-мольберта, наклонила голову, быстро вернулась обратно и написала в “несёшься”, после “ш”, где ничего прежде не было, – твёрдый знак. Учительница упала спиной на стул и принялась ловить дырой рта воздух. Невыросшие бились от смеха, как от электричества».
Ситуация усугубляется предательством Лары – единственной подруги Кати. Лара – девочка из хорошей семьи. Её отец – бизнесмен, мать – учительница химии в этой же школе. Лара хорошо учится, любима учителями и уже в десять лет сознательно строит своё будущее. Быть рядом с классным посмешищем – значит принимать часть позора на себя. Лара благоразумно отходит в сторону.
Если раньше часы одиночества перед возвращением родителей Катя проводила не без удовольствия и могла, например, устроить игру в лилипутов, мысленно уменьшая выросших, то есть взрослых, до размеров куколок, строить им домики и шить на них одежду, то теперь это время – часы перед неизбежным наказанием. Отец бьёт Катю редко, но ожидание этой кары невыносимо.
Ситуация развивается стремительно. Неловкая от рождения, Катя не может связать на уроке труда варежки. У смешливой Вероники Евгеньевны возникает идея, как решить проблему Кати: отправить её во вспомогательную школу. Наслаждаясь ситуацией и желая продлить её, педагог «проявляет гуманизм»: «Бесполезно это, Катя. Я ж тебя знаю. Ничего ты не сделаешь. Впрочем, не по-христиански это… Дерзай. Не свяжешь до завтра – прям завтра же свяжусь с родителями и начнём процедуру».
Далеко за полночь Катя наконец довязывает варежки – кривые, не по размеру, но работа выполнена. Когда девочка открывает в школе пакет, то вместо не самых симпатичных в мире варежек находит лишь мотки пряжи. Вероника Евгеньевна торжествует: её диагноз подтвердился. Катя убегает из школы.
На этом заканчивается примерно половина книги. На мой взгляд, очень сильные страницы, написанные правильно, точно, без срывов и зависаний. Даже словотворчество Некрасовой («выросшие», «невыросшие»), сначала вызывающее чувство, что автор заигрывает с читателем, постепенно занимает своё место в мире Кати и уже не воспринимается как кокетство. Одиночество ребенка с его тщетной попыткой занять круговую оборону против мира, внезапно ставшего из интересного враждебным, холодно-агрессивным, передано достоверно, сгущённо, но без сентиментального нажима. Избежала писатель и псевдоэстетической отстранённости, равнодушного «энтомологического» взгляда на героев. В этом отношении «Калечина-малечина», как бы это громко ни звучало, продолжает традиции великой русской литературы, что в наше время встречается не так часто. И потому я полностью разделяю мнение тех, кто, прочитав книгу, увидел в ней нравственный посыл и протест против насилия.
Что касается последнего. Если присмотреться, то сдобная фигура Вероники Евгеньевны приобретает зловещие очертания, роднящие её с известными героями Достоевского. Она не просто травит Катю, она соблазняет невыросших – малых мира сего – дозволенностью и обыденностью зла. Одно из самых страшных свойств зла – привычка к нему. Катя мешает Веронике Евгеньевне не своей растрёпанной головой и тем более не провалами в учебе. Послушаем самого учителя:
«…А так… ну ты же видишь, какие ребята у нас учатся: дети учителей, инженеров, художников, врачей, бизнесменов. Особенные ребята, с особенным воспитанием. В моих классах всегда так было. И здесь недопустимо так относиться к учёбе, как относишься ты. Хотя я понимаю, что это не отношение, а скорее твои способности».
Говоря о способностях Кати, Вероника Евгеньевна проговаривается. Речь идёт не об их отсутствии, а о том, что у девочки они другие по сравнению со всем классом. Инаковость заключается не в социальном положении Катиной семьи, а в том, что девочка изначально не подчиняется воле учителя. Да, это сопротивление неявное, не декларированное, но оно вырастает из сущности Катиной личности. В ретроспективном эпизоде автор рассказывает о мучениях девочки, которую родители отправили на лето в детский лагерь к морю. Лагерь ей не понравился: «Самым страшным в лагерной жизни Катя считала кишение людей. В основном невыросших. От них нельзя было скрыться. Нельзя уйти домой и посидеть одной несколько часов до вечера. Даже ночью нельзя спокойно лежать, играть с потолком или просто думать».
«Просто думая», Катя заступается за жертву детских сексуальных опытов, кажущихся почти невинными, видя в них насилие и поэтому – зло. За это «просто думать» – а значит, не подчиняться – и наказывает Катю учитель.
Позже я скажу о финале романа. Он вызвал у меня как минимум сложные чувства, но есть в нём один показательный момент. Главный мучитель, гадёныш Сомов, оказывается в больнице, после того как его толкнула Катя и он попал под машину. В больнице с ним случилось преображение:
«Диме Сомову вроде бы хотели отрезать ногу, но потом передумали. В больнице он увлёкся астронавтикой. Когда он вышел в открытый мир, оказалось, что он не может больше играть в футбол и делать многие прежние вещи. Виновника сомовского калеченья так и не назначили, хотя его мама и орала в полиции, что Катю нужно посадить в клетку. <…> А самому Сомову отчего-то было совершенно плевать, кто виноват. Астронавтика вытолкнула всё остальное из его вселенной».
Дима Сомов почти превратился в гадёныша благодаря Веронике Евгеньевне. Ей он был безразличен: так, особо не мешал и проходил по «нормальной» статье – «классный хулиган». В больнице Сомов вышел из сферы «благотворного» влияния школы, остался с собой и стал самим собой. Увы, не каждому из нас выпадает удача вовремя попасть под колёса машины…
К сожалению, хорошее заканчивается, а я перехожу ко второй части книги. К той, в которой из-за кухонной плиты вылезает двигатель всей второй части – Кикимора. Её появление разгоняет сюжет, и тот мчится как на американских горках: конфликт с одноклассниками и спасительное падение Сомова, сцена в автобусе, потом в электричке, безобразное поведение дяди Юры и его наказание, триумфальное возвращение с деньгами… Мельтешащие эпизоды отъедают у книги интонацию, сужают возможности авторского языка. Но это лишь часть проблемы. Куда больше вопросов вызывает сама Кикимора. К сожалению, это не волшебный персонаж романа, а лишь выдуманный – точнее, сконструированный. Это относится даже к её внешности, к тому, как она одета:
«В наряде Кикиморы, кроме кнопочной крышки от своего телефона, Катя разглядела привязанные к тряпкам и обрезкам: маленькую лампочку для холодильника, мамины часы с синим кожзаменительным ремешком, две ручки с надписью, пластиковую ногу куклы Барби, папину железную расчёску, мамины капли для носа (ещё наполненные), несколько серебристых крышечек (от бутылок), многочисленные носки (одинокие, беспарные), крючки для рыб, пимпочки от консервных банок, носовые платки и банановые наклейки».
То есть если снять все крышки, отцепить крючки и ногу куклы, то Кикимора элементарно исчезнет. Из внятной человеческой речи Кикиморе доступно только стихотворение А. М. Ремизова про Калечину-Малечину, что снова указывает на её искусственное, лабораторное создание. Всё остальное – междометия, писки, визги. Очень быстро, практически сразу, приходят в голову слова «детское подсознательное, выпущенное на свободу», «объективация» и т. д. Катя слишком акцентированно, как по учебнику психологии, пытается сдерживать разрушительные, дионисийские порывы своей новой подруги. Да, мы знаем, что существует множество научных и околонаучных трактовок того же Карлсона. Но они возникли уже после прочтения книг Линдгрен, зачастую как примеры интеллектуального стёба, природа же Кикиморы раскрывается непосредственно в момент чтения, что обедняет, уплощает книгу.
Ну и теперь о том, что вызвало обыкновенное непонимание – финал «Калечины-малечины». Самое достоверное из него – преображение Сомова, про которое уже было сказано. Также из приятного – наказание Вероники Евгеньевны: произошедшее резко состарило учительницу и отправило на пенсию. Сын увозит её в Москву: «Через этого человека, кажется, стало известно, что Вероника Евгеньевна очень мучается без своих невыросших и переживает, что без неё они окончательно пропадут».
Самое странное и непонятное происходит с родителями Кати. Мама разводится с нехорошим папой, а потом начинается фейерверк из сахарной пудры с ванилью:
«Мама перевезла Катю в Гулливерию. Там она нашла работу и поступила учиться в университет на ту специальность, которая ей всегда нравилась. Чтобы видеть Катю очень часто, мама сняла квартиру в соседнем с работой дворе, на первом этаже пятиэтажного дома».
Чтобы совсем пересластить, нам рассказывается, что мама то и дело берёт Катю с собой на лекции, а вечером они обсуждают прошедший день. Безо всякого цинизма, в духе критического реализма, хочется узнать: какую работу нашла себе мама Кати, чтобы оплачивать съёмную квартиру в Москве в трёх остановках от университета, свою учебу, кормить себя, Катю и т. д.? Зачем этот не сказочный, а какой-то киношный хэппи-энд, этот перевернувшийся вагон с сахаром – в книге, которая без чернухи, но правдиво и психологически убедительно описывает нашу сегодняшнюю жизнь? Такие приёмы скорее подрывают возможный социальный оптимизм, чем его пробуждают.
Но что в итоге? Забегая вперед, скажу, что из всего прочитанного короткого списка «Калечина-малечина» пока вызывает у меня наибольшую симпатию. И буду рад совпадению моего взгляда с мнением высокого жюри, если ей в реальности «угрожает» какое-то из мест «Большой книги» – за настоящую, без имитационных завитушек, литературу. Девочка Катя и её автор этого достойны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































