Текст книги "Большая чи(с)тка"
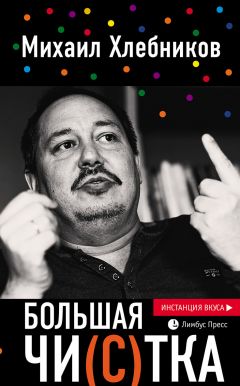
Автор книги: Михаил Хлебников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Настоящие книги оглушают, Карл!
«Большая чи(с)тка» добралась и до представителей ближнего зарубежья, выдвинутых на соискание «Большой книги». Сегодня у нас на очереди «Земной рай» Сухбата Афлатуни – узбекского поэта и прозаика, пишущего на русском языке.
Под настоящим именем – Евгений Абдуллаев – публикуются критические статьи номинанта, Сухбат Афлатуни отвечает за поэзию и прозу. Неспешная победная поступь постмодернизма может привести к тому, что Абдулла-ев откликнется на очередной роман Афлатуни сдержанно положительной рецензией с указанием на отдельные недостатки книги и пожеланием творческого роста автору. Но пока это время не наступило, откликнусь я и подчеркну отдельные достоинства «Земного рая» Афлатуни. Для начала отметим, что автор отнюдь не дебютант в крупной прозе. Начинал он с «Ташкентского романа» в 2006 году. Потом, после десятилетнего перерыва, выходит «Поклонение волхвов». Долгую паузу должны были компенсировать целых два тома нового романа, но никто особенно не оценил размаха и не назвал «Поклонение» долгожданным. В 2016 г. появляется «Муравьиный царь». Четвёртый роман, «Земной рай», достиг относительного успеха, свидетельство чему – его присутствие в коротком списке премии.
Театр начинается с гардероба, книга с аннотации. И здесь роман Афлатуни, безусловно, интригует: «Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в обычной типовой пятиэтажке…» Одно предложение, но здесь уже всё хорошо. «Натали в типовой пятиэтажке» и «обычная женщина Плюша». Может быть, мой жизненный опыт ограничен, но имени Плюша я ещё не встречал. «Земной рай» – первый опыт и, надеюсь, последний. Но не будем придираться и перейдём к самому роману и его героям. Начинается он с невнятного эзотерического пассажа: «Если говорить о смерти, то в естественных условиях она встречается в двух видах: мужском и женском. Оба этих вида между собой не общаются, между ними идёт борьба за территорию, верх одерживает то одна, то другая сторона. Последние два столетия мужские особи обитают преимущественно в городах; женские облюбовали деревни, леса и цветущие луга». Загадочно, мистично, но, увы/ура, недолго. Автор вспоминает про обещанных «двух обычных женщин». Итак, Плюша. Обитает на втором этаже пятиэтажки в двухкомнатной квартире. Одна из комнат после смерти матери Плюши закрыта, осиротевшей дочери достаточно одной. Возраст Плюши не называется, но можно предположить, что ей около пятидесяти. Афлатуни придумал приём, с помощью которого образ Плюши индивидуализируется. В ход идут уменьшительно-ласкательные суффиксы: «квартирка», «полик», «салфеточка», «крышечка», «снегирёчек». И все эти «очки», «ёчки», «ики» щедрой рукой разбросаны по тексту. Что ж, приём показывает, что у автора редкий талантик – оживлять своих персонажиков. Поднимемся на три этажа выше. Там обитает Натали – полная противоположность Плюше. Точнее, Плюша – полная, а Натали поджарая, и ноги у неё тощие, как отметила подруга снизу, – «дефектик». Чтобы не подумали, что я обманываю: «Ноги у Натали были стройные, но тощие; брюки этот дефектик скрывали».
Если о Плюше читатель мало что поймёт, то биографию Натали Афлатуни раскрывает быстро и без завитушек. Натали отучилась в техникуме, в который пошла, так как «рвалась к взрослой жизни, с зарплатой и независимостью». Независимость Натали выражалась и в отсутствии всяких женских украшений, причёсок, косметики. Сердобольные однокурсницы, видя, что молодость их подруги проходит без интересных подробностей, хотят помочь ей. Планы по спасению от одиночества обсуждаются в местной пивной, обитатели которой также не чужды высоким душевным движениям: «После второй кружки к девчонкам и подсел Гриша по кличке Порох. Гриша был кого-то из них знакомый и пристроился со своей кружкой сбоку. Лицом Гриша напоминал неандертальца, а на голове, как у Пушкина, вились кудри». Девчонки сбрасываются, и Порох без промедления берётся за дело. Поставленная задача решается безо всяких предварительных этапов с ухаживанием, цветами и походами в кино – Гриша насилует Натали в поле, примыкающем к району, в котором живут героини. Поле – важная деталь, не забывайте про него. Обесчещенная Натали записывается в секцию карате и через полгода сама встречает Григория в тёмном месте. Натренированные ноги с «дефектиком» делают своё дело: кудрявый насильник повержен. Дух мщения требует жертвы: «Был у Натали ещё один замысел: лишить его того места, которым он ей тогда больше всего обиды причинил; даже ножик складной заранее заточила. Но, брезгливо повертев что-то тёплое и жалкое, раздумала и натянула штаны Гришуне обратно; тот только глаз затёкший приоткрыл и снова закрыл». Отмечу, что в этом эпизоде Афлатуни, сам того не понимая, воспроизводит шолоховскую стилистику. И не ограничивается ею. Вспомним удалого кудрявого Григория и супругу его. Обесчещенный Гришуня задумывает ответную месть, но шекспировский накал страстей сбивает Антон – старший брат Пороха. Он приходит к Натали и предлагает закончить вендетту. Натали оценивает парламентёра: «Ну да, одно лицо с Гришей. Только кудри спокойнее и взгляд не такой нагло раздевающий. Тоже, конечно, наглый, но в пределах нормы». «Спокойные кудри» убеждают в серьёзности намерений, и кровавая драма завершается. Наступает очередь драмы любовной. Время идёт, и Натали начинает думать о замужестве. Но подходящих кандидатур нет. Внезапно снова приходит Антон, чтобы сообщить: Григорий умер. И снова перед нами роман нобелевского лауреата. Нет не Афлатуни – М. А. Шолохова:
«Антон, того Гриши брат. Поседел… Ну и что припёрся, сокол кудрявый?
– Гришу вчера похоронили, – сообщил на её молчаливый вопрос.
Во как… Натали стала сердито выкладывать продукты из магазинного пакета. Антон наблюдал за ней.
– И что? – прервала процесс Натали.
– Тебя перед смертью вспоминал. Сходить к тебе просил…»
Приятного человека и вспомнить приятно. Натали с Антоном отправляются в кафе – помянуть. Там после ста граммов Натали понимает, что заодно с поминками можно решить и другую проблему – семейную. Не сходя с места, она предлагает Антону взять её замуж. Ещё одна блестящая сцена:
«Подняла глаза на Антона. Тот слушал неподвижно, только губами двигал. Шлёп-шлёп. Как покойный брательник.
– Хорошо. Я тебе тоже буду… – Антон запнулся. – Только одно условие…
Взял солонку и высыпал всю соль в суп Натали:
– Что ты сейчас это всё съешь».
Задорно, символично, бессмысленно. Предлагаю вернуться к Плюше, благо, что автор решил наконец оторвать её от окна, стоя у которого она смотрела на поле. Да, на то самое – место недолгого торжества скорого на ласку Григория. Мы узнаём, что Плюша поступила на отделение музееведения Театрального института. Лекции по введению в науку ей читает Карл Семёнович, благодаря которому мы узнаём настоящее имя и даже фамилию Плюши: Полина Круковская. Карл Семёнович – поляк по происхождению – взывает к национальным корням Плюши. Он приглашает её к себе домой, где она знакомится с экономкой профессора – Катажиной, также полячкой. Ну и чтобы комплект был полон, мы узнаём, что Антон с Григорием не казаки, как мы считали, а паны Порошевичи. Такую аномальную концентрацию сынов и дочерей Речи Посполитой автор объясняет просто:
«Первые были сосланными после своего неудачного восстания. Жили узким обществом, страдая от сурового климата и нечистоты на улицах. Некоторые, особо тонкие, от этого быстро спились, положив начало местному польскому кладбищу. Другие привыкли и принялись потихоньку сеять европейскую культуру, школы, больницы и музыкальные вечера.
Прибывали и другие сыны Польши, уже добровольно: коммерсанты, гражданские инженеры, циркачи и лица без определённых занятий. Держались всё ещё замкнуто, своим польским кругом. Некоторые, впрочем, из-за нехватки полек, женились на местных девицах, плечистых и непритязательных. Но и породнившись с туземцами, не забывали, кто они, а кто остальные».
Карл Семёнович – человек сложной судьбы и переменчивых мнений. То он, просвещая студентку, хвалит соотечественников, старательно перечисляя их вклад в мировую и русскую историю: первая конституция, мода, церковное пение, стихосложение. Проходит некоторое время, и профессор, видимо, потомок польских циркачей, в беседе с той же Плюшей проделывает сальто:
«– Всё заимствовано. У немцев, французов. Итальянцев. Ничего своего не изобрели.
– Коперник?
– Наполовину немец. Писал по-немецки, по-польски не писал.
– Шопен? – Плюша припоминала имена.
– Наполовину француз.
– Мицкевич… Адам Мицкевич!
– Наполовину еврей.
Плюша задумалась.
– Станислав Лем…
– Чистокровный еврей! – выкрикнул Карл Семёнович…»
Зачем нужны автору все эти польские выкрики? Ради второй сюжетной линии романа – темы репрессий тридцатых годов. Что сказать – не ново, но исполнено хуже даже по сравнению с заведомым нешедевром про «двух простых женщин». Находится объяснение и начальным строчкам про мужчин в городах и женщинах, обитающих на цветущих лугах. Написал их Фома Голембовский – поляк по происхождению, врач-венеролог по профессии, православный священник по духовному призванию. Жил он в ту самую непростую эпоху. Много писал, в частности детское Евангелие. Есть и другие сочинения Голембовского, приведённые в романе. Есть там про девушку, которую полюбила Чума, богатого и плохого мальчика, попавшего после смерти в ад, и бедного мальчика, который… Дадим слово автору: «А самое тяжёлое, когда огонь стихает и становится видно далеко-далеко, до самых райских лугов. И видит как-то бывший богатый мальчик, как по лугам этим гуляет нищий мальчик, который копеечку у него просил. И надет на этого бывшего бедного мальчика сияющий матросский костюмчик, какой прежде богатый мальчик нашивал, и играет он с игрушками, с какими богатый мальчик играл, и даже лучше». Прочитав такое, хочется услышать снова про судьбу Плюши и Натали.
Ясно, что Голембовский обречён. Он арестовывается по обвинению в распространении контрреволюционной агитации. Так у автора. К языку Афлутани мы ещё вернёмся. В это же время арестовывают молодого Карла. К нему изобретательные чекисты применяют оригинальную пытку. Его помещают в Колодец. Через некоторое время сверху падает книга: «Война и мир». Карл доволен, но:
«В потолке снова лязгнуло.
На этот раз он успел увернуться, книга упала рядом. Он наклонился, поднял: “Справочник по куроводству”, поглядел, прищурясь, наверх. Положив справочник вниз, в ноги, вернулся к Толстому.
Следующая книга больно ударила по затылку. Нагнуться за ней не успел: сверху полетела следующая.
Он крикнул “эй!” или что-то такое; крик исчез в тяжёлом барабанном шуме: люк сверху распахнулся, книги понеслись лавиной. Достоевский… Брокгауз и Эфрон… Старые польские журналы… Он пытался увернуться, карабкаться по ним, выбрасывать обратно вверх, из шахты; вскоре они затопили его, задавили, лишили движений и воздуха. Последняя попытка прорыться кончилась неудачей; он дёрнулся, ещё раз крикнул и затих».
После такого возникает желание выкрикнуть самому слова, которые нельзя печатать в газете. Оглушающая история про Колодец, девушку и Чуму показывают ещё один источник вдохновения Афлатуни – Эдгара По. Диковинный микс из «Тихого Дона» и страшных новелл американского писателя снимает вопрос о художественной правде романа. Перед нами неловкий конструкт из уже известных персонажей, сюжетов, интонаций, метафор. Так открывается самая большая тайна поля, на которое героини романа смотрят и среди бурьянов которого сексуально страдают. Да, на этом участке земли палачи из НКВД расстреляли как Голембовского, так и сотни других жертв сталинского террора. Полная гармония между анемией художественного воплощения и его топорным символическим лейтмотивом. Финал соответствует печальной слаженности текста. На поле примиряются католики с православными, решившие, чтобы не ссориться, возвести на нём две часовни в память о погибших. Торжественный момент. Что сейчас будет на поле? Правильно, танцы! В роли заводилы праздника мы с удивлением видим нашу аморфную Плюшу, которая:
«…Подскакивает на месте и начинает кружиться.
– Танцуем! – звонко кричит она и машет руками.
– Танцуем!
Кто-то из молодых тоже начинает танцевать рядом, другие просто удивлённо поглядывают и хлопают в ладоши. А Плюша всё кружится, поднимает руки и подпрыгивает, и поле, огромное поле в её глазах кружится, и подпрыгивает, и уносится куда-то вместе со всеми людьми, кустами и птицами».
Теперь, когда все улетели, скажу, как и обещал, несколько слов про язык «Земного рая». И проблема здесь выходит за рамки литературы. На окраинах бывшего Союза русский язык сохраняется, на нём продолжают говорить и даже, как видим, писать. Но политическая разделённость приводит к тому, что его литературный потенциал вне тесного, постоянного многослойного контакта падает. Афлутани пишет неряшливо, не понимая этого, но видимо для читателя. Открываю практически наугад: «Натали так отплясывала, соседи аж через два этажа прибежали в дверь звонить». Соседняя страница: «Она вообще нравилась такому типу взрослых мужчин, ценящих в девушках не только сладкую попку и приятную глупость, но и другие аспекты». Таких «жемчужин» слишком много, чтобы их все выписывать. Почему-то не хочется автора за это ругать, потому что понимаешь: вина его относительна, хотя как писатель он несёт ответственность за своё слово.
Понятно, что роман Афлатуни попал в короткий список «Большой книги» во многом из имиджевых резонов: показать географический размах премии, и здесь экзотический псевдоним автора, как и его биографические данные, работают на него. К сожалению, других причин для высокой награды не наблюдается.
P. S.
Завершён очередной сезон «Большой книги». Первая премия у честной компиляции с невнятными филологическими вставками на тему «Вен. Ерофеев». Три автора собрали практически весь доступный биографический материал. Что-то, может, закатилось за плинтус, но это и неважно. Неважно потому, что «жития» не получилось. Есть хроника жизни хронического алкоголика, который когда-то учился в университете. В самом МГУ. Потом быстро и страшно спился. Сразу. Принадлежал к немалому числу педантичных алкоголиков, которые «соблюдают». Кто-то не пьёт из горла, другой повязывает перед «принятием» галстук. Очень часто потом на этом галстуке вешались. Ерофеев вёл записные книжки. Записывал туда принципиально всё. От прогноза погоды до бирманских пословиц. Иногда «остроты». Потом «творчество» вырезал и случились «Москва – Петушки». Потом без всяких следов торможения (сам он знал цену своего шедевра) продолжил пить и смотреть по телевизору «Семнадцать мгновений…». Симптоматично, что один из авторов со сцены обратился с речью по поводу политзаключённых. Вот это диссонанс на фоне героя книги. Ерофеев плевал на политику. Он хотел одного – пить, с похмелья, потея, – читать Плутарха. Советскую власть он понимал и любил. Она дала ему недорогой портвейн, телевизор и много книг. В общем, практически каждый живший тогда мог спокойно выбрать из этого что-то одно и чувствовать себя комфортно. Ерофеев взял всё в наборе. Писателем не мог быть физиологически. Хотя теперь есть «практически полная писательская биография». Орденоносная. Пусть будет. На втором месте «Большой книги» симпатичная книжка про симпатичного котика, написанная симпатичным актёром. Немного Гофмана, немного рекламы продуктового супермаркета. Уверенный шаг отечественной литературы к нормальным рыночным отношениям. Такие книги пишутся в основном авторами из небольших европейских стран с правильной социальной политикой (Австрия, Бельгия). Многим читателям было приятно почувствовать себя (под пледиком с латте) на какое-то время в условном Бенилюксе. Правда там за такие книги «большие премии», скорее всего, не дают. Обходятся наградами от женских книжных клубов и производителей кошачьего корма. Они всё же про Рильке помнят, маячат тени прошлого и прочие архетипы. Хотя я соврал, и Австрия в Бенилюкс не входит.
Часть 3. Связь времён
Больная совесть с тремя справками
По поводу одного двойного юбилея
К сожалению, в сознании отечественного читателя и зрителя Новосибирск занимает излишне скромное, не соответствующее его действительному значению место. Но есть в его истории событие, ставшее знаковым для нашей культуры и истории. Речь идёт о мероприятии с неприметным, стёртым названием «Праздник песни», прошедшем весной 1968 года в Новосибирске. Широкой публике оно известно как «фестиваль бардов». Его, безусловно, центральный эпизод – выступление Александра Галича.
Один из новосибирских журналистов следующими словами определяет значение этого события: «Никто не может усомниться, что события марта 1968 г. имеют непреходящее значение в истории современной русской культуры, в истории Новосибирска, в истории новосибирского академического центра. А центральной фигурой в этом событии был Галич».
Немного подумав, автор «повышает градус» и называет выступление Галича уже мировым событием, что в перспективе предполагает внесение корректив в историю человеческой цивилизации как таковой. Подобное сверхкомплиментарное отношение к фигуре поэта следует рассматривать не как исключение, но скорее как следование правилу. Например, В. И. Новодворская мастерски сумела превзойти предложенный новосибирским автором уровень оценки, вроде бы и так уже высочайший, предложив следующую формулировку: «Секрет Галича – в его библейских масштабах». На этом фоне Д. Быков, известный размахом своих суждений и мнений, выглядит неожиданно скромно: «Галич продолжает прикасаться к самой чёрной язве. По-прежнему мы не понимаем, как можно всё знать и с этим жить. По-прежнему он – наша больная совесть».
Обозначенному «мировому событию» в 2018 году (когда писалась эта статья) исполнилось пятьдесят лет. Но это ещё не всё. Также 2018-й – год, на который приходится и вековой юбилей самого А. А. Галича. Подобное «сочетание звёзд» даёт повод не просто сказать дежурные слова, но и с позиций нашего времени, на расстоянии попытаться заново увидеть и понять, как события весны 1968 года, так и особенности личности и творчества А. Галича. Для решения последней задачи обратимся к книге М. Аронова «Александр Галич. Полная биография», вышедшей в 2012 году в издательстве «Новое литературное обозрение» солидным для нашего времени двухтысячным тиражом. Объёмный, почти девятисотстраничный труд вобрал в себя практически все известные факты, свидетельства о жизни и творчестве поэта и драматурга.
Здесь необходимо сделать отступление, касающееся специфики написания биографических книг. Как правило, их авторы выбирают одну из двух стратегий. Первую можно условно назвать апологетической: в её рамках герой наделяется всеми возможными, а иногда и объективно невозможными положительными качествами. Технически это осуществляется с помощью «творческой компоновки» фактического материала, позволяющей игнорировать или заретушировать «неоднозначные» события из жизни своего персонажа. Кое-что можно и «переосмыслить», «предложить интерпретацию». Благодаря последнему алкоголик становится «жертвой мучительного разлада с действительностью», распутник превращается в «личность, остро чувствующую женскую/мужскую красоту». Представители второго подхода – критического – с помощью тех же самых инструментов создают негативную версию биографии, пристрастно толкуя порой самые безобидные эпизоды из жизни своих, не побоимся этого слова, невольных жертв.
Книга М. Аронова в этом отношении является редким примером преодоления названной полярности. По внешним признакам она относится к апологетическому направлению. Автор испытывает нескрываемую симпатию к своему герою, названному в аннотации «самым гражданским поэтом второй половины XX века», «яростным обличителем существующего режима». Дурную шутку с автором и его намерениями сыграла та самая полнота биографии, оказавшаяся вовсе не художественным преувеличением. Аронов старательно и с любовью собрал впечатляющий корпус материалов, касающихся жизни и творчества Галича. Весь этот массив свидетельств и документов в итоге получает свой собственный «голос», выбивающийся из предложенной автором тональности. Образ «яростного обличителя» приобретает неожиданно глубину, которую вряд ли можно считать исключительно заслугой Аронова.
Попытаемся вслед за автором проследить этапы становления бунтарского духа «самого гражданского поэта». Начнём с того, что сам А. Галич охотно называл себя сатириком, объясняя тем самым своё особое внимание к теневым сторонам жизни советского общества. Традиционно в русской литературе, как, кстати, и в мировой, сатирики были не просто обличителями социальной несправедливости, моральных пороков современного им общества. Прежде всего, они открывали несовершенство собственного личностного начала, несовпадения его с высшими принципами. Вспомним Свифта, Твена, Зощенко… В случае же Галича мы имеем дело с удивительно приязненным отношением к самому себе, сочетающимся с настойчивым желанием погружать персты в общественные язвы. Галич прославился, в частности, как разоблачитель порочных нравов партийной верхушки, жирующей за высокими заборами:
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь – «КВ»-коньячок,
А впоследствии – чаёк, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»…
(«Плясовая»)
А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают –
Там шашлык едят!
(«За семью заборами»)
При обращении к биографии природа праведного гнева поэта раскрывается с неожиданной стороны. В 1942 году выпускники студии Арбузова, среди которых был и А. Галич, решили организовать фронтовой театр. Было подано соответствующее ходатайство в политическое управление Красной армии. С целью показать всю серьёзность своих намерений будущие фронтовые артисты отправляются в турне по Средней Азии. Интересный, заметим, выбор. Но для Галича эта поездка имела особое значение. В Ташкенте жили его родители, эвакуированные из Москвы. Отец поэта ещё до войны являлся крупным «специалистом по снабжению», обеспечивая продовольствием московских писателей. Таланты Галича-старшего нашли своё применение и в новых суровых условиях. Сергей Хмельницкий, в будущем известный историк архитектуры и поэт, много лет спустя вспоминал о своём посещении дома родителей Галича. Молодой студент, учившийся в Московском архитектурном институте, Хмельницкий оказался в эвакуации в том же Ташкенте. Доведённый голодом до крайней степени отчаяния, он обращается по письменному совету матери к её старым знакомым. Просим прощение за обширное цитирование, но оно того стоит. Итак:
«Когда вид затирухи и джиды стал мне окончательно невыносим, я пошёл к Гинзбургам. И попал в мир, почти невероятный по тому времени и месту. Чета Гинзбургов занимала половину большого особняка. И были они пожилыми, лет эдак пятидесяти. Их дом был как волшебный остров среди враждебного и опасного моря: обильная, отборная еда, напитки, чистый сортир, просторные и хорошо обставленные комнаты. Всё как бы из недалекого, но безвозвратного прошлого. А за большим столом, застланным белой скатертью, сидели знаменитые люди – литераторы, режиссёры, актёры… Я запомнил толстого режиссёра Лукова, творца фильма “Большая жизнь”, и Алексея Толстого, – он недавно сказал по ташкентскому радио, что счастье, которое человечество безуспешно искало тысячи лет, наконец найдено и надежно хранится в ЦК партии. Хозяева были со знаменитостями почтительны, но не лебезили. Знали себе цену. Они, видать, и прежде были хлебосольными, и теперь могли себе позволить пиры во время чумы: товарищ Гинзбург занимал какой-то высокий пост в системе снабжения населения, супруга была в его кадрах. Как-то она, смеясь, рассказала, как недовольный ею проситель пригрозил, что пожалуется её начальнику, и скис, услышав, что начальник – её муж».
Напомним, на дворе осень 1942 года: Сталинград, приказ «Ни шагу назад»…
Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц.
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.
Правильные слова писал Александр Аркадьевич…
Вскоре Хмельницкий познакомился и с приехавшим «фронтовым артистом», который поразил его своей выхоленностью и высокомерием. Кстати, ответим на вопрос, почему «фронтовой артист» не был просто фронтовиком, в отличие от большинства своих сверстников. У автора простой и ясный ответ. «Призвали в армию и Сашу Гинзбурга, но уже первые три врача – терапевт, окулист и невропатолог – признали его негодным и освободили от службы». Вот так, сразу три первых врача, включая невропатолога… Кто тогда смеялся, неизвестно. Уже эти два эпизода заставляют задуматься: по какую сторону забора, собственно, находился Александр Аркадьевич? Испытывал ли он раскаяние лично за себя и своих близких? Где здесь «больная совесть»?
Символично, что «военная биография» Галича имела своё продолжение. Дмитрий Быков в книге о Булате Окуджаве приводит следующее высказывание «певца арбатских переулков» о Галиче:
«В августе 1995 года я спросил Окуджаву, стал ли он, подобно Нагибину, с годами выше ценить песни Галича. Он ответил, что высоко ценил их с самого начала, “а вот человек он был сложный. Непростой, да, непростой”. И после паузы добавил: “Например, он не воевал, не был на фронте. А говорил, что воевал. Зачем?”»
Быков отмечает, что Окуджава высказывает претензию Галичу от лица воевавших. Неприятный момент заключается в том, что сам Окуджава уже в постперестроечное время, уточняя свою военную биографию, говорит следующее: «Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом – запасной полк, там мариновали. Но запасной полк – это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать». Конечно, как бы ни относиться к сказанному, Окуджава вызывает уважение хотя бы за то, что честно тянул свою солдатскую лямку. Особенно на фоне трёх справок «больной совести». Но в целом это свидетельствует о «родовой травме» шестидесятников. Претензии на искренность, отказ от пафоса, присущего тогдашней советской литературе, соединяются с созданием личной мифологии, представлявшей собой не просто игру творческого сознания. За этим стояли вполне прагматические задачи: без яркой биографии трудно было рассчитывать на внимание капризной публики, а следовательно, на успех. Просто кто-то это делал топорно, не оглядываясь на такую «мелочь», как действительность, а другие использовали фигуры умолчания.
В любом случае Галич нуждался в «биографии», которую не могли заменить легко опровергаемые выдумки и фантазии. Дефицит времени диктовал свои правила. Нужен был образ, а для него – образец. Обратимся вновь к книге Аронова:
«После отъезда Максимова Галич, по словам Войновича, “осиротел”. Подошёл к нему и, поскольку западные радиостанции не баловали их частыми упоминаниями, предложил: “Знаешь что? Давай шуманем!” – “А что, по какому поводу?” – интересуется Войнович. “Ну, какое-нибудь заявление сделаем иностранным корреспондентам”. – “На какую тему?” Галич подумал и предложил: “Ну, например, знаешь, вот советскую водку очень плохую делают. Давай сделаем заявление, что народ травят”. – “Так нас же с тобой первых травят!” На этом всё и закончилось: “Вот так, значит, мы не шуманули и про водку никаких заявлений не сделали, продолжали её пить сами”».
Данный эпизод прекрасно иллюстрирует размышления Б. Н. Чичерина – русского философа XIX века – о природе и видах отечественного либерализма:
«Низшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью.
Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно колышется и негодует уличный либерал. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон, ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнаёт, что где-нибудь произошёл либеральный скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни – от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства».
Как мы видим, интуитивно Галич буквально воспроизводит модель поведения и мышления, описанную задолго до его рождения.
Галич любил рассказывать о том, как он «перестал быть холуём», отказавшись от роли успешного, признанного драматурга. Но подлинный конфликт заключался вовсе не в том, что Галич сначала стал частью официальной культуры, а потом «бросил вызов системе». Правда в том, что он изначально был её частью, принимая и потребляя социальные блага и привилегии по праву рождения. А вот причина «конфликта с системой» становится ясной, если вновь обратиться к истории семьи поэта. В конце сороковых годов отца Галича арестовывают. Снова предоставим слова М. Аронову:
«…В 1949 году взяли его отца Аркадия Гинзбурга, который тогда работал в сфере снабжения Москвы продуктами. Правда, арестовали его не по политической, а по хозяйственной статье (172-я ст. УК РСФСР – “халатность”), и поэтому родные приняли решение его выкупить».
История завершается, в общем-то, счастливо – Аркадия Самойловича успешно освобождают с помощью опытного адвоката, который, по словам дочери Галича, «дал взятку соответствующим лицам». Свою лепту в «фонд свободы» вносит и благодарный сын в виде гонорара за пьесу «Вас вызывает Таймыр». Но «сфера снабжения Москвы продуктами» оказывается для Аркадия Самойловича закрытой. Поэтому до самой пенсии Галич-старший прозябает на должности директора швейной фабрики Промкооперации № 23. Это факт личный, семейный, жгущий. Но на нём нельзя «сделать песню», предъявить его обществу. Скорее всего, не поймут. Поэтому нужны «инвестиции в биографию» – с быстрой оборачиваемостью.
Подобным вложением и становится диссидентство, к которому Галич обращается осознанно. Дело в том, что природа его несомненного, но узко комедийного драматургического дарования не позволяла убедительно развёртывать острые, конфликтные сюжеты. При этом сам Галич пытался использовать их элементы ещё в додиссидентский период. Отечественный киносценарист, современник Галича А. Симуков отмечал инородность попыток утяжеления сюжетной линии на примере «Верных друзей»:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































