Текст книги "Невидимая сторона Луны (сборник)"
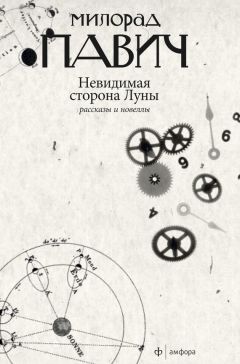
Автор книги: Милорад Павич
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Липовый чай
В Белграде, возле Земунского моста, который некогда назывался Рыбьим мостом по давно уже забытой причине, ибо имя моста живет дольше него самого, находится старая лестница. Она ведет от Калемегдана к Саве. Тут не сыграешь в классики, и девочки играют в другую, довольно странную игру. После обеда они тайком от матерей меняются полдниками и трусиками и дают каждой ступеньке свое название. Эти названия пишутся на ступеньках мелом, и они придают один смысл прогулке, когда поднимаешься по лестнице, и другой – когда спускаешься к воде. Вдоль лестницы с двух сторон построены дома, и над одним из них башней возвышается низкий приземистый дымоход, единственный в городе дымоход с окнами. Мостовая Косанчичева венца встречается здесь с крышами домов, расположенных ниже. Внизу вдоль дороги – рестораны, врезанные в калемегданский холм, так что из трамвая № 7 можно заглянуть посетителям в тарелки, а стаканы и вилки звякают, когда водитель резко притормаживает. По дыму из ресторанов я определял, что где готовится, и знал, на какой остановке надо сойти, чтобы пообедать.
Когда я еще следил за тем, какой ногой вхожу в дом, я какое-то время жил в одном из домов вдоль лестницы. Жил и забыл, как жил, и единственное, что мне осталось на память, – один сон.
Порой бывает так, что сначала увидишь кого-нибудь во сне, а потом встретишь его наяву. Обратите внимание на такие встречи. Двух людей, о которых пойдет сейчас речь, я сначала узнал во сне. Много позже они возникли наяву как мои коллеги, почти сверстники, сейчас они профессора Белградского университета. Моя первая встреча с ними произошла как раз в доме у лестницы.
Была та часть октября, которой управляют Весы, стояла ночь, я, как обычно, открыл окно, взглянул на воду внизу и некоторое время давал волнам имена, чтобы быстрее заснуть. Я лег и задремал, но вдруг меня разбудило дуновение холодного воздуха. В моей комнате сидели два человека и играли в карты. Некоторое время я с недоумением их разглядывал и еще больше удивился, когда понял, на что они играют. Они держали в руках ножницы и играли на усы: тот, кто выигрывал, имел право отстричь другому ус. По их ставке я опознал сверстников, ибо это была любимая игра студентов-филологов во времена моей учебы.
Пока они играли, я рассмотрел своих ночных посетителей: один был темноволосый, другой – блондин. Они играли, чтобы убить время, и курили, ожидая, когда я проснусь. Я их не знал, но как только произнес первое слово, один из гостей встал и снял шляпу с себя и с партнера. Я подумал, что он поступил так в знак приветствия, но ошибся.
– Запомни нас хорошенько, – вежливо сказал человек, – потому что теперь мы не будем, как в студенческие годы, играть в карты. Мы сыграем в другую игру, правила которой просты, но строги. Они таковы: никогда и ни под каким видом ты не должен находиться там, где находимся мы вдвоем. Не важны ни причины, ни место; главное, чтобы ты как можно скорее понял, что так оно есть и так будет – это самое лучшее и для тебя, и для нас.
После чего он снова сел. Оба курили, пуская колечки из дыма, и глядели на меня сквозь эти колечки. Я сидел на кровати в смятении и понимал, что они вовсе не шутят, что сказанное определит и их, и мою жизнь. Непонятный страх начал охватывать меня от одного их присутствия. У меня задрожали пальцы на ногах, вспотели ногти; когда один из них взял свою шляпу и принялся грызть ее край, я понял, что игра уже началась. Зубы у него были крепкие, а его смех отдавался у меня в ушах. Я кое-как оделся и выскочил на улицу, прихватив с собой только ключи от машины. Перепуганный, я доехал до Парижской улицы, и здесь меня задержала толпа людей. Они шли с зажженными свечами, прикрепленными к шляпам, а женщины несли шесты с фонарями. Отряд солдат в красных сапогах с отворотами нес факелы. Все пели. Внезапно отворились двустворчатые двери в какой-то дворец, солдаты остановились и крикнули толпе, чтобы погасили огни, а затем промаршировали в здание.
«Гасите! Гасите!» – торопливо восклицали люди, гася друг другу свечи на шляпах и помогая женщинам спрятать фонари под фартуками. Раздался громкий крик, на первом этаже дворца осветилось окно. За окном стоял отряд с факелами, а на стекле появилось изображение обнаженной прекрасной женщины в натуральную величину. Одной рукой она держала грудь и цедила молоко на кончик своей длинной заплетенной косы. Стояла она на буквах, которые пронзали ее ступни, из них возле «И», «А» и «X» текла кровь, и буквы эти сообщали, что она хочет выразить. Повернувшись к еще погруженному в темноту второму окну, она протягивала вторую свою косу кому-то невидимому за стеной. Солдаты внутри перешли к следующему окну, и толпа с криками передвинулась на несколько шагов. Мужчины принялись тискать в темноте женщин, просовывая руки сквозь ожерелья из чеснока. Во дворце послышалась команда, и солдаты осветили следующее окно, а толпа завыла, скользя и спотыкаясь на люках, так что мужские руки выпадали из женских пазух. Карманники прервали на минуту свою работу, когда в окне показалось изображение молодого человека с животом, поросшим рыжей шерстью, в которой пониже пупка ясно виднелась звездообразная лысина. Он сосал молоко из косы, которую протянула ему из оконной рамы красавица из предыдущего окна, и словно бы шел по волнам из букв. Вокруг его сабли с очень глубоким желобком были намотаны женские волосы, а голова, которой они принадлежали, оставалась еще невидимой за стеной, как не был слышен и ее будущий вопль. В зале послышалась новая команда и поступь солдат, подходящих к следующему окну…
Мне не было нужды дожидаться света или пытаться разобрать крики толпы, чтобы понять, что происходит. Я знал это, как знал, благодаря своей специальности, и то, что обычай «прозрачницы», театральной игры с факелами в окне, известен в Подунавье с конца XVIII века, а то и раньше, как часть торжеств по случаю возведения в звание церковных иерархов и высших военных чинов. Раздумывая об этом, я заметил, что возле меня, не обращая внимания на игру огней и всеобщее веселье, стоят два солдата. Они поили коней и заплетали друг другу косы под шляпами. Благодаря каталогам Павла Васича и другим справочникам я сразу опознал на них австрийскую форму конца XVIII века. Я хотел к ним обратиться, но когда они повернулись ко мне, я понял, что это мои гости, на сей раз – в треуголках. Они их сняли, и волосы у меня встали дыбом. Я бросился в машину и продолжил путь, не оглядываясь по сторонам. Промчался вдоль вереницы лодок, стоящих на якоре на Дунае за башней Небойши, и узнал флотилию пограничных частей 1710-х годов, когда австро-турецкая граница проходила еще по воде. Гребцы опустили весла в дунайскую воду и тихо напевали, давая таким образом знать о себе своим семьям, живущим по берегу реки. Мелодию я слышал в первый раз, но слова вспомнил немедленно. Это была песня «Хвалилася хваленая девушка», которую один немец записал примерно в 1720 году здесь, в Подунавье, когда слушал, как поют сербские солдаты. В песне гребцов было на один стих больше, чем в искаженной немецкой записи из Эрлангена, опубликованной под редакцией Геземана.
Так я понял, в каком направлении лежит моя дорога. Она вела в прошлое. Стих из песни еще не был утрачен! Когда я отъехал от реки, то с ужасом увидел, что дорога становится все хуже, поскольку мое погружение в прошлое продолжалось. Вообще следовало ожидать, что по мере удаления от нашего времени дороги будут ухудшаться. В первый раз запахло липой. Липы были далеко, с их ароматом до меня долетел обрывок чьего-то разговора.
– Permettez que je vous dise cette petite particularit́e! – Позвольте вам указать на одну маленькую деталь, – говорил неизвестный из темноты. – Я приобрел шесть крупных щук, выловленных в моем присутствии на Дунае под Белградом, за четыре су. В самой маленькой из них было три фута от глаз до хвоста, и в Париже она стоила бы два талера. Сазаны, которых мы отведали вчера и о которых известно, что они невероятно долго живут, – родились во времена Людовика X, в желудке одного из них мы нашли монету, изъятую из обращения еще в 1315 году. Я трачу здесь на двух лошадей, слугу и самого себя десять су в день. Наши принцы маются со скуки и спят, а когда просыпаются, воюют друг с другом за одно ютро[15]15
Ютро – старинная мера земельной площади, около 0,5 га.
[Закрыть] земли или какой-нибудь проезд через долину, не зная, что здешние земли, богатые, плодородные и обширные, могут удовлетворить их честолюбие и принести им настоящие титулы, которыми можно гордиться…
Эти слова я сразу же узнал, ибо помнил, что они были записаны 26 января 1624 года в Белграде, что произнес их и записал французский консул в Алеппо Луи Жедоен во время своего путешествия и что записки его были опубликованы. Но под напудренным французским париком XVII века я обнаружил черные волосы моего гостя и тотчас поискал взглядом того, к кому Жедоен по прозвищу Турок обращался. У того под париком были светлые локоны, и я понял, что мне опять придется бежать.
На этот раз все оказалось гораздо серьезнее, чем раньше. Глубже в прошлом за их разговором и за 1624 годом находился период, которым я профессионально не занимался, наступила полная тьма, и я больше не мог ориентироваться. Что еще хуже, на пути меня поджидала такая же тьма: фары были забрызганы грязью, места для остановки не видно, дорога стала совершенно отвратительной, словно я двигался по непаханому полю, и единственное – вокруг меня пахло липовым цветом, и по этому запаху я понял, что въехал в лес и рано или поздно непременно врежусь в дерево. Липовый запах становился все гуще, он превратился почти в оскорбление, страх перед двумя преследователями усиливался, и наконец моя машина за что-то зацепилась. Я вылетел из нее и ударился о ствол липы. Голова треснула, с дерева полетели охапки липовых лепестков, и по ним разлилась во все стороны моя боль.
* * *
Я проснулся в своей комнате близ лестницы с книгой поверх лица, укрытый по горло, потому что окно было открытым. Мое сердце билось где-то в подушке.
Обрадованный тем, что остался жив, что все это не более чем кошмар, что смерть во сне долго не длится и что нигде нет ни моих двух гостей, ни фатального дерева, я поднялся с кровати и отправился помочиться.
Однако в туалете из меня полился чистый липовый чай.
Сыновья Карамустафы
В давние времена, когда в Греции в школах учили различным способам обмана, Святой Горой управлял некий Карамустафа-бек, разбойник и насильник, который говорил, что в неделе один день Божий, а остальные шесть – его. У Карамустафы был конь, про которого ходил слух, будто по воскресеньям он молится перед церковью, а в печи у него постоянно горел огонь, который Карамустафа звал «Софией» и этим огнем пугал и жег тех, кому хотел вправить мозги. Время от времени он отправлял на Святую Гору послание о том, что сожжет Хиландарский монастырь, самый большой на Афоне и удобнее всего расположенный для нападения с материка. Белых борзых Карамустафы перед набегами мыли с синькой для белья, а сам бек умел рубить ножнами, как саблей, и мог задушить человека своей длинной жирной косицей. Говорили про него, что он давно уже стал зверем, в тени которого даже ветер не дует, что где-то в Африке он видел обезьяну, из тех, что показываются на глаза только однажды и время от времени отправляются на тот свет. Карамустафа протянул обезьяне руку, та вцепилась в нее, и с тех пор он каждое утро требовал, чтобы ходжа читал ему надпись, оставленную зубами зверя.
– Мы живем во времени, взятом взаймы, – говорил Карамустафа, слушая, как его борзые смеются по ночам, и часто плакал, кусая свою саблю, оттого, что не имел детей. Однажды, когда из Хиландара со Святой Горы прибыли монахи, чтобы уплатить дань, он спросил – правда ли, что в монастыре растет лоза времен сербских царей и ее ягоды, большие, как воловий глаз, помогают бесплодным. Получив утвердительный ответ, бек послал с ними свою борзую, чтобы ее накормили виноградом, потому что у него и собаки не рожали…
Монахи уехали, взяв с собой суку, и держали ее на лодке, ибо никто, не имеющий бороды, не может ступить на Святую Гору. Вернулись они через девяносто дней, и борзая принесла семерых щенят. Это был знак, и бек испугался, изобразил раскаяние и отбыл к границам Святой Горы с саблей, воткнутой в пень, и вычерненными зубами. За ним под небольшим шатром ехала его хатунь[16]16
Жена (тур.).
[Закрыть] с пустой колыбелью. Монахи их встретили и разместили на границе хиландарского прихода, которая одновременно является северным рубежом Святой Горы. Каждое утро хатуни приносили гроздья с лозы, что растет у гробницы Немани, рядом со стеной хиландарского храма Введения, где крупные ягоды красят каменные плиты в синий цвет.
– Если родится сын, – обещал бек монахам, – я принесу с моря огонь во рту, чтобы зажечь свечу, а сына отдам вам в монастырь навеки.
Когда надежды сбылись и хатунь разродилась, бек стал отцом не одного, а сразу двоих детей. И в прыжке надо быть высоким! Теперь он был должен монахам не одного, а двоих сыновей. А пока время шло, вода текла и уносила в море яблоки и орехи, бек получил детей и вновь превратился в того старого убийцу, что шаги отмеряет саблей.
Его первенцы росли, и люди шептались, что они далеко пойдут. За их удивительной смелостью, быстро вошедшей в легенду, на самом деле скрывалась болезнь. Один из юношей давно заметил, что не чувствует боли и что удар кнута привлекает его внимание не раной, а свистом. Его брат узнал то же самое по-другому. Когда ему шел пятнадцатый год, он встретил на улице в Салониках девушку, которая украдкой поглядела на него в зеркальце. Проходя мимо, она хлестнула его своими черными волосами по лицу. Он не ощутил боли, а только увидел, что на волосах девушки осталось немного его крови. Оба брата знали, что с ними. Они были лишены благодати боли. Единственное, чего они опасались в будущем: что в каком-нибудь бою их убьют, а они этого не заметят. В первой же битве, в которую их повел Карамустафа, сыновья устроили такую резню, что под ними пришлось трижды менять лошадей. После боя они укрылись в шатре, вокруг которого войско выкрикивало им приветствия, и тщательно осмотрели друг друга в поисках ран, которые не могли почувствовать, а должны были нащупать. В этом глухом промежутке от боя до поиска ран они озлобились, стали страшнее отца, и никому и присниться не могло, что через семнадцать лет, когда сыновья достигнут совершеннолетия, Карамустафа появится однажды утром перед монастырем, приведет двух своих первенцев и отдаст их, как обещал, в монахи.
– Что могло бека принудить к этому? – гулял вопрос по военным лагерям.
– Кто смел пустить сыновей бека в монастырь? – спрашивали друг друга и монахи по кельям. – Откроешь дверь и впустишь их, а за ними рысьи следы остаются.
– Все очень просто, – отвечал один из настоятелей, – известно, как это делается. Одному дай ключ и деньги, другому – крест и книгу. Одного сделай управителем, пусть торгует и ведает монастырским хозяйством, пусть казна будет у него и пусть властвует над скотом, землей и водой. Но не давай ему креста в руки и держи подальше от почестей; пусть сидит в дальнем углу стола и держит язык за зубами, пусть имени его не знают, пусть будет под ладонью, чтобы его легко можно было убрать…
А другого поставь во главу стола, с крестом и книгой, дай ему громкое имя, из самых известных среди толкователей Священного Писания, пусть он будет у тебя на указательном пальце как пример другим, как тот, чьи помыслы самые чистые… Но не давай ему ключи и казну, не давай власть. И пусть братья будут как вода, которая течет, чтобы пробить русло, и как русло, которое стремится заполниться водой и стать рекой. Пока они будут бороться, нам они не страшны. Но если придут в согласие, если соединят ключ и крест, если поймут, что они одной крови, тогда можно грузить мулов солониной и выходить в море. Здесь нам жизни больше не будет…
Так советовал старец, но когда в назначенный день два бековых сына появились у монастырских ворот с уздечками на шее и огнем во рту, все заколебались. Юноши вошли в монастырь торжественно: за ними следовали двое слуг, неся на серебряном подносе косицы своих господ, сплетенные воедино. Тогда настоятель принял иное решение. Он обратился к Карамустафе с мудрым предложением, которым остались довольны и Бог, и бек:
– Не мы дали тебе сыновей, – сказал монах, – не нам и забирать их у тебя. Пусть их возьмет тот, кто дал, то есть Всевышний…
Юноши откусили кончики зажженных свечей, отнесли огонь во рту назад к морю и не стали монахами…
Рассказывают, что они погибли на реке Прут, сражаясь друг с другом до последнего вздоха. Один из них был хазнадаром – казначеем в турецком войске, другой – дервишем и, говорят, прекрасно толковал Коран.
Монашеский нож
1
Степанида Джурашевич была родом из Белой Церкви. Она выросла между двух разведенных женщин – бабушки и матери – и между двух войн; на шестом году жизни она получила ученическую сумку, по которой болтались книги, будто внутри гулял ветер, и губку, которую привязывали к сумке, словно маленького, постоянно мочащегося зверька. Ей заплели косу, чтобы собирала со спины пот от страха, бабка полила за ней дорогу водой и наказала не быть из тех, что «работают, словно заикаются, а хлеб с языком проглатывают», и она отправилась в школу.
Двинувшись первый раз этой дорогой, Степанида Джурашевич еще до того, как пришла в школу, выбрала свою судьбу и уже не могла сойти с пути, на который невольно ступила в то утро. На самом деле этот путь она узнала намного раньше, во сне. А именно – еще за год до школы Степанида боялась, что не сумеет вернуться домой после уроков. Ей снилось это возвращение, и вместо дома она все время оказывалась у ворот какого-то здания в снегу с колоннами и садом, полным паутины, которая колыхалась под налипшим толстым слоем снега. Деревья вокруг дома были изогнуты, потому что росли на ветру.
Теперь она действительно нашла на своем пути снившийся дом, тот самый, на том самом месте, с садом, полным улиток и паутины, за железной витой оградой, только что он был не под снегом, а под дождем. И не пустой, как во сне. С первого же взгляда Степанида Джурашевич поняла – присутствие этого дома означает, что она сбилась с пути, а спустя много лет выяснилось, что так оно и было. Однажды, когда у Степаниды по дороге в школу от порывов «кошавы» звенела по карманам мелочь, яблоком с высокой ветки в доме у сада с паутиной разбило окно, и около темной дыры рядом с хлопочущей женщиной появилась голова мальчика, которого Степанида всю свою жизнь больше не теряла из виду.
Сложив книги под постель, в которой где-то уже дремала кошка, она подворачивала ночную рубашку, высоко-высоко поднимала руками ноги и заваливалась через спинку в кровать, глубокую, словно корабль, полную клетчатых, как скатерть, перин и высокую, будто под нее подставили стулья. Лежала в темноте, смотрела, как в лунном свете падают на стене тени снежинок, и наблюдала за часами, на циферблате которых были изображены времена года, так что мужская стрелка показывала прямо на бабье лето, а женская – на осень. Посасывая ухо кошки, здесь, за окном, заполненным яблоками, она думала о том, что не может вспомнить цвет глаз мальчика из дома с садом. Она уже слышала, что они там, в доме держат на блестящей цепочке обезьянку с кольцом в ухе, про которую говорили, что она крещена. По воскресеньям бабушка будила внучку вместе с кошкой криком: «Кыш, шестнадцать!» – убежденная, что число «шестнадцать» больше пугает кошку, чем сам крик. Затем Степанида обычно привязывала свои санки к какой-нибудь крестьянской повозке, чтобы доехать до известного дома на главной улице, и там внимательно следила в окно за пальцами мальчика, которые вели себя столь беспокойно, что, вероятно, их не видел и сам владелец, так как он постоянно прятал их под подбородок, в волосы, в карманы или просто сидел на них. Он проделывал это так ловко, что кончилась война, прежде чем Степаниде удалось увидеть его руки.
По улицам проходили солдаты, и дети говорили, что каждому сотому суждено «наглотаться льда», пойти в атаку и погибнуть. Своей судьбы они могут избежать только в том случае, если кто-нибудь пересчитает армию и каждого сотого пропустит, то есть посчитает его как сто первого. Дети бродили по улицам и считали до умопомрачения, а Степанида вечером в кровати считала и дальше, прислушиваясь к тяжелым шагам воинской колонны, всю ночь проходившей мимо. В самом красивом окне дома зажгли свечу, чтобы она горела всю ночь, а Степанида, глотая слезы, засыпала с угрызениями совести оттого, что кто-то умрет, потому что она спит и не считает. Когда сограждане, обнаружившие свои имена в немецких списках на расстрел, начали покидать город, она, узнав, что и жители дома в паутине собираются двинуться за армией в сторону Панчево, всполошила свою семью, упрашивала день и ночь и наконец вытолкала бабушку и мать на панчевскую дорогу. Она твердила одно – что слышала, будто туда же уехал и отец.
Хотя разводы в семьях наследуются, как цвет глаз, хотя разведенная бабушка Степаниды прожила век с разведенной же дочерью, считая ее судьбу доказательством того, что сама она, разойдясь с мужем, была права, – не принимать во внимание внучку было невозможно. Ребенок без отца, Степанида постоянно тосковала. Ночью она слушала, как через зажженную свечу, стараясь ее не разбудить, тихо ругаются мать и бабка, две бывшие красавицы, которых она видела насквозь прежде, чем стала понимать причины их поступков. Степанида не успела запомнить запах отца, запах табака и вина, как родители уже развелись. Отец жил быстро и пил дни залпом, словно стаканы вина, и каждое утро – помнила она – выглядывал в окно и, оценивая день, говорил:
– Розовое! Фрушкогорское белое! – Или (а это значило, что день не обещает спокойной ночи): – Бургундское красное!
Когда ее мать развелась, Степанида ничего не сказала. Ни тогда, ни после. Но однажды, когда она уже подросла и все думали, что отец прочно ею забыт, на лестнице, что вела к входу в их дом, нашли несколько написанных мелом слов:
– Папа, съешь меня!
Так получилось, что даже и во время войны слова Степаниды принимались во внимание. Они сели в повозку и очутились в толпе беженцев, наводнивших Банат под апрельским снегом, который был красным от песка с Девичьего колодца. Несмотря на отчаянные поиски, Степанида не сумела среди обезумевших людей, разводивших костры на льду и заселивших все деревенские конюшни и чердаки, найти своего сверстника. Она тосковала все время оккупации, а когда после освобождения бабушка купила на следующую, «третью» войну три огромных банки кускового сахара, три мешка зерна и три бочонка меда для себя и обеих дочерей (из которых одна уже давно жила в Америке), Степанида начала от долгой тоски путать цвета. Она пошла в гимназию, и вдруг обнаружилось, что желтый цвет она видит как синий, так что ей не давали желтых лент в косу, потому что в школе она могла перепутать и взять чужую синюю. Как-то очень быстро после этого и будто в связи с этим у Степаниды выросли длинные ресницы, которые отбрасывали ей на губы густую тень. Веки ее потяжелели, налились молоком, так что по ним вполне можно было заключить, каковы ее груди под школьным фартуком. Ногти внезапно стали твердыми, как звериные когти, вобрав в себя последние остатки жесткости из ее мягкого тела, которое постоянно стремилось убежать из одежды, так что казалось, будто Степанида вот-вот уйдет через свое ожерелье из жемчуга или выскользнет сквозь серебряный браслет и превратится в ту, кем она так хотела стать, – в девочку на год старше. Когда это произошло, стало ясно, что Степанида очень похожа на мать, только мать была красивая, а Степанида – нет. Сама она вдруг обнаружила, что тени на ее теле стали располагаться как-то по-другому, а передние зубы всегда открыты и мерзнут, так что приходилось их время от времени лизать, чтобы согреть.
Вечерами она все еще держалась рукой за ногу, пытаясь отгадать судьбу. «Шведский князь» – как дети называли небольшой нарост под коленом, напоминающий еловую шишку, рачка или улитку, – знал будущее. В зависимости от того, чт́о именно нащупает девушка под кожей в этом месте, можно узнать, когда она выйдет замуж. Шишку – ближайшей осенью, рачка – никогда, улитку – в середине жизни. Степанида не выбросила свои молочные зубы, до сих пор хранила отрезанную детскую косу и иногда раскладывала все на зеркале, пытаясь увидеть, как другая она, давнишняя, грызет тогдашними зубами отрезанную косу.
В это время Степанида узнала, как звалась семья ее сверстника, исчезнувшего в войну из Белой Церкви, потом выяснила, что теперь он живет в Белграде, что зовут его Никола и что он поступил учиться. Она немедленно упаковала свой сундучок, полный белья и полотенец, будто приданое приготовила, положила в него лавандовые листья, молочные зубы и косу и целый год вот так собранная уговаривала и наконец уговорила мать и бабушку переселиться в Белград. Решив изучать, как и ее земляк, философию, Степанида Джурашевич переехала в столицу сама, затем перевезла мать, сняла квартиру и начала учиться. Вскоре она совершенно случайно вышла замуж за некоего Атанасия Свилара, прослушавшего курс архитектуры, родила от него сына, быстро развелась и пошла работать, но факультет все не заканчивала, потому что теперь это было единственное, что связывало ее со сверстником из Белой Церкви и с детством. Он же до сих пор не женился, был оставлен на факультете сначала ассистентом, а затем преподавателем, и Степанида сидела на его занятиях, записывая каждое слово, как когда-то в одной аудитории вместе с ним слушала лекции, и не сдавала выпускные экзамены из страха получить наконец диплом и навсегда его потерять. Иногда ей снилось, что она защищает у него диплом, а принимает экзамен вся его семья – жена и пятилетний ребенок, хотя она не знала, существует ли он в природе.
2
Старожилы на Вождовце знают, что дождь редко идет одновременно и на Трошарине, и у Автокоманды. Так по воде, текущей вдоль рельсов «десятки», можно заключить в начале Авалского шоссе, что наверху на Банице – ливень. Старожилы помнят и то, что на Вождовце всегда был какой-нибудь Радосав или Момчило, который всегда снится молодцом, – к добру, и какая-нибудь Докса или Смиля, что снится как невезучая. Я очень удивился, когда узнал от племянников, живущих там, что и сегодня есть такая Докса. Мне показали ее дом и рассказали о ней что знали, а я узнал в их рассказе Степаниду Джурашевич.
Как раз в доме, выходящем на гостиницу «Лавадинович», возле маленькой парикмахерской, разрезанной пополам трамвайной колеей, так что бритье прекращается, когда «десятка» громыхает наверх, жила теперь Степанида Джурашевич. Она была похожа на те огромные рубахи, у которых завязывают рукава и подол и набивают в них, как в мешок, старое тряпье. Дети считали ее дряхлой старухой и дразнились вслед. Их пугало ее странное жилище и странный запах, от которого болели даже уши. Огромная, глухая от одиночества, она еле-еле тащилась по улицам; по весне она, с трудом приседая на корточки, собирала улиток, ставила им на домик крохотные свечки, зажигала и выпускала во дворе вождовацкой церкви. В руках она несла иногда книгу, иногда две ложки, связанные волосами, и любила говорить: «Пусть по воскресеньям и собственное имя отдохнет! Пусть один день в неделю будет без имени, как пятница – без мяса!»
Она редко появлялась в новой одежде, но, появившись, долго ее не снимала. Так, она носила белое кружевное платье, сшитое для свадьбы, столько, что молодая уже, наверное, успела надеть родильную рубашку; или после похорон ходила в черном, когда семья умершего давно уже сняла траур. Дети шпионили за ней и выяснили, что каждое воскресенье она ходит на кладбище и всегда останавливается у одной небольшой, почти детской могилы, за содержание которой платит могильщикам левой рукой. Необычным было то, что на могильной плите не было ни имени, ни знака, ни даже креста.
Под каким-то предлогом мой племянник побывал в ее квартире и рассказал, что, пока ел розовое варенье, которым она его угостила, видел в стеклянном шкафчике красивый монашеский нож. Племянник попросил разрешения его посмотреть. Мальчик хотел вытащить нож из чехла, но под первыми ножнами оказались вторые, чуть поменьше, под ними – третьи, еще меньше, и так далее. В результате он, снимая чехол за чехлом, так и не добрался до лезвия, а Степанида его остановила и решила пошутить. Взяла нож из руки у мальчика и произнесла:
– Будь ты мной, а я стану ножом!
И потянула нож из ножен. Но она была неловкой левшой, нож был монашеский, и показались лишь еще одни ножны…
– Не бойся! – сказала она перепуганному мальчику. – Была и я, господинчик мой, когда-то младше тебя…
Однажды за обедом она умерла, вытирая хлебом масло с губ. Женщины нашли ее с куском хлеба в левой руке, который она несла ко рту, а когда хотели ее обмыть, случилось нечто необычное. Сначала с нее сняли шляпу и вместе с ней пучок искусственных волос, под которым обнаружилась голова с редкими, заплетенными в косицы волосами, удивительно маленькая для такого грузного тела. Затем женщины начали снимать платье, и в руках у них вместе с платьем очутилась фарфоровая, как у куклы, правая кисть. Правой руки нигде не было, или, точнее, она давно уже покоилась на кладбище в той самой маленькой могиле, которую Степанида посещала по воскресеньям, нося левой рукой цветы для правой. Потом началось такое, что и женщин изумило. Под верхним показалось другое платье, черное с глухим воротником и пуговицами сверху донизу. Под ним – белое кружевное, из материала, который носили в 1959 году. Затем было подвенечное платье с розами, сделанными вручную примерно в 1956 году, и тогда женщинам стало ясно, что дело нечисто. Все платья были сшиты по мерке, но каждое верхнее оказалось шире нижнего, так что одно могло поместиться в другом, как матрешки. Под свадебным появилось платье «ундина», затем – блузка, сшитая из шелка английских парашютов в 1945 году. Под гамашами были надеты ботинки на кнопках, какие носили перед войной; наконец, под всеми платьями обнаружилась детская кофточка-матроска с ленточкой и колокольчиком для Вербного воскресенья, на котором стояла дата: 1938 год.
Под конец Степанида Джурашевич, будто истаяв, стала маленькой, почти как ребенок, сухой, истощенной грузом своих платьев и лет; вся жизнь была снята с нее слой за слоем, Степанида принимала ее такой, какой она была, не отвергая ни одной минуты. Все свои дни и годы она хотела иметь под рукой, носила на себе, будто они могли от чего-то защитить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































