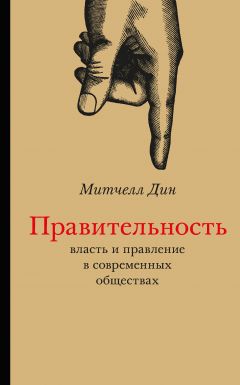
Автор книги: Митчелл Дин
Жанр: Зарубежная деловая литература, Бизнес-Книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Неолиберализм и Фуко
В своем исследовании послевоенного либерализма Фуко делает акцент на специфических контекстах разработки либеральной критики иррациональности превышения власти, а также на возврате к технологии, которую Бенджамин Франклин назвал «умеренным правлением»[66]66
Выражение «frugal government» чаще известно по инаугурационной речи Томаса Джефферсона, третьего Президента США, произнесенной 4 марта 1801 года (спустя 11 лет после смерти Бенджамина Франклина): «…мудрое и умеренное правительство, которое удержит граждан от причинения вреда друг другу, а во всем остальном предоставит свободу управлять собой в работе и самосовершенствовании и не отнимет заработанный кусок хлеба». http://ahp.gatech. edu/jeferson_inaug_1801.html. – Примеч. пер.
[Закрыть] (Foucault 1989b: 117; 2008: 322; Фуко 2010: 410). Кроме того, он обращает внимание на множественность либерализмов и характер интеллектуального формирования каждого из них. Для этого он рассматривает немецкий либерализм в период с 1948 по 1962 год в том виде, в каком он представлен в публикациях журнала Ordo, и американский неолиберализм, известный под именем чикагской экономической школы.
Так называемые ордолибералы, Ordoliberalen, исключительно интересны, и заслуги Фуко, внесшего большой вклад в их изучение, неоценимы, как очевидны и мотивы того, почему он потратил на них так много времени[67]67
Главным источником размышлений Фуко об истоках Федеративной Республики Германии, в частности, о понятии Rechstaat, или верховенства права, могла быть его публичная вовлеченность в дела, связанные с немецким внутренним терроризмом (Фракцией Красной Армии), в конце 1977 года. Исходя из этого можно понять, на что он намекает во фразе о «правовым государством [Rule of Law], о котором вы, конечно же, читали в газетах в прошлом году и о котором так часто говорят» (Foucault 2008: 168; Фуко 2010: 216). Дело Круассана побудило его заняться защитой прав тех, кто предоставлял убежище, и права террористов на надлежащее юридическое представительство (Foucault 2001: 426–428; Фуко 2006: 51–53). Впрочем, он отказался подписывать инициированную Феликсом Гваттари петицию, поскольку в ней Западная Германия называлась «фашистской» (Sennelart 2007: 393, n. 25, 26). Это был пример крайней формы «страха перед государством», который он критиковал в своих лекциях. В своем анализе он показывает, что ФРГ – в противовес тому, что он называет «партийной правительностью» национального и государственного социализма – выросла из либеральной правительности, сосредоточенной на рынке и разделявшей как раз ту же самую «инфляционную критику государства» (Foucault 2008: 187–191; Фуко 2010: 240–245).
[Закрыть]. В конце 1920-х годов эти интеллектуалы ассоциировались с фрайбургской школой и находились под влиянием неокантианской философии, феноменологии Гуссерля и социологии Вебера. Их исследования были посвящены исторически фиксируемым связям между экономическими процессами и юридическими структурами (Foucault 1989b: 117). В период Третьего рейха они большей частью были высланы из страны или находились во внутренней эмиграции, но после войны в Федеративной Республике Конрада Аденауэра и Людвига Эрхарда смогли вернуть себе господствующие позиции. В послевоенном восстановлении западногерманского государства они сыграли важную роль. Как замечает Фуко, проблема, которая занимала их, прямо противоположна проблеме Тюрго и экономистов конца XVIII века: речь не о том, как возможна экономическая свобода в условиях полицейского государства. Напротив, «перед нами государство, которого нет; как можно заставить его существовать исходя из того негосударственного пространства, которое есть пространство экономической свободы?» (Foucault 2008: 86–87; Фуко 2010: 112).
Несмотря на интеллектуальное родство, их реакция на тоталитаризм 1930-х годов резко контрастирует с реакцией членов Франкфуртской школы (Gordon 1986: 80–81). Подобно последним они прямые наследники Вебера и веберовской темы, которую Фуко характеризует как «иррациональную рациональность капиталистического общества» (Foucault 1991b: 78). Однако там, где франкфуртские неомарксисты искали более широкое, более социальное основание для преодоления иррациональностей капиталистического инструментализма, фрайбургские неолибералы искали новое капиталистическое основание для преодоления социальных иррациональностей предшествующих форм управления и эпох. Тем самым они отвергали тезис Маркса о противоречивой логике капитала и утверждали, что иррациональности прежних форм капитализма, включая тенденцию к монополизму, обусловлены действиями государства. Если политическая задача состояла в создании государственной легитимности там, где никакого легитимного государства не было, учредив конкурентный рыночный капитализм, то стоявший перед ними интеллектуальный вопрос касался выживания и своеобразия капитализма, вернее, капитализмов. Ордолибералы ставят этот вопрос между проблемами-близнецами экономической теории конкуренции, с одной стороны, и экономической истории или экономической социологии – с другой (Foucault 2008: 163–166; Фуко 2010: 210–213). Они рассматривают капитализм как «экономико-юридический ансамбль» и через призму «экономико-институциональной истории». Иногда их позиция называют «позитивным либерализмом» или даже «социологическим либерализмом» (Foucault 2008: 133, 146; Фуко 2010: 173, 188).
В силу этого ордолибералы считали, что немецкая катастрофа была следствием провала реализации рыночного режима, а не провала капиталистической экономики. Они прослеживают путь немецкой экономической теории и практики от Фридриха Листа и понятия национальной экономики через бисмарковский социализм, плановую военную экономику времен Первой мировой войны и возникновение кейнсианства в 1920-х годах (Foucault 2008: 107–109; Фуко 2010: 140–142). Для них – вопреки представлению о национал-социализме как выхолащивании государства в пользу народа, Volk, и партии – нацизм означал неограниченный рост государственной власти, он был наследником протекционизма, государственного социализма, плановой экономики и вмешательств немецкой истории. По мнению Фуко, в этом состоял их теоретический переворот (Foucault 2008: 111; Фуко 2010: 145–146). «Рыночную систему не испытывали и не признавали негодной, ей было отказано в испытании» (Gordon 1986: 80).
Поэтому они обвиняли предшествующие типы управления, в частности советский социализм, национал-социализм и кейнсианские техники вмешательства, в систематическом пренебрежении рыночными механизмами, которые обеспечивают устойчивое ценообразование (Foucault 1989b: 118). Ордолибералы отдают предпочтение реализации конкурентного рынка как «искусственной игры свободы конкуренции», но при особых институциональных условиях. Их концепция рынка по своему характеру глубоко антинатуралистическая и «конструктивистская»: это уже не область квазиавтономных процессов, а реальность, гарантируемая надлежащим юридическим, институциональным и культурным каркасом. Поэтому они говорили о том, что институциональный и юридический аппарат должен организовывать рынок, а не заниматься его планированием или управлением. Одна его часть предоставит гарантии принципа верховенства права, наиболее ясно сформулированного Хайеком в «Конституции свободы» (Foucault 2008: 171–172; Фуко 2010: 220), другая защитит свободу экономических процессов от социальных искажений (Foucault 1989b: 118). Более того, рынок будут защищать бдительные социальные интервенции, включающие политику пособий по безработице, медицинское страхование и жилищную политику (Foucault 1989b: 119). Наконец, нужно гарантировать – средствами того, что Александер фон Рюстов называл Vitalpolitik, или «политикой жизни»[68]68
См.: (Фуко 2010: 190). – Примеч. пер.
[Закрыть], – что рынок как игра свободы конкуренции будет дополняться культурой, в которой все аспекты жизни (не только экономические) будут реорганизованы как гонка множества разных предприятий (Gordon 1991: 42). В этом смысле ордолибералы – изобретатели «предпринимательского общества»[69]69
Кит Трайб предположил, что Ordoliberalen не были «неолибералами», поскольку предусматривали широкую программу социальных реформ, в то время как внимание неолибералов приковано к политике регулирования конкуренции (Tribe 1995: 207n). Хотя с точки зрения экономической теории так, возможно, и есть, ордолибералов можно считать неолибералами – согласно подходам Трайба и Фуко – с точки зрения экономического управления. В этом последнем смысле они являются неолибералами, поскольку стремились восстановить рыночную экономику и режим ценообразования, даже если это влекло за собой обширную программу социального обеспечения.
[Закрыть].
Здесь происходит базовое отождествление индивидуальной свободы и свободного общества со свободой рынка. Именно такое отождествление позволяет этим мыслителям предлагать и средства политической легитимации, и принцип, который бы гарантировал как гражданскую сплоченность, так и будущее процветание. Однако принять тоталистскую политику вместо «руководства жизнью» – вместо того что Вебер назвал бы Lebensführung – значит признать, что раскалывающие общество эффекты рынка должны сдерживаться не только профессиональной бюрократической и правовой иерархиями, но и благоразумным регулированием со стороны исполнительной власти. Этот ход, по замечанию Гордона, возобновляет связь ордолибералов с этатистским направлением немецкой политической мысли (Gordon 1991: 42). Для Фуко предпринимательское общество – это одновременно «общество для рынка и общество против рынка» (Foucault 2008: 242–243; Фуко 2010: 304–305). Глубокая двусмысленность ордолибералистской позиции обнаруживается Репке, когда он признает, что хотя конкуренция – это принцип порядка в рыночном обществе, «в моральном и социологическом отношениях <…> это принцип скорее разлагает, чем объединяет». Поэтому государство возвращается как «политический и моральный каркас», который обеспечивает единство сообщества и гарантирует конкуренцию между «укорененными в природе и интегрированными в общество индивидами».
По сравнению с ордолибералами идеи американских теоретиков более радикальны, последовательны и всеохватны. Работая с чикагской школой, Фуко также привлекает внимание к тому, что критикуется и проблематизируется. Примерами «избыточного» управления здесь служат Новый курс, план военного времени и послевоенные макроэкономические и социальные программы, ассоциируемые с демократическими администрациями. Фуко предполагает, что опасность этих форм управления связана с неизбежной логикой: экономический интервенционизм приводит к избыточному росту государственного сектора, чрезмерному контролю, бюрократии и негибкости, которые, в свою очередь, вызывают новые экономические перекосы, приводящие к новому витку вмешательств. Логика американских неолибералов разворачивается в направлении, противоположном ордолибералам. Для последних механизм ценообразования настолько хрупок, что его нужно дополнять бдительной внутренней политикой, принципом верховенства права и сложным комплексом политических мер и мер социального обеспечения. Американцы же настолько уверены в рациональности рынка, что готовы распространить ее на любые сферы, которые ни исключительно, ни даже преимущественно не связаны с экономикой, например семья (инвестиции матери в ребенка), уровень рождаемости (парадоксальная связь между уровнем дохода и размером семьи), преступления и правонарушения (Foucault 2008: 229–230, 243–246, 250–256; Фуко 2010: 288–290, 305–309, 314–321). Экономическую рациональность можно использовать для анализа всех или почти всех аспектов человеческого поведения и для составления политических рекомендаций.
Опираясь на лекции Фуко, Гордон показывает, как это возможно (Gordon 1991: 43). Во-первых, американский неолиберализм использует понятие выбора как фундаментальной человеческой способности, которая господствует над всеми социальными детерминациями. Во-вторых, он радикально переворачивает понятие Homo oeconomicus раннего либерализма и предлагает концепцию «манипулируемого человека». В отличие от субъекта, который рационально рассчитывает свои интересы как экономический актор, совершаемые выборы могут изменяться под влиянием среды. Для Фуко Homo oeconomicus, согласно «грандиозному определению» Беккера, это попросту «тот, кто принимает реальность. Рациональное поведение – это любое поведение, чувствительное к изменениям параметров среды и отвечающее на них неслучайным образом» (Foucault 2008: 269; Фуко 2010: 336–337 [перевод изменен. – Примеч. пер.]). Здесь Homo oeconomicus близок к бихевиоризму Б. Скиннера – в той мере, в какой коррекция среды вызывает изменения поведения в соответствии с этой рыночной рациональностью. В-третьих, в этом типе неолиберализма– в частности в теории «человеческого капитала» Гэри Беккера – субъект картографируется как антрепренер для самого себя (Foucault 2008: 226; Фуко 2010: 285). Индивид, состоящий из врожденных и приобретенных навыков и талантов, – это место своих и чужих инвестиций в его человеческий капитал с целью получить как денежный доход, так и физическое и культурное удовлетворение. Как полагает Беккер, инвестиции в человеческий капитал – это «действия, которые влияют на будущий денежный и психологический доход посредством увеличения ресурсов людей» (Becker 1964: 1).
У американского неолиберализма есть два следствия. Во-первых, экономическая форма переносится за пределы рынка и становится «принципом дешифровки социальных отношений и индивидуального поведения» (Foucault 2008: 243; Фуко 2010: 305). Во-вторых, эта экономическая сетка становится принципом анализа управленческой деятельности в терминах «злоупотреблений, излишеств, бесполезности, чрезмерных трат» и, таким образом, становится принципом постановки ключевых вопросов, которые должна задавать себе любая политика (Foucault 2008: 246; Фуко 2010: 309). Например, преступление можно рассматривать с точки зрения экономического актора, который подвергает себя риску быть осужденным на наказание, и с точки зрения издержек «правоутвердительной» деятельности[70]70
У понятия law enforcement есть устоявшийся перевод: правоприменительная или правоохранительная деятельность. Однако Фуко привлекает внимание к дополнительным смысловым обертонам понятия, выходящим за пределы правоприменения: придание запретительному акту социальной и политической реальности. Подробнее см.: (Foucault 254–255; Фуко 2010: 318). – Примеч. пер.
[Закрыть]. Его можно понять в терминах объема предложения преступной деятельности и отрицательного спроса на такую деятельность или положительного спроса на законопослушное поведение. Тогда ключевыми вопросами карательной практики становятся вопросы: «Сколько преступлений можно допустить? <…> Сколько преступников должны остаться безнаказанными?» (Foucault 2008: 256; Фуко 2010: 321). Мы должны задавать себе эти вопросы, когда оцениваем величину расходов на суды, полицию и органы принудительного исполнения.
Что показывают эти примеры неолиберализма? Во-первых, на базовом уровне они предупреждают нас, что есть больше, чем один тип неолиберализма. Речь не о том, что есть хороший и плохой неолиберализм, а о том, что необходимо анализировать конкретные формы политической рациональности и то, как они подключаются к режимам управления.
Поэтому не может быть ничего более далекого от этоса генеалогии, чем идея, будто мы можем избежать анализа специфики политического и управленческого разума и дискурса, выделив «идеальный тип», который получен путем абстрагирования из многообразия современных философий управления в продвинутых либеральных демократиях. Во-вторых, эти примеры неолиберализма показывают, что ни одна из его форм не противостоит управлению, понятому как «руководство поведением», и что они опираются на особые механизмы регулирования. В одной версии, немецкой социальной рыночной экономике (так же, как во многих современных формах трудовой политики в англоязычных странах), аппараты национального управления играют активную и интервенционистскую роль в организации условий (функционирования) рыночной экономики и производства отвечающих ее требованиям типов субъектов. В другой версии, более близкой к чикагской школе и современной «правоцентристской» политике, цели государственного управления оборачиваются на его средства.
Здесь мы обнаруживаем расширение рациональности рынка на все новые и новые области, а также учреждение квазирынков, или искусственных рынков, в областях, где ранее действовало государственное обеспечение услуг.
Наконец, эти примеры резюмируют и подчеркивают критический, проблематизирующий характер либерализма и то, как меняются цели этой критики в зависимости от историко-политических обстоятельств. Это напоминает о своеобразии генеалогического подхода к либерализму. Согласно Фуко, либерализм следует рассматривать не как теорию, идеологию, правовую философию индивидуальной свободы, комплекс политических мер или даже способ саморепрезентации общества, а как «способ действовать» (manière de faire), нацеленный на некоторые цели и регулирующий себя посредством непрерывной рефлексии (Foucault 1989b: 110). Его следует анализировать «как принцип и метод рационализации управления – рационализации, которая подчиняется (и в этом ее особенность) внутреннему правилу максимальной экономии». Разные формы либерализма и, более того, неолиберализма проистекают не столько из фундаментальных философских различий, сколько из исторических обстоятельств и стилей управления, которым соответствуют определенная форма критики, этос пересмотра и метод рационализации.
Мы очертили взаимосвязи между генеалогией, управлением и либерализмом в работах Фуко и релевантной литературе конца 1970-х годов. Тем самым мы обеспечили себе плацдарм, чтобы начать рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются те из нас, кто живут в мире, сформированном международной системой государств, и в частности те, кто живут в либерально-демократических государствах в начале XXI века. В следующей главе я проиллюстрирую и концептуальную, и методологическую установку, а также отличительный этос аналитики управления, очерченные в первых двух главах. Для этого я проведу два исследования ключевых понятий критики велфаристской ментальности управления.
Глава 3
Зависимость и уполномочивание: два исследования
МНОГИЕ из проблем, которые мы рассмотрели в предыдущих главах на общем концептуальном и методологическом уровне, можно проиллюстрировать и прояснить, кратко обсудив два исследования ключевых понятий современного управления благосостоянием и бедностью. Эти работы близки центральным аналитическим и содержательным задачам этой книги. Первая – исследование истории понятия зависимости от социального обеспечения (welfare dependency), проведенное Нэнси Фрейзер и Линдой Гордон (Fraser, Gordon 1994). Второе – сделанное Барбарой Крюкшенк исследование стратегий уполномочивания в «Программах общественной деятельности» (Community Action Programs) в 1960-х годах в США (Cruickshank 1994). Оба исследования в той или иной степени находятся под влиянием постфукианской проблематики власти и управления, а также осмысления понятий и стратегий, при помощи которых осуществляется управление в современных либеральных демократиях. Оба посвящены темам в области государственной политики из недавней истории США и отражают современную феминистскую проблематику. Что особенно важно, они дают нам ориентиры того, как можно работать с поднятым в главе 1 вопросом об агентности управляемых. При этом они представляют весьма различные подходы к отношению между управлением и агентностью. На самом общем уровне исследование Барбары Крюкшенк разворачивается в рамках аналитической методологии и этоса генеалогии Фуко. Работа Нэнси Фрейзер и Линды Гордон хотя и использует язык генеалогии, остается на территории критической теории с ее мета-исторической позицией и романтикой освобождения.
Зависимость
Не только в США, но и в других либерально-демократических странах начиная с 1970-х годов шли острые дискуссии о государственной политике, сосредоточенные на таких понятиях, как «культура бедности», «перманентная бедность», а также посвященные формированию новой «бедноты» из попавших в зависимость от социального обеспечения. Эта зависимость считается и правыми, и левыми ключевой проблемой так называемой ментальности государства всеобщего благоденствия в области предоставления льгот и услуг пассивным получателям (например, OECD 1988). Как утверждается, ситуация экономической зависимости от социального обеспечения средств к существованию поощряет культуру, в которой индивиды ожидают такой поддержки и это ожидание становится частью образа жизни семей, сообществ и общин. В США эта зависимость наиболее сильно ассоциируется с «матерью, получающей пособие на ребенка» (welfare mother), живущей в городе незамужней афроамериканской женщиной, содержащей детей – часто с помощью организации «Помощь семьям с детьми, находящимися на иждивении» (Aid to Families with Dependent Children – AFDC). Впрочем, зависимость может использоваться и для описания ситуации тех, кто признан «давно потерявшим работу». Центральный аспект этого понятия зависимости от социального обеспечения заключается в том, что экономическое состояние зависимости от выплат, обеспечивающих существование, связано с морально-психологическим состоянием зависимости, которое воспроизводится в жизнях и образах жизни индивидов, семей и сообществ.
Нэнси Фрейзер и Линда Гордон попытались разоблачить это понятие «зависимости», указывая на то, что они назвали его «генеалогией». Они заимствуют понятие генеалогии у Фуко, чтобы предложить такой исторический анализ, который ставит под вопрос наше привычное понимание терминов, исследуя, как значения таких терминов конструируются в разнообразных практиках. Для начала замечу, что с аналитикой управления этот анализ роднит внимание к особой проблематизации велфаристской ментальности управления. Кроме того, эти авторы заимствуют термин «генеалогия», чтобы обозначить методологическую стратегию «остранения». Впрочем, в той мере, в какой они вписывают эту методологию в мета-исторический нарратив современности (modernity), который стремится раскрыть освободительную активность управляемых, этос их анализа ближе к критической теории, чем к генеалогии.
Фрейзер и Гордон выделяют четыре основных регистра, определяющих значение термина «зависимость» (Fraser, Gordon 1994: 312):
1. Экономический регистр, в котором один зависит от другого в том, что касается средств к существованию, например, домохозяйка или слуга.
2. Социально-правовой регистр, в котором правовой статус одного подчинен правосубъектности другого, как в случае замужней женщины, вплоть до XX века подчиняющейся основанному на общем праве статусу замужней женщины.
3. Политический регистр зависимости, влекущий за собой подчинение внешней власти (например, колониальная зависимость) или отказ в гражданских правах определенным индивидам и группам.
4. Морально-психологический регистр, в котором характерные черты индивидов или групп известны благодаря моральным или религиозным представлениям или разного рода экспертизам, как в случае наркомана.
Фрейзер и Гордон утверждают, что в обществах разного типа эти регистры значения зависимости собираются и истолковываются по-разному. В доиндустриальном обществе понятие зависимости применимо к подавляющему большинству населения: крестьяне, подмастерья, слуги, вассалы и жены (Fraser, Gordon 1994: 312–314). Принадлежавшие этой дифференцированной группе люди находились в положении экономического подчинения и социально-правовой зависимости от другой группы (например, хозяин, сеньор или глава домохозяйства). У них нет политических прав, поскольку условием доступа к таким правам является владение землей. Зависимость – нормальное, не девиантное состояние и подразумевает более низкое положение без морального осуждения. В индустриальном обществе под совокупным влиянием некоторых форм радикального протестантизма, демократической борьбы и формирующегося рынка труда зависимость начинает пониматься как нечто враждебное человеческому достоинству и самостоятельности. Белые рабочие избавляются от политической и правовой подчиненности и понимают систему наемного труда как форму независимости. Ряд фигур остаются за пределами понятия «независимый рабочий»: бедняк, живущий на пособие по бедности, коренной житель, раб и домохозяйка. Если первые три в основном понимаются в морально-психологическом регистре, то домохозяйка дополняет независимость мужчины-рабочего, сочетая доиндустриальную социально-правовую и политическую зависимость жен в патриархальных домохозяйствах с позднее актуализированной экономической зависимостью. Таким образом, в экономическом смысле зависимость феминизируется. В феминистской борьбе против закона о замужестве эта зависимость становится все более стигматизированной. Тем не менее можно было отличить «негативную» зависимость, скажем, получающего пособие по бедности (pauper), от «позитивной» зависимости домохозяйки.
Однако в постиндустриальном обществе, по мнению Фрейзер и Гордон (Fraser, Gordon 1994: 323–325), произошли два изменения, которые серьезно подорвали классическую промышленную систему зависимости: формальный запрет многих социально-правовых и политических статусов зависимых и «децентрация» семейной заработной платы (family wage)[71]71
Понятие было введено на рубеже XIX века в Британии в рамках профсоюзной борьбы за повышение оплаты труда. Заработная плата рабочего должна быть достаточной, чтобы обеспечивать жену и ребенка. Соответственно, это понятие предполагает нуклеарную семью с одним ребенком, в которой мужчина – единственный кормилец, а женщина остается домохозяйкой. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Во-первых, отныне домохозяйкам, беднякам и коренным жителям не отказывают в гражданских и политических правах. Во-вторых, под влиянием изменения структуры экономики и распространения новых форм семьи идеал семейной заработной платы перестает быть господствующим. Это привело к заявлениям о том, что основания зависимости устранены и остались только ее морально-психологические аспекты. Впрочем, подобные тезисы исходили в основном от таких форм экспертизы, как дисциплины психологического цикла, благодаря благодаря чему зависимость была «патологизирована» и стала связываться с терапией. «Зависимое расстройство личности» было кодицифировано в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (APA 1994). Теперь мы можем говорить о «наркотической зависимости», «созависимости» (отношения, в которых один, обычно женщина, поддерживает зависимость другого) и, конечно, «зависимости от социального обеспечения». Как следствие, уничижительные обертоны возрастают, и термин становится все более индивидуализированным. Даже предложенная Бетти Фридан в 1960-х годах феминистская критика психологической зависимости домохозяек как свидетельства их социальной подчиненности подвергается переводу в гендерно ориентированную глубинную психологию скрытого страха женщин перед независимостью. Согласно этому подходу в постиндустриальном обществе больше нет позитивной зависимости.
Применительно к благосостоянию центральный тезис состоит в том, что с бедными людьми что-то не так, и дело не только в их бедноте. Поэтому зависимость от социального обеспечения – это синдром, который несет в себе государство всеобщего благоденствия, и он связан с биологией, психологией, воспитанием, культурой, поведением, не сколькими из этих факторов или даже всеми сразу. Особенно интересно сращение понятия зависимости от социального обеспечения с образом афроамериканской незамужней, нуждающейся в социальной помощи матери-подростка. Наглядным примером того, как функционирует в политическом дискурсе эта фигура матери, получающей социальное пособие на ребенка, является комментарий вице-президента Куэйла после восстаний в Лос-Анджелесе в 1992 году: «Наши неблагополучные кварталы заполнены детьми, имеющими детей <…> людьми, которые зависят от наркотиков и подсажены на наркотик социального обеспечения» (Fraser, Gordon 1994: 327). Как пишут Фрейзер и Гордон, особое внимание к таким матерям связано с местом программы «Помощь семьям с детьми, находящимися на иждивении» в административной структуре социального обеспечения в США и с проблематизацией афроамериканской семьи, начало которой восходит к «отчету Мойнигана»[72]72
«Отчетом Мойнигана» называют книгу социолога Д. П. Мойнигана «Темнокожая семья: за вмешательство государства» 1965 года. Ее центральный тезис состоит в том, что причиной бедственного положения афроамериканских семей стал упадок нуклеарной семьи как института. (Исток этой ситуации Мойниган возводил к временам рабовладения.) Слабая позиция отца или его полное отсутствие вынуждали матерей растить и обеспечивать детей, пользуясь государственной поддержкой, которая тем самым, по мнению Мойнигана, потворствовала дальнейшему разрушению семьи. Иными словами, ответственность за бедность перекладывалась на самих бедных, оставляя в стороне социальные, политические и правовые факторы. Так, Мойниган признавал расизм и дискриминацию темнокожих, однако не считал их решающими факторами. – Примеч. пер.
[Закрыть] в 1960-х годах и далее.
Подход Фрейзер и Гордон к зависимости весьма серьезен и убедителен, он заслуживает пристального изучения. Авторы критически работают с главным компонентом проблематизации велфаризма. В этом смысле их работа – это вклад в исследование ментальности или рациональности управления, характерной для недавней неолиберальной и неоконсервативной критики. Они доказывают плодотворность внимания к языку социальных проблем, к тому, как оспариваются термины словаря и как они со временем меняются. В наиболее проницательных пассажах Фрейзер и Гордон демонстрируют, как понятия зависимости и независимости встроены в логику системы государственного социального обеспечения США и как они особым образом пересекаются с вторичной гендерно-дифференцированной помощью, оказываемой программой AFDC.
Однако у анализа, проводимого из этой перспективы, есть важные ограничения[73]73
В совершенно комплиментарной рецензии на данную книгу и книгу Николаса Роуза (Rose 1999) Диана Рубинштейн сочла, что сравнение аналитики управления с другими подходами, как, например, в случае с Фрезер и Гордон – одно из «сильнейших преимуществ» моей книги, но у него есть «неисследованные допущения <…> вредящие теоретической изобретательности и свободе действий» (Rubinstein 2003: 317, 321). Сравнение нужно, чтобы с разных точек зрения проверить задействованные допущения и прояснить, чем, к примеру, «аналитика управления» может отличаться от данной формы «критики идеологии». Это неизбежно влечет за собой установление пределов свободы действий в теоретическом плане, не претендуя на дисквалификацию альтернативных подходов.
[Закрыть]. Некоторые из них менее значительны: использование великой социологической схемы «индустриального общества» чревато гомогенизацией интуиций, провоцируемых эмпирическим материалом. Можно сказать, это противоположно этосу генеалогии – этосу, который навязывает генеалогу осторожный, подробный анализ и позволяет не скатываться к высокомерному утверждению центрального статуса настоящего. Более важно, однако, то, как эту схему совмещают с анализом, известным как «критика идеологии», происхождение которого, по крайней мере, частично связано с наследием Франкфуртской школы критической теории. Цель критики идеологии – разоблачить идеологическое содержание языка, чтобы раскрыть подлинные отношения подчинения. Следовательно, понятие зависимости понимается как идеологическое «ключевое слово», которое меняет свое значение под влиянием широких институциональных и социально-структурных перемен (Fraser, Gordon: 310–311). Другой подход, на который иногда намекают авторы, состоит в том, чтобы рассматривать понятие зависимости от социального обеспечения как компонент особой ментальности управления и его словаря – словаря, который обусловливает наши способы управлять собой и другими и, в свою очередь, обусловлен ими. Проще говоря, если критика идеологии рассматривает язык как конденсат производимых социальными структурами смыслов, то аналитика управления стремится понять, что язык делает возможным и что он делает, то есть как функционирует в «интеллектуальной технологии» (Miller, Rose 1990). Для этой критики идеологии задача анализа языка – разоблачить идеологическое содержание с тем, чтобы показать возможность альтернативных, освободительных истин. Для аналитики управления понятия вроде «зависимости» по-разному фигурируют в режимах практик, связанных с помощью и социальным обеспечением бедных в таких странах, как США. Они также вовлечены в проблематизацию и критику нынешнего и прежнего функционирования подобных режимов. Благодаря этим понятиям возможны альтернативные визуализация и репрезентация требующих внимания проблем, а также сообщение определенных целей преобразованию этих режимов. Как центральный элемент ментальности правления язык зависимости и связанных с ним понятий можно рассматривать в качестве проблематизации, репрезентации и программы преобразования.
Каковы последствия этих различающихся подходов к работе с такими терминами, как «зависимость»? В подходе Фрейзер и Гордон зависимость включает в себя набор значений, порождаемый конфигурациями или структурами разных типов общества. Такие термины идеологичны, так как в них воплощены и сжато выражены восприятия и ценности, производные от структур господства в этих обществах. Это довольно прямолинейная версия критики идеологии, так обожаемой критическими теоретиками и социологами знания. Основная проблема этого подхода в том, что язык в нем все же рассматривается как вторичный феномен, сформированный более фундаментальными силами и условиями. Поэтому он одновременно не может рассматриваться в качестве неотъемлемого компонента способов действия. Помимо этого невозможно и изучение того, как язык формирует предполагаемые проблемные области социальной и политической жизни, и того, как с ними можно работать. Это вовсе не значит, что язык и словарь власти следует наделить при анализе каузальной приоритетностью. Просто нужно помнить, что не следует недооценивать роль языка в конструировании миров, проблем и индивидов в качестве управляемых.
Основные термины словарей власти – такие, как зависимость – это не просто идеологические выражения смыслов социальных структур. Они – неотъемлемые компоненты управления, наших организованных систем воздействия на человеческое поведение и руководства им. С точки зрения аналитики управления понятия «зависимости» постижимы в первую очередь как части различных систем управления или режимов практик. Один из таких режимов затрагивает проблемы бедности, управления и работы с бедными. Так, в Британии начала XIX века понятие «независимый работник» – это, прежде всего, ключевой аспект мальтузианских программ, которые стремились реформировать Закон о бедных и управление благотворительностью так, чтобы неимущие трудоспособные мужчины и их «иждивенцы» (жены, дети) больше не были легитимными адресатами помощи и поддержки. Государственная помощь должна была оказываться таким классам только в «менее приемлемых»[74]74
Принятый в 1834 году «Акт о поправках и лучшей организации законов в отношении бедных в Англии и Уэльсе» (также известный как «новое законодательство о бедных») вводил принцип непривлекательности, или «меньшей приемлемости» работных домов. Согласно этому принципу условия в работном доме (где и оказывалась государственная помощь) должны были быть хуже (скудное обеспечение, разделение мужчин, женщин и детей, тяжелая рутинная работа), чем за его пределами, чтобы все, кто мог работать и обеспечивать себя, предпочитали обходиться без государственной помощи. – Примеч. пер.
[Закрыть] и устрашающих условиях работного дома. Здесь категории независимости и зависимости играли ключевую роль, обеспечивая критерий (согласно реформированному Закону о бедных 1834 года) отделения легитимных адресатов помощи от нелегитимных (Dean 1991). Хотя это лишь один эпизод из истории понятия зависимости, он наглядно показывает вписывание таких понятий в конкретные режимы практик помощи бедным. В сформировавшихся недавно понятиях «зависимости», ориентированных на такие группы, как одинокие родители или давно потерявшие работу, можно различить критику социальной помощи. Эта критика предвещает преобразования, которые противопоставят, говоря языком британских «новых лейбористов», «действенную помощь» «благотворительной раздаче». Чтобы прояснить термины вроде «зависимости», нам необходимо переключить внимание с изучения отношений между идеологией и социальной структурой на работу режимов практик в сфере благосостояния и социальной помощи. Благодаря этому мы сможем показать не просто то, каким образом понятия «зависимости» выражают социальные отношения, но и как они на самом деле позволяют работать практикам и программам преобразования. К таким практикам относятся те, что построили саму форму рынка промышленного труда XIX века, или те, что сегодня формируют «поствелфаристский» (см. главу 8) режим социального управления. Этот анализ также позволит понять причину долговечности таких понятий в государственной политике и трудность отказа от них. То, как мы размышляем об управлении и его преобразовании, как конструируем области управления, инструменты и средства, при помощи которых управляем – и потому все поле того, что можно назвать государственной политикой – все это вовсе не является вторичным отражением более фундаментальных отношений, скажем, рынка или семьи. Напротив, рациональности управления относятся к числу постоянных условий, которые помогают сформировать сферы, известных нам как рынок труда и пространство семейной жизни. Когда мы подвергаем сомнению или пытаемся изменить наш образ мышления об управлении той или иной сферой, мы ставим под сомнение саму ткань наших форм жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































