Текст книги "Деревня дураков (сборник)"
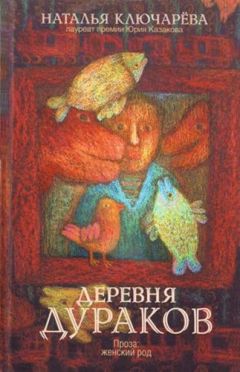
Автор книги: Наталья Ключарева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Богатырь и детские колокольчики
Отец Борис похож на богатыря. Говоришь про него, и у слов сами собой вырастают сказочные увеличительные суффиксы. У отца Бориса не руки, а ручищи, на ногах – огромные сапожищи, а уж голосище такой силищи, что непуганые уральские вороны подскакивают на крыше конюшни.
В конюшне, куда отец Борис ведет меня первым делом, стоит могучая лошадища, ему под стать: коренастая, плечистая – и при этом удивительно кроткая. Рядом с ней нервно стрижет ушами серый ослик, который прилетел сюда из самого Грозного: прибился на аэродроме к местному ОМОНу, возвращавшемуся из командировки.
Соседние стойла пустуют. Хотя коней здесь, по выражению отца Бориса, «никак не меньше, чем в Золотой Орде». Просто на остальных укатили в пустые поля «разбойники» – так ласково величает он воспитанников монастырского приюта для трудных подростков.
Отец Борис – духовник Свято-Лазаревской женской обители, что в десяти километрах от райцентра Верещагино Пермского края. Вокруг – лишь непролазный ельник, бескрайние нежилые просторы, покрытые жухлой травой, как свалявшейся шерстью, да редкие староверские деревеньки в несколько хмурых изб.
Уральский пейзаж вообще не жалует человека. Но если люди сюда все-таки приходят, принимает их и вдохновляет на дела, в других местах, пожалуй, невозможные.
Свято-Лазаревский монастырь отец Борис построил сам, своими руками. Просто приехал на пустое место, закатал рукава, взял топор и начал рубить деревянную церковь. Через месяц рядом с храмом появился жилой дом, в котором поселились духовные дочери отца Бориса – старушки-монахини.
А потом пришла пора спасать окрестных ребятишек – токсикоманов, беспризорных, сирот при живых родителях, – так что монастырскую ограду отец Борис достроить уже не успел. Так и стоит обитель, открытая всем Уральским ветрам, которые того и гляди грозят выдуть и унести под серое небо невесомых божьих старушек.
Зато в заброшенных складах неподалеку отец Борис обустроил конюшни. Так как трудных подростков он решил возвращать в жизнь не постом и молитвой, а джигитовкой и вольтижировкой. Вскоре сюда повезли детей не только со всех уголков Пермского края, но и из соседних областей.
– Только не спрашивайте, сколько здесь ребятишек! – хохочет отец Борис, и его смех перекатывается под крышей конюшни, как весенний гром. – Тут целая китайская народная республика, я уже давно со счету сбился. Знаю, что пятерых сам заделал, пятерых усыновил, а дальше – уже затрудняюсь. А если серьезно, то по уставу монастыря в приюте должно быть тридцать воспитанников. Но скажу по секрету, у нас уже пятьдесят. Если приходят, не выгонять же!
По взрытой копытами земле мы идем на выгон. Отец Борис, подобрав подол рясы, ступает впереди, и в его великанские следы тут же натекает осенняя слякоть, образуя небольшие озерца. На выгоне трое пацанов в камуфляже возятся с лошадьми.
– Вон тот, глазастый, – токсикоман. Из Перми мамка притащила месяц назад. Теперь вместо клея навоз нюхает. Для здоровья оно полезнее, – поясняет отец Борис и, махнув ручищей, гаркает так, что кони шарахаются в сторону. – Погнали, ребята!
Мальчишки ловко вскарабкиваются на тяжеловесов, которые по контрасту с маленькими наездниками кажутся особенно внушительными. И пускаются вскачь, на каждом круге обдавая нас с отцом Борисом комьями грязи из-под копыт.
Соскочив с коней, монастырские джигиты начинают вдохновенно крутить над головой острые шашки и тяжелые нагайки. Отец Борис выглядит очень довольным. Особенно когда чудеса вольтижировки показывает десятилетний Гоша.
– Мой отпрыск, – с шутливой гордостью сообщает батюшка. – Заметил я, что он за мамкину юбку стал держаться, вот и сослал сюда на поселение. Пусть растет мужиком. Князей ведь как воспитывали: до девяти лет дома, с мамками да няньками, а после – в седло, в поход, в потешный полк.
Есть в приюте и девочки. Живут в большой избе вместе со старушками-монахинями. Старшей – Ксюше – тринадцать лет. Родилась она в Якутии. Из всех воспитанниц Ксюша – самая разговорчивая. Пока другие дичатся и жмутся друг к другу, разглядывая меня исподтишка, она буднично рассказывает, как отправилась из дома в Москву за тысячи километров – учиться на медсестру, чтобы вылечить сильно пьющую маму и «всех несчастных людей».
Ехала на электричках – а как еще, если нет денег. Сердобольные пенсионерки подкармливали в пути. Добиралась два месяца. Бегала от милиции, ночевала в товарных вагонах.
В Москве, в Свято-Дмитриевском училище для медсестер, куда Ксюша все-таки доехала, на девочку глянули – истощение, бронхит, чесотка, ужаснулись и отправили сперва к отцу Борису – «укрепиться телом».
Истории остальных воспитанниц рассказывает уже он сам, когда мы, оставив девочек делать уроки, уходим от избы подальше, прямиком в голое поле, откуда нас никто не услышит.
Например, про двух сестер – девяти и одиннадцати лет, – которые, когда очутились в приюте, как Маугли, не имели представления о нижнем белье. Или о мальчишке, что за первым же монастырским ужином умудрился съесть десять огромных пирогов, которых даже сам отец Борис с его богатырским аппетитом может осилить максимум четыре штуки. И как мальчика уговаривали остановиться, а он не верил, что и завтра на столе будет еда.
– Одну привезли совсем крохотную. Организм не принимал никакой пищи: не привык. Врачи от нее отказались – и к нам. А она плачет круглые сутки. И дуры мои с ней хором. Велел я им отставить рев и за дитя бороться. Купили козу, кое-как молоком отпоили. Потом выяснилось, что она еще и зеленые яблоки есть может. Тем и кормили. А подросла – начались другие муки: почему всем конфетку, а мне нет? Тогда мои умницы придумали: натрут яблоко на терке, завернут в фантик – и ей. Она и рада: у нее тоже конфета.
Когда мы возвращаемся в открытую всем ветрам обитель, отец Борис неожиданно умолкает и подносит палец к губам. Секунду мы стоим в тишине, и вдруг откуда-то сверху доносится еле слышный мелодичный звон. Отец Борис кивает на березу. На нижних ветвях – вздрагивают маленькие колокольчики.
– Дети повесили, – шепчет он, пытаясь усмирить свой трубный бас. – Мне бы никогда не пришло в голову. А в детях он еще жив. Этот чистый звук. Его и надо слушать. Остальное – не важно.
Здесь моя память делает стоп-кадр. И хотя мы еще о чем-то говорим, даже – куда без них! – о судьбах страны и народа, и едим монастырский борщ, и долго прощаемся у несуществующей ограды, но в памяти остается именно этот миг: огромный богатырь, которому впору ворочать горы, замер, вслушиваясь в прерывистый голос детских колокольчиков.
В провинции у моря
Старая Русса стоит на море. На невидимом подземном море Девонского периода. Море выплескивается на поверхность целебными солеными озерами и бьет из-под земли десятиметровым фонтаном посреди курорта.
Море, даже подземное, своими неявными колебаниями, подспудными приливами и отливами создает в человеке какой-то иной ток крови, дарит чувство, точнее, неотъемлемое свойство, называемое свободой.
Эта свобода рождается из доверия волнам, умения вверять себя их воле, не пытаясь навязать свою. Она приходит как награда за подвиг трезвой оценки человеческого масштаба на фоне космических явлений и сил, на фоне моря и неба.
Обитатели сухопутных равнин идут к этой свободе трудными тропами внутренних путешествий. Уроженцам морских и океанских берегов она дается даром. Как ежедневный опыт контакта с чем-то, неизмеримо превосходящим нас.
Всех этих людей – и родившихся у моря, и воспитавших морскую свободу в себе – объединяет одно: благодарное внимание к случайностям, мимо которых обычный самоуверенный житель Земли проносится без оглядки, одержимый собственным планом устроительства жизни и судьбы.
Художник Николай Локотьков, родившийся в деревне под Курском, попал в Старую Руссу случайно. Просто светлой летней ночью сошел с поезда, прогулялся по спящему городку, остановился на мосту со сказочным названием Живой, загляделся на отражение ив в тихой речке Полисти и вдруг понял: «Остаюсь».
Потом выяснилась неслучайность этого случайного решения: Михаил Локотьков, отец Николая, был тяжело ранен в боях за Старую Руссу, которую целых три года пытались отвоевать у фашистов.
То ли окликнула художника земля, политая родной кровью, то ли подземное море позвало родственным волнением, но Николай Локотьков в Старой Руссе прижился. Тому лет тридцать назад. И это была, разумеется, не последняя случайность.
Зимой Старая Русса выглядит довольно уныло. Впрочем, я не знаю ни одного города, которому это время года было бы к лицу. Грязная каша под ногами, обнаженное убожество одинаковых жилищ, землистые лица прохожих, однотонная униформа одежд.
На подходе к мастерской Локотькова, расположенной в типовой пятиэтажке, монохромность сероватого пейзажа дает трещину: подъезд караулят два ленивых рыжих кота. Третий, той же масти, нарисован на двери в мастерскую. А за дверью в изголодавшийся глаз обрушивается совершенно другой – радостный и радужный – мир.
Художник Локотьков гораздо больше дружит с детьми, чем со взрослыми. Устав отвоевывать прекрасную спонтанность этой дружбы у скучных завучей, боготворящих учебный план, Локотьков в свое время ушел из государственной художественной школы, где пытался работать, и стал заниматься с детьми в собственной мастерской.
Детскую студию Локотьков назвал «Введенская сторона». Так до революции именовалась часть города, где находится мастерская, теперь обозначаемая на картах неприятным словосочетанием «микрорайон Химмаш».
– Я выбрал жить в провинции у моря, – говорит Локотьков, пока я любуюсь витражными бабочками, заслоняющими заоконный Химмаш. – Считается, что в провинции жить нельзя. Всё умеющее бегать бежит отсюда в столицу. А ведь неважно, где ты, важно – что у тебя внутри. Поэтому я остался. Решил довериться внутреннему морю.
Если внутри – море, можно жить где угодно, в любом темном (или сером) царстве, но по своим законам. Жить на Введенской стороне, а не в микрорайоне Химмаш. Работать с детьми не в казенной «художке», а в собственной мастерской, похожей на самоцветный фонарь, засвеченный над сумерками уездной Руссы, которую живавший здесь Достоевский наградил обидным прозвищем Скотопригоньевск.
Мастерская Локотькова производит впечатление мира, созданного специально для детей, по крайней мере – удивительно к ним расположенного. Детям здесь хорошо. Хорошо и взахлеб интересно. Лазить по деревянным лестницам, ведущим на антресоли, тарабанить марш на старинной печатной машинке, звенеть в глиняные колокольчики, свисающие с потолка.
Что ни шаг – то открытие. Вот под столом – гипсовый нос величиной с голову ребенка. Вот в тарелке – расписанные яркими красками морские камушки или самодельные керамические пуговицы причудливых форм. Вот пузатая свеча, на которой тоже что-то нарисовано. А вот еще тарелка – на этот раз с печеньем! – Локотьков всегда расставляет гостинцы в самых неожиданных уголках мастерской, зная, что они рано или поздно будут обнаружены.
К Локотькову дети проявляют высшую детскую милость: они с ним играют. При мне две девочки, обе Саши, прячутся от него на антресолях, заваленных этюдами.
В соседней комнате Локотьков беседует о динозаврах с маленькими гостями, сидящими на разрисованных табуретках.
– Они жили давно, – авторитетно рассуждает мальчишеский голос. – Людей тогда еще не было.
– Только Адам и Ева! – вставляет кто-то.
– Только вулканы! – спорит мальчишка.
– А что это? – осторожно спрашивает Локотьков.
– Это злобные горы.
Вот в такой обстановке, под такие примерно разговоры художник Локотьков уже десять лет издает единственный в стране журнал об искусстве для школьников. Называется он тоже «Введенская сторона». Подписываются на него в сорока регионах России, в Европе, Америке и даже Австралии.
Журнал, выходящий в провинциальном городке, непонятно на какие деньги и усилиями одного-единственного человека (непрофессионала в издательском деле), сделан, тем не менее, на таком уровне, что в России его даже не с чем сравнить.
Разве только (по высокому стилю оформления) с журналом «Наше наследие», основанным Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и его Фондом культуры. А вот по содержанию у «Введенской стороны» аналогов нет.
Журнал создает пространство особого взаимодействия с классикой – не подражательного или панибратского, а уважительного и свободного. Устанавливает между маленьким художником и миром большого искусства отношения плодотворного ученичества: доверительные и равноправные.
Локотьков не боится поставить рядом, например, натюрморт Петрова-Водкина и букет, нарисованный девятилетней девочкой из рыбацкого поселка на острове Сахалин. И происходит чудо: взрослое не подавляет детского, но бережно и деликатно ведет за собой, незаметно подсказывая возможное направление роста.
«Введенская сторона» появилась на свет благодаря целой цепи случайностей. Выпустив первый номер журнала, Локотьков твердо решил, что больше этим утомительным и трудным делом заниматься не будет.
Но так получилось – случайно, случайно! – что кто-то отнес первый и, как думалось, последний номер «Введенской стороны» на другой берег речки Полисти, в музей Достоевского. А туда вдруг приехала литературовед Людмила Сараскина, тогда еще не написавшая свою знаменитую книгу о Солженицыне. Полистав журнал, она увезла его с собой в Москву, где показала Александру Исаевичу. А тот возьми да и отправь в Старую Руссу коротенький рассказ «Колокол Углича». С автографом и с просьбой опубликовать в следующем номере «Введенской стороны».
Николай Локотьков, человек чуткий к случайностям, понял эту недвусмысленную подсказку судьбы, и издание журнала продолжилось.
Постоянного финансирования у «Введенской стороны» нет. Несмотря на это, в издании ежеквартального журнала за все десять лет не возникло ни одного перебоя. В последний момент деньги всегда откуда-то приходили.
Главное – не волноваться. Море само вынесет тебя куда надо.
Сейчас «Введенская сторона» в очередной раз села на мель: три из четырех грантов, поддерживавших издание в прошлом году, в этом – отказали. А Локотьков тем временем собирает материалы для следующего номера, зная, что движение обязательно продолжится. Неведомо как.
Море, если впустить его в себя, размывает любой жизненный сценарий, любое заведомое знание, готовый ответ. И взамен этого награждает человека редким даром вслушиваться и откликаться. И не навязывать себя.
В мастерской Локотькова разрушился один мой личный стереотип. Художник показывал свои археологические находки (заниматься этим он начал, конечно, тоже случайно: копая огород).
И между делом рассказал о том, как однажды вскрывал эсесовский блиндаж под Новгородом. В блиндаже Локотьков нашел бумажник, в котором не было ничего, кроме двух билетов в театр с оторванным контролем.
Бесплатный концерт
Лето в провинциальном городе. На раскаленных улицах – пусто. Пыльные листья не шелохнутся, будто и время остановилось. Только иногда выплывет из вечности трамвай, громыхнет на повороте, и опять – ничего, никого.
В какой-то момент на тротуарах вдруг зарождается неуловимое движение. Вытягивается вдоль бордюров поземка тополиного пуха и голубиного пера. Взвиваются обертки от мороженого, а навстречу падают, кружась, кленовые вертолеты. В открытых окнах всплескивают занавески. Оживает на бельевой веревке рубаха и всё машет кому-то отцепившимся пустым рукавом.
Поднявшийся ветер выдувает на улицы маленьких нарядных старушек. С разных концов города, придерживая одной рукой соломенные шляпки, другой – подолы ситцевых платьев, начинают они свой неспешный путь.
Их траектории сходятся в центре, в сквере оперного театра, где засиженный птицами Ильич вглядывается в столетние липы, словно заблудившийся путник – в метель.
Вскоре все лавочки в тени уже заняты. Покачиваются над неудобными гнутыми спинками шляпы, поворачиваются, как подсолнухи, вслед за редким прохожим.
То и дело слышится:
– Здравствуйте, Вениамин Григорьевич!
– Мое почтение, Алла Леопольдовна!
– Инночка! А Валя придет? Как умерла?
Два дюжих парня устанавливают на ступеньках театра черные кубы колонок. Молнией вспыхивает микрофон. В мареве горячего воздуха возникает мираж – струится и переливается блестками оперное платье.
– Мы начинаем наш традиционный бесплатный концерт, – торжественно возглашает призрак.
Сухим прибоем шелестят в тени аллей аплодисменты.
– Для вас играет городской духовой оркестр! Встречайте!
Шорох под липами нарастает.
Отдуваясь, вытирая салфетками лбы, лениво вышагивают музыканты. Солнце отражается в трубах и валторнах, сыпет слепящие блики.
Начинается музыка.
Рядом с оркестром появляется местная дурочка. Пожилая и полная, она крутит бедрами, искоса поглядывая на музыкантов, будто спрашивает: «Ну, как я вам?»
Те опустили глаза в ноты, только щеки подрагивают в такт.
И все-таки на кого-то ее танец произвел впечатление. Спотыкаясь, приближается по пояс голый молодой бомж. Кирпичное лицо перекошено галантной улыбкой, колышется белый живот. Он спал под липами, пробудился от джаза, увидел бедра и пошел на зов.
На расплавленном пятачке перед театром только эти двое. Фокстрот. Дурочка неловко выворачивается из объятий незваного кавалера. Даже в ее мире, искаженном жаждой любви, он не имеет никаких шансов.
Беззубый рот до ушей. Руки пытаются сцапать партнершу. Негнущиеся ноги выкидывают коленца. Для него ее увертки – еще танец, догонялки, девчоночья игра. В эти несколько секунд он по-настоящему, по-человечески счастлив.
Потом, злобно сплюнув, он уходит обратно под дерево, где спал, растягивается на чахлой траве.
На лысину Ленина садится большая чайка, прилетевшая с близкой реки.
Скоро оркестр заиграет «Подмосковные вечера», тогда старушки вспорхнут со скамеек, оправят цветастые платья, подадут друг другу руки и закружатся в невесомом вальсе, как сдуваемый ветром тополиный пух.
Половодье в поволжье
Залиты леса половодьем. Березы стали вдвое выше, в талом небе висят. Березовое озеро. По-марийски – «Хохлома».
Посреди воды – высокая дорожка не затоплена. Катит велосипедист по узкому перешейку. Всё вокруг – небо. Это почти полет. Только вместо крыльев – два колеса. А за спиной – хвостом – брызги.
Бабка с ведром оперлась на заборчик. Вместо огорода – квадрат весенних небес. Зачем ей ведро? Хочет вычерпать небо? Махнула рукой, идет по облакам, девичьим жестом подол подбирает. Скрипит ведро.
Утки вернулись.
– Ишь, – задрала голову, – летит птичий грипп, сопли до земли развесил…
Половодье.
Небо разливанное.
По колено в березовом озере.
Скрипит ведро.
Подводный уезд
Молога – морока – обморок – опрокинутый в омут город – обитель рыбы и мутной воды. Когда-то здесь утопили целый уезд. Разобрали по бревнышку избы, и сплавили вниз по Волге. Люди отправились следом, лишь старухи остались. Доживали по колено в воде, потом по пояс: затопление совершалось постепенно.
Мологжане – самые безродные люди на свете. Им некуда возвращаться навсегда. Остается только смотреть в гнилую мглу водохранилища. Вот они и живут по берегам «моря», как привязанные.
Большинство поселилось в Рыбьей слободке, нынешнем Рыбинске. Лежит Рыба-Рыбинск на берегу рукотворного моря кверху брюхом, стынет глазами в разные стороны, разинув рот. Вокруг нее – коряги и малые коряжки: обмылки Мологского уезда – уплыва – утопа.
«Утопленников», как прозвали беженцев из подводного царства, в Слободке не любят. Хотя те и стараются жить незаметно, на самых последних окраинах, где безымянные криворотые улочки переходят в пыльные огороды.
Плотину, перекрывшую горло великой реки, строили арестанты Волголага. Картофельные поля под Рыбинском до сих пор межуют человеческими черепами. Один полоумный старик, сидевший здесь за анекдот, часто приходит с бутылкой на эти могильные грядки и выкрикивает матерные частушки про ЧК, задыхаясь от старости, одиночества и ветра.
А в бедной береговой церкви служит блаженный поп, родившийся в затопленной Мологе сто лет назад. В мордовских лагерях его, босого, привязали к дереву, и снег под ним (в крещенские морозы) растаял за ночь до земли. С тех пор он в любую погоду ходит без сапог. И когда его спрашивают, можно ли в пост яйца или молоко, смеется: «Ешьте, робяты, всё ешьте, токо людей не ешьте!»
Рыбинское водохранилище мелеет. Если в безветренную погоду подплыть к тому месту, где раньше была Молога, то сквозь мутную воду проступают очертания улиц, каменные фундаменты, мостовые и даже фонарные столбы. А в засушливые годы белая колокольня мологской обители поднимается над морем, оглядывая творение рук человеческих зияющим черным взглядом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































