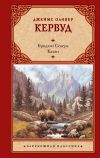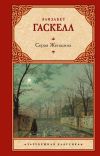Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Я не случайно сделал этот краткий экскурс.
Какие же имел Алексей Толстой пристрастия, которые сильно били по чувствам жены и нарушали ее спокойствие?
К выпивкам он был совершенно равнодушен. Так, разве что для поддержания компании. А вот женщины! Тут вопрос особый.
Некоторое время это не бросалось особенно в глаза, потому что все подавляло невероятно быстро развивавшееся творчество.
Наталья Васильевна или не знала о его увлечениях прекрасным полом, или просто не хотела знать. В эмиграции было не до того – лишь бы просуществовать. Но по возвращении в Россию Толстой быстро встал на ноги. Его гонорары были весьма и весьма солидны, потому что публиковали его много.
Федор Крандиевский, сын Натальи Васильевны от первого мужа, вспоминал:
«Чтобы представить себе уровень жизни нашей семьи, достаточно указать следующие факты. В доме держались две прислуги: полная немолодая кухарка Паша и Лена – молоденькая веснушчатая деревенская девушка, в обязанности которой вменялось следить за чистотой в доме и, кроме того, в зимние дни топить печи. Кроме них, в доме было два шофера, Костя и Володя, и три автомобиля, стоявших в гараже. В доме было 10 комнат (5 наверху и 5 внизу)… Как не похож был наш дом на детскосельские захламленные коммунальные квартиры!»
Толстой любил достаток, он хотел жить хорошо, с размахом и добился этого, и все-таки главным оставалось творчество. Чуковский отмечал: «Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц – и лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет».
Он ставил перед собой задачи, которые соответствовали его мыслям о современной литературе, цели которой он определил следующими словами:
«Сознание грандиозности – вот что должно быть в каждом творческом человеке. Художник должен понять не только Ивана или Сидора, но из миллионов Иванов или Сидоров породить общего человека – тип. Шекспир, Лев Толстой, Гоголь создавали не только типы человека, но типы эпох… над страной пронесся ураган революции. Хватили до самого неба. Раскидали угли по миру. Были героические дела. Были трагические акты. Где романисты, собравшие в великие эпопеи миллионы воль, страстей и деяний?»
Впрочем, писатели вообще жили совсем неплохо. Роскошествовал и Максим Горький, хотя для него это не было главным.

В. Ф. Ходасевич
Владислав Ходасевич писал по поводу Алексея Максимовича:
«Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними».
«Щелчок по лбу» и смертельный треугольник
Толстой был более искренен и самоотвержен в своей работе. Он горел на ней и едва не сгорел слишком рано, когда ему едва перевалило за пятьдесят.
В ночь на 27 декабря 1934 года ударил первый приступ инфаркта миокарда. Он не слишком обеспокоился этим, и приступ повторился 29 декабря.
Одним из первых его навестил Горький. Пожурил за небрежение к здоровью.
– Что, получили щелчок по лбу? Надо помнить. Что уже не тридцать лет. Когда за плечами полтинник, нельзя работать, как четыре лошади или семь верблюдов. И с винцом поосторожнее. Вам еще нужно написать томов двадцать пять, в год по одному тому.
Сказал и о женщинах, что, может быть, и не слишком было приятно, но… вразумительно.
– И все формы духовного общения с чужеродными женщинами нужно ограничить общением с единой и собственной женой – общением, кое установлено и освящено канонами православной церкви… Вообще, дорогой и любимый мною сердечный друг, очень советую, отдохните недельки три или хотя бы годок от наслаждений жизнью, особенно же от коллективных наслаждений, сопровождаемых винопитием и пожиранием поросят…
Это был 1934 год… Но относительно женщин слова Горького нисколько не вразумили. Впереди еще был крутой поворот в жизни и судьбе.
А пока уход за больным лег на плечи верной и преданной Натальи Васильевны, которую он, конечно же, ценил, которую, конечно же, любил, но, вероятнее всего, привык к ее присутствию, как Иван Алексеевич Бунин к тому, что постоянно рядом Вера Николаевна. Тут стоит вспомнить слова Бунина: «Любить Веру?! Как это?! Это то же самое, что любить свою руку или ногу…»
Толстой не сдавался. Он ухитрился приспособиться и к лежачему своему положению. Едва стало полегче, приступил к работе. Он занялся сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
И вот тут, едва отпустила болезнь, произошло невероятное. Внезапно сложился любовный треугольник. Да какой! Алексей Толстой без памяти, как когда-то в балерину Маргариту Кандаурову, влюбился в невестку Максима Горького Надежду Алексеевну Пешкову, красавицу, которая разбила сердце всесильному кровавому Ягоде.

Н. А. Пешкова
А тут еще умер муж Надежды Алексеевны, и она, как показалось обоим претендентам, стала открытой для самых дерзостных и мятежных притязаний. Но если Ягода мог желать только одного – соблазнить очередную красавицу да и забыть, то Алексей Толстой был иным по характеру и привычкам. От него можно было ожидать всего чего угодно – вплоть до разрыва с женой и предложения руки и сердца, тем более он даже при живых мужьях добивался своего, а тут и подавно.
Алексей Толстой познакомился с Надеждой Пешковой еще два года назад, в Сорренто. Отношения были самыми добрыми и безобидными. Гуляли «по узким ступенчатым улицам», говорили, говорили, говорили. Знакомство продолжилось в Москве. Встречи особенно не афишировали, но их иногда видели вместе на различных мероприятиях. Так, они приезжали смотреть самолет-гигант «Максим Горький».
Общаться общались, но сведений о том, что Толстой пользовался взаимностью, не сохранилось. Вряд ли мог быть по душе Надежде Пешковой и кровавый Ягода.
Если бы не колоссальный авторитет Толстого, если бы не его личное знакомство со Сталиным, трудно сказать, как бы разрешилась ситуация и к чему бы привел столь страшный треугольник. На пути Ягоды, когда он был еще всесильным, становиться смертельно опасно. Тут уж припишут что надо, и сделают шпионом любой враждебной страны. Ездил же в 1916 году в Англию – вот тебе и английский шпион. Да и просто можно было исчезнуть. Вон Кирова отважились убрать. А что такое писатель, пусть и не какой-то…
Как же все разрулилось?
Жизнь Надежды Пешковой, в девичестве Введенской, с самой юности проходила весьма бурно. Опасаясь, что необыкновенная ее красота, привлекающая с гимназических лет тучу поклонников, до добра не доведет, отец рано выдал ее замуж за некоего Синичкина, обычного ординатора. Отец, Алексей Андреевич Введенский, был известным в ту пору хирургом-урологом, действительным статским советником. Он имел приличный дом на Патриарших прудах, где и открыл урологический кабинет, а в Первую мировую даже создал небольшой госпиталь примерно на сто коек. Вот и назначил в мужья дочери своего ординатора. Да только назначил неудачно.
Любви к мужу Надежда не питала, а вот случайно встретив на катке, на Патриарших прудах, сына Алексея Максимовича Горького – Максима Пешкова, влюбилась в него. Все закончилось уходом от мужа и новым союзом, пока неофициальным. Максим Пешков не устоял перед красотой, но брак оформили они не сразу, а лишь в Берлине в 1922 году, по пути в Италию.
Дело в том, что, когда началось в стране, говоря словами Алексея Толстого, хождение по мукам, Горький уехал в Италию и в 1922 году вызвал к себе сына с невесткой.
В эмиграции у молодоженов родились две дочери – Марфа и Дарья. Именно в Сорренто Надежду прозвали Тимошей. Прозвал будто бы ее так сам Горький. Когда Надежда сделала прическу на европейский лад и отрезала свои прекрасные длинные волосы, Алексей Максимович фыркнул и заявил:
– Ну вот теперь прическа как у кучера Тимофея.
В Италии Надежда каталась как сыр в масле и постоянно была в окружении поклонников. К сердцу ее пытались пробиться и художники, удравшие из России после революции. Ну и приобщили к живописи, особенно портретной.
Ну а потом Горький, откликнувшись на приглашение советского правительства, вернулся в Россию вместе со всей своей семьей. И снова у Надежды наступила легкая жизнь. Гонорары Горького были баснословны.
О Горьком советская власть проявила необыкновенную заботу, да и понятно – пролетарский писатель. Великолепный особняк Рябушинского отдали в его личную собственность, а кроме того, выделили дачу в Горках и виллу в Крыму.
Семья была уже большой – сам писатель, его сожительница Мария Будберг, жена Екатерина Пешкова, ну и сын с невесткой и двумя дочками. Кроме того, там поселился литературный секретарь Крючков, ну и всевозможная многочисленная прислуга. Места в доме хватало на всех.
У Максима с Надеждой был собственный автомобиль, подарок Сталина, да вот только семья держалась на волоске: мужа окружали любовницы, жену – многочисленные поклонники, среди которых и оказались Алексей Толстой и Генрих Ягода.
В 1934 году Максим Пешков умер. И лишь позднее, когда Ягода был арестован, вскрылась правда. Убрали мужа Надежды именно его люди. Так он пробивал дорогу к красавице. Вряд ли он надеялся пробиться к сердцу, его устраивал и прорыв к ее телу. Но сложность была в том, что она была невесткой самого Горького, а тот был под защитой Сталина.
После своего падения и ареста Ягода признал, что именно он отдал приказ погубить Максима Пешкова, чтобы потом жениться на Надежде Пешковой.

Г. Г. Ягода
Существует несколько версий устранения мужа красавицы. По одной из них, Ягода и секретарь Горького Крючков регулярно напаивали Максима и однажды, это было ранней весной, бросили вдребезги пьяного на берегу. Он сильно простудился, а дальше странное, как впоследствии отмечали близкие, лечение. Недаром врачи в конце концов были наказаны и за самого Горького, и, видимо, отчасти, за его сына.
Вместе с Ягодой были осуждены и два врача, которые лечили Горького, умершего в 1936 году. Все признались в своих злодеяниях, в том, что «путем заведомо неправильного лечения умертвили великого писателя».
По поводу Максима Пешкова Ягода сразу заявил, что его устранение, им организованное, носило личный характер, ну а по поводу Горького обвиняемые признались:
«При серьезной постановке вопроса о свержении сталинского руководства и захвате власти право-троцкистами центр не мог не учитывать исключительного влияния Горького в стране, его авторитет за границей. Если Горький будет жить, то он поднимет свой голос протеста против нас. Мы не можем этого допустить».
Но это было позже. А в 1934 году скрестились интересы Ягоды и Алексея Толстого.
С другими поклонниками легче. Ягода безжалостно уничтожал их самыми различными способами.
Ягода вел себя дерзко и настойчиво.
Жена Алексея Толстого, Наталья Крандиевская, вспоминала о поведении Ягоды: «По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставляя машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: “Вы меня еще не знаете, я все могу”».
Но старания Ягоды оказались напрасными. Она, оставшись вдовой, была холодна к нему. Конечно, теперь мог быть препятствием сам Горький. Но вот и его ушли в мир иной, правда, уже по иным причинам.
Но вдруг на пути у Ягоды встал Алексей Толстой. Он ухаживал за Надеждой и прежде, их часто видели вместе на разных выставках. Но вряд ли она отвечала взаимностью, скорее просто не противилась знакомству с писателем, ставшим к тому времени знаменитым.
После смерти Горького, который, как помним, укорял Толстого в необузданном «духовном» интересе к посторонним женщинам, Алексей Николаевич ринулся в атаку на Тимошу.
Но тут вмешался Ягода. Сын Алексея Толстого, Никита Алексеевич, рассказал в своих воспоминаниях:
«Отец был в дружеских отношениях с многими руководящими деятелями Советского Государства, в том числе с председателем ОГПУ Генрихом Григорьевичем Ягодой. Который по-товарищески, без церемоний, по-свойски, пригласил Алексея Николаевича в гости. Сели обедать. Отец по обыкновению что-то рассказывал. И вдруг ему – очень здоровому и крепкому человеку – стало худо. Настолько плохо, что он повалился на пол и потерял сознание. А когда очнулся, увидел глаза Ягоды, пытливо вглядывающиеся в лицо. Главный чекист Советской Страны смотрел, как действует яд. Который не совсем убивал, а только на время лишал сознания. Такая вот шутка на человеке. Какие в Советском Союзе устраивались каждый день тысячами. Необычным в шутке Ягоды было лишь то, что пошутить председатель ОГПУ решил в домашних условиях. Не в застенке, а у себя дома. И именно на писателе. Яды-то, которые они там у себя разрабатывали, секретными были. И даже сам факт разработки был засекречен. Так засекречен, что секретнее не бывает».
Никита Алексеевич не сказал, в чем смысл шутки. Но тут и невооруженным глазом видно. Ягода пошутил зло, и Толстой понял, к чему приведут его дальнейшие ухаживания за Надеждой Пешковой.
Что же было делать? Возвращаться к жене? Но он ее во время этих ухаживаний жестоко обидел, перепосвятив посвященное ей произведение…
Наталья Васильевна ответила стихами:
Разве так уж это важно,
Что по воле чьих-то сил
Ты на книге так отважно
Посвященье изменил?
Тщетны все предохраненья, —
В этой книге я жива,
Узнаю мои волненья,
Узнаю мои слова.
А тщеславья погремушки,
Что ж, бери себе назад!
Так «Отдай мои игрушки», —
Дети в ссоре говорят.
Сами Алексей Николаевич и Наталья Васильевна пытались объяснить, что привело к постепенному отходу друг от друга. Вернее, отходил от жены Толстой, а не она от него.
Еще до романа с Тимошей, если можно назвать романом одностороннее влечение, Толстой заявлял в письме к Наталье Васильевне:
«Что нас разъединяет? То, что мы проводим жизнь в разных мирах, ты – в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я в фантазии, которая меня опустошает.
Когда я прихожу в столовую и в твою комнату, – я сваливаюсь из совсем другого мира. Часто бывает ощущение, что я прихожу в гости…
Когда ты входишь в столовую, где бабушка раскладывает пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян – боязнь скуки».
Справедливо ли? Вспомним историю с миногами, вспомним, как Наталья Васильевна носилась по городу, выполняя различные поручения, спеша сделать все в срок, чтобы вечером принять гостей.
Она не приняла его упрек и записала в дневнике:
«Пути наши так давно слиты воедино, почему же все чаще мне кажется, что они только параллельны?
Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно всякое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину.
Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: “Тишины боюсь. Тишина – как смерть”».
Как склеить то, что раскололось? Иногда это невозможно. Наталья Васильевна, видя, что происходит с мужем, признавалась:
«Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же все остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маньяков громадим столько лет? Неужели все рухнуло, все строилось на песке?
Я спрашивала в тоске: – Скажи, куда же все девалось?
Он отвечал устало и цинично: – А черт его знает, куда все девается. Почем я знаю?
Мне хотелось ехать с ним за границу, на писательский съезд. Он согласился с безнадежным равнодушием – поезжай, если хочешь. Разве можно было воспользоваться таким согласием? Я отказалась.
Он не настаивал, уехал один, вслед за Пешковой.
Это было наше последнее лето, и мы проводили его врозь. Конечно, дело осложняла моя гордость, романтическая дурь, пронесенная через всю жизнь, себе во вред. Я все еще продолжала сочинять любовную повесть о муже своем.
Я писала ему стихи. Я была как лейденская банка, заряженная грозами. Со мною было неуютно и неблагополучно».
А он, после того как на ухаживаниях за Пешковой пришлось поставить крест, окунался в работу, заявив:
«У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни».
И тогда Наталья Васильевна сделала над собой усилие и, забрав детей, ушла от Алексея Николаевича, хотя чувство любви к нему сохранила на всю оставшуюся жизнь.
В год своего ухода она написала:
А я опять пишу о том,
О чем не говорят стихами,
О самом тайном и простом,
О том, чего боимся сами.
Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи.
Они – как сброшенный покров
Они – как родинка на коже.
Но кто-то губы освежит
Моей неутоленной жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой.
А в дневнике отметила:
«Было счастье, была работа, были книги, были дети. Многое что было. Но физиологический закон этой двадцатилетней связи разрешился просто. Он пил меня до тех пор, пока не почувствовал дно. Инстинкт питания отшвырнул его в сторону. Того же, что сохранилось на дне, как драгоценный осадок жизни, было, очевидно, недостаточно, чтобы удержать его.
<…> Наш последний 1935-й год застал Толстого физически ослабленным после болезни, переутомленным работой. Была закончена вторая часть “Петра” и детская повесть “Золотой ключик”.
Убыль его чувств ко мне шла параллельно с нарастанием тайной и неразделенной влюбленности в Н. А. Пешкову. Духовное влияние, “тирания” моих вкусов и убеждений, все, к чему я привыкла за двадцать лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Я замечала это с тревогой. Едва я критиковала только написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов:
– Тебе не нравится? А в Москве нравится. А 60-ти миллионам читателей нравится.
Если я пыталась, как прежде, предупредить и направить его поступки, оказать давление в ту или другую сторону, – я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот. Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне не все нравилось в Горках.
– Интеллигентщина! Непонимание новых людей! – кричал он в необъяснимом раздражении. – Крандиевщина! Чистоплюйство!
Терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, быть может, враждебных.

А. Н. Толстой в рабочем кабинете
Тем временем семья наша, разросшаяся благодаря двум женитьбам старших сыновей, становилась все сложней и утомительней. Это “лоскутное” государство нуждалось в умной стратегии, чтобы сохранять равновесие, чтобы не трещать по швам. Дети подрастающие и взрослые, заявляющие с эгоизмом молодости о своих правах, две бабушки, две молодые невестки, трагедии Марьяны, Юлия, слуги, учителя, корреспонденты, поставщики, просители, люди, люди, люди… Встречи, заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая суета! Над основной литературной работой всегда, как назойливые мухи, дела, заботы, хозяйственные неурядицы. И все это по привычке – на мне, ибо кроме меня, на ком же еще? Секретаря при мне не было. Я оберегала его творческий покой как умела. Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала все».
Она считала себя обиженной. Но и спустя годы, в 1958-м, когда уже тринадцать лет как не было в живых Толстого, чувства не угасли, о чем говорит стихотворение «Сон»…
Сон наплывал и пел, как флейта,
Вводя абсурдное в законное.
Мне снилась будка телефонная
И в окнах будки образ чей-то.
И как во сне бывает часто,
Казалась странность обыденностью,
И сон, свободный от балласта,
Пугал своей непринужденностью.
Я за окном узнала вдруг
Тебя, продрогшего от ливней.
Ты звал меня: «Вернись, прости мне,
Согрей меня, как прежде, друг…»
И в руки ледяные взял
Мои, сведенные до боли,
И боль ушла. Не оттого ли,
Что сон уйти ей приказал?
Он длился, длился… Ночь плыла,
Вводя абсурдное в законное,
И эта будка телефонная
Второю жизнью мне была.
Наталья Васильевна после того, как рассталась с мужем, вернулась к творчеству.
Счастье – это безграничная свобода?
В литературе постепенно создался мученический образ этой во всех отношениях достойной женщины. Для того, чтобы решить, кто прав, кто виноват, нужно выслушать две стороны. Чаще всего выслушивается Наталья Васильевна. При разрушении семьи всегда, по общему мнению, страдает больше женщина. Но почему рушатся семьи и почему иногда столь непонятно уходит любовь? Ведь, наверное, она уходит не случайно. Наверное, что-то действует и на того и на другого. Чувства Натальи Васильевны к Алексею Николаевичу не ослабевали и не ослабели. Но что же случилось с его чувствами, что действовало на них? Сам Алексей Толстой так объяснял впоследствии свое охлаждение…
«Я для моей семьи – был необходимой принадлежностью, вроде ученого гиппопотама, через которого шли все блага. Но кто-нибудь заглядывал в мой внутренний мир? Только бы я выполнял обязанности и не бунтовал. Все испугались, когда я заболел 31 декабря. Но как же могло быть иначе – зашаталось все здание. Наташа мне несколько раз поминала о заботах, которыми она меня окружила. Но как же могло быть иначе? Они радуются удачам моего искусства. Было бы странно не радоваться. И я жил в одиночестве и пустоте, так как от меня требовали, но никто не отдавал мне своего сердца».
Конечно, Алексей Толстой искал оправдания. Зажатая суетой жизни, взявшая на себя порой чрезмерные обязанности Наталья Васильевна, естественно, в чем-то отставала от него, летящего в авангарде стремительной жизни развивающейся страны. Так, увы, бывает, что жена начинает отставать не по своей воле, не по своей вине, а по объективным причинам, вызванным самым обычным бытом.
Толстой говорил ей:
«– Ты понимаешь происходящее вокруг нас, всю бешеную ломку, стройку, все жестокости и все вспышки ужасных усилий превратить нашу страну в нечто неизмеримо лучшее. Ты это понимаешь, я знаю и вижу. Но ты как женщина, как мать инстинктом страшишься происходящего, всего неустойчивого, всего, что летит, опрокидывая. Повторяю, – так будет бояться всякая женщина за свою семью, за сыновей, за мужа. Я устроен так, – иначе бы я не стал художником, – что влекусь ко всему летящему, текучему, опрокидывающему. Здесь моя пожива, это меня возбуждает, я чувствую, что недаром попираю землю, что и я несу сюда вклад».
В такой момент человеку, подобному такому талантищу, как Толстой, не всегда удается разглядеть, кто есть кто в его окружении. В такой момент легко такого человека обмануть, привлечь достоинствами, увести за собой от того истинного и настоящего, что существовало прежде, но просто померкло и поблекло со временем.
Толстой, не добившись ответного чувства от Надежды Пешковой, к тому же ведь ловко и тонко предупрежденный Ягодой, остался на перепутье. Возвращение к жене было невозможно. Невозможно даже вовсе не потому, что она вряд ли могла принять его покаяние, а потому, что, если бы даже она приняла его, вряд ли удалось бы вернуться к тем чувствам и тем ощущениям, которые озаряли их отношения в самом начале их сближения.
Разве мог он теперь, спустя двадцать лет, адресовать Наталье Васильевне такие строки и подобрать такие слова, которые в ту пору и подбирать не надо было, потому что они шли из сердца, изливаясь яркими и пронзительными потоками на бумагу…
Он теперь не смог написать даже так, как писал совсем недавно, в 1932 году. Все перечеркнуло увлечение Надеждой Пешковой и теми последствиями, к которым оно привело.
И трудно поверить, что ему еще недавно принадлежали такие строки: в январе 1932 года (то есть за несколько месяцев до знакомства с Тимошей) Толстой писал жене: «Моя любимая, родная, одна в мире. Тусинька, неужели ты не чувствуешь, что теперь я люблю тебя сильнее и глубже, чем раньше. Люблю больше, чем себя, как любят свою душу. Ты неувядаемая прелесть моей жизни. Все прекрасное в жизни я воспринимаю через тебя».
Всего несколько лет. Если точно, то всего три года, и появились упреки, появился даже термин, сильно обидевший Наталью Васильевну, – «крандиевщина».
А его заявление: «У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни!»
Такое стереть из памяти невозможно.
И в очень удобный момент на сцене появилась весьма и весьма ловкая и предприимчивая секретарша.
Все получилось как-то неожиданно, словно само собой.
Когда Наталья Васильевна твердо заявила о том, что уходит от Алексея Николаевича, он особенно и не возражал, только попросил об одном одолжении:
– Уж коль покидаешь меня, подбери мне секретаршу.
В то время Наталья Васильевна познакомилась с молодой миловидной барышней Людмилой Баршевой, женой писателя, некогда даже относительно модного, пьесы которого шли в ряде ведущих театров, но как-то постепенно утратившего свои позиции в литературе и обедневшего.
Баршева с удовольствием согласилась поработать у маститого писателя. Уж сразу она замыслила женить его на себе или пока только нужда в средствах толкнула, сказать трудно, но в августе 1935 года она впервые вошла в кабинет Алексея Николаевича.
Почему именно ее выбрала Наталья Васильевна? Может быть, решила, что барышня намного моложе Алексея Толстого, да к тому же замужем. О бедственном положении семьи, о том, что Людмила Баршева уже на грани развода, могла и не знать.
Впрочем, понять ход мыслей Натальи Васильевны сложно. Ушла… Но решила ли в тот момент, что ушла навсегда? Или это была только попытка как-то повлиять на их отношения, ведь порой подобные резкие действия возвращают все на круги своя.
Некоторые биографы полагали уход Крандиевской поступком «романтически настроенной женщины». Мол, вот сейчас уйду, и он одумается.

Н. И. Баршева и А. Н. Толстой
Тем более в день ухода Толстой вел себя как-то очень странно, даже равнодушно, словно бы не веря в то, что она уходит.
Наталья Васильевна вспоминала:
«Я уехала из Детского в августе 35 года. Помню последний обед. Я спустилась к столу уже в шляпе. Утром уехал грузовик с последними вещами. У подъезда меня ждала машина. Толстой шутил с детьми. Об отъезде моем не было сказано ни слова. На прощанье он спросил:
– Хочешь арбуза?
Я отказалась. Он сунул мне кусок в рот:
– Ешь! Вкусный арбуз!
Я встала и вышла из дома. Навсегда».
Действительно, весьма странное прощание. Возможно, Алексей Толстой действительно не верил в то, что она уйдет. Он даже просил подобрать ему секретаршу, поясняя, что таковая необходима на время, пока ее – Натальи Васильевны – с ним не будет.
Она ушла. Навсегда ли? Если ушла навсегда, то к чему еще что-то писать? А она, уходя, оставила стихотворение:
Так тебе спокойно, так тебе не трудно,
Если издалека я тебя люблю.
В доме твоем шумно, в жизни – многолюдно,
В этой жизни нежность чем я утолю?
Отшумели шумы, отгорели зори,
День трудов закончен. Ты устал, мой друг?
С кем ты коротаешь в тихом разговоре
За вечерней трубкой медленный досуг?
Долго ночь колдует в одинокой спальне,
Записная книжка на ночном столе…
Облик равнодушный льдинкою печальной
За окошком звездным светится во мгле…
Она даже не предполагала, что недолго будет ночь колдовать в одинокой спальне.
Толстой же, найдя стихи, написал ей:
«Тусинька, чудная душа, очень приятно находить на подушке перед сном стихи пушкинской прелести. Но только образ равнодушный не светится за окном, – поверь мне. Было и минуло навсегда».
И тут же как ни в чем не бывало о делах:
«Вчера на заседании я провел интересную вещь: чистку писателей. Это будет ведерко кипятку в муравейник.
Сегодня пробовал начать писать роман. Но чувствую себя очень плохо, – кашляю, болит голова, гудит как колокол в пещере.
Целую тебя, душенька».
Письмо проникнуто уверенностью, что все это демонстрация и его Туся скоро вернется к нему.
Кстати, это было первое ее стихотворение после долгих лет молчания ее музы.
Итак, в августе 1935 года Алексею Толстому 52 года, Людмиле Баршевой 29 лет. Разница 23 года. Много или мало? Наверное, если взять, скажем, 42 и 19, много, но… Я бы выразил это следующими словами
Чем дальше нас уносят в зрелость годы,
Тем меньше разница в летах видна…
И тут вряд ли можно возразить.
Лето… Август… И одиночество в это прекрасное время года? А рядом миловидная женщина, которая хоть и замужем, да не слишком дорожит этим своим замужеством.
Как произошло объяснение? Об этом история умалчивает. Известно лишь, что уже чуть ли не через две недели Людмила прочно заняла в доме Толстого место его жены. Остались формальности.
Федор Иванович Тютчев в свои 49 лет, то есть примерно в том же возрасте, в котором был Алексей Толстой в момент крутого поворота в личной жизни, писал:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
Алексей Толстой поэтических посвящений своей новой возлюбленной не оставил, но он оставил письма, написанные, можно сказать без преувеличения, почти поэтическим языком…
«Любимая, обожаемая, прелестная Мика, вы так умны и чисты, вы так невинны и ясны, – чувствуешь, как ваше сердце бьется, прикрытое только легким покровом… Мика, люблю ваше сердце, мне хочется быть достойным, чтобы оно билось для меня… Я никогда не привыкну к вам, я знаю – если вы полюбите – вы наполните жизнь волнением женской и чел. прелести, я никогда не привыкну к чуду вашей жизни».
Он не скупился на самые яркие и пронзительные слова…
«Счастье – это безграничная свобода, когда ничто вас не давит и не теснит и вы знаете, что перед вами какие-то новые дни, все более насыщенные чувством, умом, познанием, достижением, и какие-то еще не исхоженные дивные пространства… Мика, вы хотите сломать себе крылья и биться в агонии. Когда столько сомнений, столько противоречий, – начинать ли жизнь с ним, – тогда можно только надеяться: – стерпится, слюбится. Но это разве то, на что вы достойны: умная, талантливая, веселая (это очень важно – веселая!). Веселая, значит протянутые руки к жизни, к свободе, к счастью. Мика, целую ваше веселое девичье сердце. Мика, я очень почтительно вас люблю. Я всегда буду сидеть позади вас в ложе, глядеть на вашу головку. Мика, клянусь вам, в вас я первый раз в моей жизни полюбил человека, это самое чудо на нашей зеленой, скандальной, прекрасной земле. Мика, пройдут годы, меня уже не будет, рядом с вами будет бэби, мое дитя от вас, – дочь, – из вашего тела, из вашей крови, и в сердце ее будет биться моя любовь к вам».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.