Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
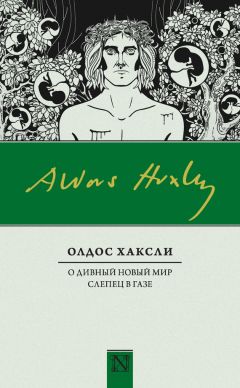
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)
– Останься там! – отчетливо прошептали губы Джона Бивиса.
Комок еще сильнее подступил к горлу, слезы стояли в глазах. Захлопнув дверь гардероба, он отвернулся и принялся разоблачаться.
Внезапно он почувствовал все усиливающуюся дурноту. Ему стоило невероятных усилий умыться. Забравшись в постель, он тотчас же заснул.
В часы перед восходом солнца, когда свет нового дня едва забрезжил и уличный шум начал проникать сквозь темную завесу, окутавшую его мозг, Джону Бивису приснилось, будто он идет по коридору, ведущему в его лекционный зал в Королевском колледже. Даже не идет, а бежит. Коридор вдруг оказался бесконечным, и какой-то неведомый голос требовал быстро добраться до конца и не опоздать. Не опоздать куда? Он не знал, но, убыстряя и убыстряя шаг, он чувствовал, что тошнота все усиливалась, как и раньше, мутящее отвращение нарастало и становилось все невыносимее с каждой минутой. Когда он наконец открыл дверь лекционного зала, вдруг оказалось, что это не лекционный зал, а спальня в их доме, и Мейзи лежала там на кровати, задыхаясь от приступа астмы; лицо ее было багрового цвета, ожидая страшного приближения неподвижности, а губы, похожие на два рубца, синели мертвенной бледностью. Сновидение было настолько ужасным, что он проснулся в холодном поту. Утренний свет слабо пробивался сквозь занавески, стеганое одеяло раздражало глаза малиновым цветом, зеркало в гардеробном шкафу блестело ослепительным блеском. Снаружи завывал молочник, обходя дворы: «Молоко-о-о!.. Молоко-о-о!..» Все было пo-домашнему обычно, каждая вещь лежала на своем месте. Это был всего лишь кошмарный сон. Затем, повернув голову, Джон Бивис увидел, что место рядом на широкой постели пусто.
Колокольчик звенел все ближе и ближе, пробиваясь сквозь томную негу после глубокого сна, пока наконец его навязчивое дребезжание не приблизилось вплотную к вискам, беззастенчиво терзая обнаженный до нейросетчатки мозг. Энтони открыл глаза. Какой отвратительный шум! Тепло нагретой постели было божественным. Затем – это испортило все – он вспомнил, что первым уроком была алгебра с Джимбагом. Он содрогнулся. Эти жуткие квадратные уравнения! Джимбаг мог снова начать кричать на него. Это было нечестно, и он бы разревелся. Но потом ему пришло в голову, что Джимбаг не посмеет и пальцем тронуть его, памятуя о том, что произошло вчера. «Лошадиная Морда вел себя до неприличия положительно вчера вечером», – подумал он вновь.
Наступило время подъема. Раз, два, три – о, как холодно! Он только собирался натянуть сорочку, как кто-то осторожно постучал в дверь его спальни. Последнее движение, и его голова вышла на свет Божий. Он открыл. На пороге стоял Стейтс – ухмыляясь, но полный дружелюбия, хотя… Энтони растерялся. Недоверчиво, с неискренне приветливой улыбкой, он начал:
– Что случилось?
Стейтс приложил палец к губам.
– Сходи и посмотри, – прошептал он. – Выглядит бесподобно.
Энтони польстило приглашение со стороны того, кто, будучи капитаном футбольной команды, имел право (и пользовался им) быть грубым с ним. Он боялся Стейтса и ненавидел его, и именно потому его особенно удивило то, что тот не постеснялся прийти к нему в комнату по своему собственному желанию.
Комната Стейтса уже была полна ребят. Заговорщицкое молчание таило в себе бурное и поэтому плохо скрываемое волнение. Томпсону пришлось запихать себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от смеха, а Пембрук-Джонс корчился в беззвучных припадках хохота. Партридж, вклинившийся в узкое пространство между ножками кровати и умывальником, стоял, прижавшись щекой к перегородке. Стейтс коснулся его плеча. Партридж обернулся и вышел на середину комнаты; его веснушчатое лицо исказилось от ликования, он дергался и переминался с ноги на ногу, словно у него рвался мочевой пузырь. Стейтс указал на освободившееся место, и Энтони, потеснив остальных, занял его. В заградительной стенке была проделана дырка, и сквозь нее было видно все, что происходило в соседней комнате. На кровати в одной шерстяной фуфайке и бандаже лежал Гогглер Ледвидж. Его глаза за толстыми стеклами очков были закрыты, рот приоткрыт. У него был блаженный и кроткий вид, как у покойника во время отпевания.
– Он все еще здесь? – прошипел Стейтс.
Энтони повернулся с ухмыляющимся лицом и кивнул, затем вплотную прижался к глазку. Его особенно рассмешило то, что это Гогглер, школьный клоун, козел отпущения, которого слабость и робость заранее обрекли на гонения. Теперь появилась новая приманка.
– Давайте устроим ему темную, – предложил Стейтс, забравшись на перила в изголовье кровати.
Партридж, бывший центральным нападающим в лучшей из двух футбольных команд школы, сделал движение, чтобы последовать за ним. Но Стейтс повернулся, на этот раз к Энтони.
– Давай, Бивис, – прошептал он. – Давай вместе. – Он хотел вести себя полегче с беднягой из-за случившегося с ним. Кроме того, ему польстило то, что он сумел осадить этого оболтуса Партриджа.
Энтони принял лестное предложение почти с охотой и вплотную подошел к Гогглеру. Остальные толпились у изголовья. По сигналу Стейтса все выровнялись и, высунув головы из-за перегородки, загудели презрительно.
Гогглер снял напряжение сдавленным смехом; его зрачки расширились, полные ужаса, лицо на секунду сделалось белесым, затем вспыхнуло. Двумя руками он напялил на себя сорочку, но та была слишком коротка, чтобы прикрыть его наготу или хотя бы грыжу. До нелепости коротка, как детская фуфайка. «Попробуем сделать так, чтобы она прослужила еще один сезон, – говаривала его мать. – Эти шерстяные вещи ужасно дороги». Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить его в Балстроуд.
– Ну тяни же, тяни! – кричал Стейтс, полный сарказма и смелости от своих потуг.
– Почему Генрих Восьмой не позволял Анне Болейн заходить в свой курятник?[19]19
Генрих VIII (1491–1547) – английский король с 1509 г., имевший шесть жен. Анна Болейн (1507–1536) – вторая жена Генриха VIII, вышедшая за него вопреки воле Папы после развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской, что послужило поводом к Реформации в Англии. Двадцатидевятилетняя Анна Болейн была обезглавлена по ложному обвинению в супружеской неверности. Здесь имеется в виду известный анекдот XVI в. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] – спрашивал Томпсон.
Конечно же, все знали ответ, и раздался взрыв смеха.
Стейтс поднял одну ногу с перекладины, стянул с ноги туфлю на кожаной подошве, прицелился и выстрелил. Она ударила Гогглера по лицу. Тот издал крик боли, выпрыгнул из постели, оставшись стоять с опущенными плечами, и тонкая, словно искалеченная рука поднялась, чтобы защитить голову. Он смотрел на ухмыляющиеся лица сквозь пальцы, закрыв появившиеся слезы.
– Сейчас достанется и вам, – прикрикнул Стейтс на остальных. Затем, оглядывая только что пришедших, что стояли на пороге, буркнул, сбросив вторую туфлю:
– Привет, Лошадиная Морда. Подойди и пульни в него. – Стейс поднял руку, но Лошадиная Морда запрыгнул на постель и схватил его за запястье.
– Нет уж, стой! – сказал он. – Остановись.
Энтони взял за руку Томпсона и, опершись на плечо Стейтса, размахнулся так сильно, как только мог. Гогглер юркнул под кровать. Туфля ударилась о деревянное заграждение за его спиной.
– Б-бивис! – крикнул Лошадиная Морда с таким укором, что Энтони испытал внезапный приступ стыда.
– Ему это не повредило, а? – проговорил он, словно извиняясь, и по какой-то странной причине обнаружил, что думает о той страшной могиле на Лоллингдонском кладбище.
Стейтс вновь обрел язык.
– Мне непонятно, чем ты занимаешься, Морда Лошадиная, – разгневанно взревел он и вырвал ботинок из рук Брайана. – Почему не думаешь о своем деле?
– Это н-не ч-честно, – ответил Брайан.
– Именно честно.
– Пятеро на одного.
– Но ты не знаешь, что он сделал…
– Мне вс… не важно.
– Тебе было бы важно, если б было понятно, – отрубил Стейтс и принялся изображать преступления Гогглера во всех красках.
Брайан опустил глаза, щеки его внезапно покраснели. Когда приходилось слушать, как других обливают грязью, ему казалось, что обливают грязью его.
– Посмотри, как краснеет Лошадиная Морда! – крикнул Партридж, и все заверещали от смеха, не столь, однако, издевательского, как у Энтони. У Энтони тем не менее было время испугаться своего позора, время отказаться от мысли о том откосе на Лоллингдонском кладбище и время для того, чтобы вдруг почувствовать непримиримую вражду к Лошадиной Морде. За то, что тот был слишком необычным, ведь у него было мужество иметь свое мнение, только он не умел возвыситься до того, чтобы высказать его. Это произошло именно потому, что он любил Лошадиную Морду, одновременно чувствуя отвращение к нему. Или, скорее, потому, что было гораздо больше причин, по которым ему нужно было быть снисходительным к нему – так же мало причин, с другой стороны, почему Лошадиная Морда одарен всеми теми качествами, которые отсутствовали у Энтони полностью или частично. Этот внезапный истерический взрыв смеха был выражением какого-то завистливого негодования против гордыни, которую он любил и которой восхищался. На самом деле любовь и очарование подчас оборачивались протестом и завистью, но оставались, как правило, в глубине подсознания из-за тайной неопределенности, откуда внезапный кризис, подобный нынешнему, мог извлечь их.
– Видел бы ты его, – заключил Стейтс. Почувствовав себя в более благоприятном расположении духа, он рассмеялся – позволил себе рассмеяться.
– С его повязкой, – добавил Энтони тоном, полным тошнотворного презрения. Грыжа Гогглера представила Фокса еще большим преступником.
– Угу, с его дурацкой повязкой! – одобрительно подтвердил Стейтс.
– Он безобразен, – упорствовал Энтони, теперь несколько смягчившись и изображая праведный гнев.
В первый раз после того, как Стейтс начал свой рассказ о похождениях Гогглера, Брайан посмотрел ему в глаза.
– Н-но п-почему он б-безобразнее всех? – забитым голосом вопросил он. – В к-конце к-кон-цов, – заговорил он громче, и кровь снова хлынула ему в лицо, – он н-не единственный.
Повисла двусмысленная пауза. Конечно же, таких, как Гогглер, было много. Беда была в том, что на него одного валились все шишки, и лишь из-за того, что он носил очки, грыжевой бандаж и футболку не по размеру, на единственного, кто не скрывал своих недостатков и подставлял себя под удар. В этом была вся разница.
Стейтс повел наступление с другого фланга.
– Проповедь святейшей Лошадиной Морды! – издевательски забубнил он и в одно мгновение завладел вниманием остальных. – Черт! – Его интонация резко изменилась. – Поздно уже. Отваливать пора.
Глава 7
8 апреля 1934 г.
Из дневника Э. Б.
Условный рефлекс. Какое безмерное удовольствие я получил от Павлова [20]20
Павлов, Иван Петрович (1849–1936) – русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине (1904). (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], когда впервые прочел его. Последний крест на всех самообманах человека. Все мы были нелюди да жители пещерные. Собака гавкает – вот обнюхала фонарный столб, подняла заднюю лапу, закопала кость в землю. Кончился весь этот бред насчет свободы воли, прописные истины и вся подобная шелуха. В каждую эпоху живут те, которые будоражат умы. Ламетри [21]21
Ламетри, Жюльен Офре де (1709–1751) – французский философ и врач, сторонник идей механистического материализма и сенсуализма, изложенных в трактате «Человек-машина» (1747). (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], Юм , Кондильяк [22]22
Кондильяк, Этьенн Бонно де (1715–1780) – французский философ-просветитель, один из соавторов «Энциклопедии». Свои сенсуалистические взгляды изложил в «Трактате об ощущениях» (1754). (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], за ними всеми маркиз де Сад, последний и наиболее сокрушительный из всех революционеров мысли восемнадцатого столетия. Мало кто, однако, нашел в себе смелость последовать за скандальными доводами де Сада. Тем временем наука не стояла на месте. Просветительские взрывы и без де Сада потерпели крах. Девятнадцатому веку пришлось начинять все сызнова – и Гегелю, и Марксу, и дарвинистам. Маркс и до сих пор сильно осаждает наши мозги. Начало двадцатого столетия породило новое племя разрушителей – Фрейда и его продолжателей, и, когда они начали распространять свои законы замещения и вытеснения, появились Павлов и бихевиористы[23]23
Бихевиоризм (от англ. behaviour – «поведение») – направление в американской психологии XX в., в основе которого лежала теория об изучении индивида с помощью схемы «стимул – реакция». (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть]. Открытие условного рефлекса, насколько я помню, как раз и положило конец всему. Хотя на самом деле он всего-навсего по-новому сформулировал учение о свободе воли. Если можно сформировать один условный рефлекс, то можно вместо него сформировать следующий. Научиться пользоваться собой правильно после того, как всю жизнь делал это шиворот-навыворот, что это, как не выработка нового условного рефлекса?
Обедал с отцом. Он гораздо бодрее, чем тогда, когда я видел его в последний раз, только сильно постарел и, кажется, рад этому. Гордится тем, что с трудом выбирается из сидячего положения и медленно, с остановками шаркает по лестнице. Может быть, это поднимает его в его собственных глазах. Видимо, он только и ждет сочувствия, приказывая, чтоб оно последовало по первому его желанию. Ребенок кричит так, что мать спускается и не находит себе места возле него. Такие вещи у особого рода людей происходят с пеленок до гробовой доски. Миллер говорит, что старость – это скорее дурная привычка. Привычка ставить всем условия. Расхаживай, словно страдающий ревматизмом, и действительно обречешь свое бренное тело на большие муки, чем раньше. Веди себя как старик, и твое тело постепенно одряхлеет, – ты и будешь чувствовать себя, как старик. Тощий Панталоне в домашних туфлях – вот самый подходящий для этого образ. Если откажешься и научишься мотивировать свой отказ, не превратишься в Панталоне. Я считаю, что это по большей части верно. Как бы то ни было, мой отец сейчас с удовольствием играет свою роль. Одно из великих преимуществ пожилого возраста то, что при условии сравнительно неплохой материальной обеспеченности и не подводящем здоровье можно позволить себе ханжеское добродушие. Переселение в мир иной не за горами, жизненные неурядицы не воспринимаются так близко к сердцу, как в юные лета, и вполне можно взирать на все с высоты Олимпа. Мой отец, к примеру, с поразительным спокойствием рассуждал о мире. Да, люди совершенно дичают, и Европу абсолютно точно ожидает новая война, около 1940 года, по его мнению. Будет, конечно, гораздо хуже, чем во время войны четырнадцатого года, и может статься, вся западная цивилизация окажется грудой пепла. Но так ли уж это важно? Цивилизация вновь станет развиваться на других континентах и заново поднимется на опустошенных пространствах. Юлианское летоисчисление давно пошло вкось. Нам нужно мыслить себя живущими не в тридцатые годы двадцатого столетия, а между двумя ледяными веками. В конце он процитировал Гете: «Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss»[24]24
«Все преходящее есть только символ» (нем.). Эти слова произносятся мистическим хором в финале «Фауста».
[Закрыть]. И то, что не вызывает сомнений, может считаться правдой. Но не обладает всей полнотой истины. Дилемма в том, как примирить убеждение, что мир большей частью – иллюзия, с тем, что не становится менее необходимым совершенствовать эту иллюзию? Как быть одновременно бесстрастным, но не безразличным, кротким и добродушным, как старец, и неуемным, как юноша?
Глава 8
30 августа 1933 г.
– Куда бы деться от этих слепней! – Элен растирала покрасневшую руку. Энтони воздержался от замечаний. Она взглянула на него мельком, не говоря ни слова. – Как ты отощал за последнее время! – наконец произнесла она.
– Маниакальное самоизнурение, – ответил он, не опуская руки, которой закрывал лицо от яркого света. – Вот из-за чего я здесь. Предназначен самой природой.
– Предназначен для чего?
– Для социологии, а в перерывах вот для этого. – Он поднял руку, сделал ею круговое движение, после чего рука вновь упала на матрас.
– Что значит «это»? – не отступала она.
– Это?… – повторил Энтони. – Ну… – Он замялся. Ему не хотелось говорить о принципиальном разрыве между разумом и страстями, отвлеченных чувствах, рафинированных идеях. – Ну, скажем, ты, – наконец проговорил он.
– Я?
– Ну, полагаю, это мог быть кто-нибудь другой, – сказал он, непритворно любуясь собственным цинизмом.
Элен тоже рассмеялась, но с горьким удивлением.
– Я – кто-нибудь еще?
– Это что значит? – грозно спросил он, посмотрев на нее из-под ладони.
– Значит то, что я говорю. Ты считаешь, что я должна быть здесь – истинная Я.
– Истинная Я! – издевательски повторил он. – Да ты рассуждаешь, как теософ.
– А ты рассуждаешь как круглый идиот. Специально. Хотя уж ты-то не глуп.
Последовало долгое молчание.
Истинное Я? Но где, как и по какой цене? Да, прежде всего – по какой цене? Всякие Кейвелы и Флоренс Найтингейл[25]25
Найтингейл, Флоренс (1820–1910) – английская медсестра, основавшая во время Крымской войны (1853–1856) госпиталь для раненых солдат. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть]. Но такое казалось абсурдным и вдобавок смешным. Она нахмурилась, потом покачала головой и, открыв глаза, подернутые пеленой, поискала ими какой-нибудь предмет в пространстве вокруг, который отвлек бы ее oт бесполезных и навязчивых мыслей. Прямо перед ней сидел Энтони. Она секунду смотрела на него, затем с удивлением и неохотой подалась вперед, словно он был каким-то странным и невыносимо противным животным, и коснулась сморщенной розовой кожи, образованной шрамом, пересекавшим его бедро в дюйме или двух выше колена.
– Все еще болит? – спросила она.
– При быстрой ходьбе. И иногда в сырую погоду. – Он приподнял руку с матраса и, согнув правую ногу в колене, рассмотрел шрам. – След ренессанса, – задумчиво произнес он. – В виде гранатного осколка.
Элен вздрогнула.
– По всей видимости, это было ужасно. – Затем, с непонятно откуда взявшейся страстью, выкрикнула: – Как я ненавижу боль! – В ее голосе слышалось яростное, глубоко личное негодование. – Ненавижу! – повторила она, чтобы все на свете Кейвелы и Найтингейл слышали ее.
Она снова заставила его думать о прошлом. О том осеннем дне в Тидворте восемнадцать лет назад. О правилах поведения во время бомбежки. О сумасшедшем новобранце, который не добросил гранату. Об истерике и панике в самом начале войны, первоначальном ужасе. Теперь это казалось поразительно далеким и несовременным, как некая звезда, разглядываемая не с того конца телескопа. И даже боль, не прекращавшаяся месяцами, теперь почти ушла в небытие. Физически это было самое худшее, и память его, как память безумца, уже почти избавилась от этих образов.
– Нельзя помнить боль, – произнес он вслух.
– Я могу.
– И ты не можешь. Можно помнить сам факт и то, что ему сопутствовало.
Тот случай произошел в родильной палате на Том-Иссуар, а сопутствовали ему нищета и унижение. Ее лицо исказилось при этих словах.
– То, как все было, ты никогда не будешь помнить, – продолжил он. – Ты даже не будешь помнить чувство наслаждения. Сегодня, например, ты не помнишь, что было полгода назад. И это к счастью. – Он улыбнулся. – Подумай, что было бы, если бы ты помнила запахи всех духов и все поцелуи. Какой унылой была бы жизнь. И есть ли на свете женщина, которую Создатель наделил бы как памятью, так и хотя бы двумя детьми?
Элен охватило волнение.
– Я не представляю, как все это вообще возможно, – тихо сказала она.
– Именно так, – утверждал Энтони. – Муки и наслаждения новы всякий раз, когда мы их испытываем. Свежи, как весенняя листва. Каждая гортензия, аромат которой ты вдыхаешь, есть первая гортензия в твоей жизни. И первое заключение под арест…
– Ты снова говоришь, как идиот. – Элен сердито прервала его. – Запутался окончательно.
– Мне казалось, тебе становится яснее, – возразил он. – И все-таки чего ты от меня хотела?
– Я хотела, чтоб ты объяснил мне меня, себя, нашу жизнь, счастье. А ты разглагольствуешь, как философ. Глупый, как бревно.
– А ты сама? Совершила ты хоть один умный поступок? Специалист по счастью!
В этот момент в воображении обоих возник образ робкого человека в очках, из-за которых не было видно глаз.
Тот брак! Что в самом деле могло склонить ее? Старина Хью, конечно, был полон романтической любви, но достаточно ли этого? И в конце концов наступило разочарование. Прежде всего из-за разницы в возрасте. Он всегда горько усмехался, когда ему вспоминались их отношения с Хью. Уголки губ Энтони слегка подернулись. Для Элен, однако, последствия шутки могли оказаться роковыми. Он бы дорого дал, чтобы узнать все подробности, но через кого-нибудь еще, чтоб не принимать на себя роль хранителя ее тайн. Тайны были опасны, тайны опутывали ее с ног до головы, как паутина. Да, совсем как паутина.
Элен вздохнула, затем, расправив плечи, резко произнесла:
– Из двух петухов не сделаешь одного орла. Кроме того, это мое личное дело.
«Которое обернулось как нельзя лучше», – подумал он. Повисла тишина.
– Как долго ты провалялся в больнице после ранения? – Ее тон внезапно изменился.
– Почти десять месяцев. Было жуткое нагноение. Пришлось десять раз оперировать.
– Кошмар!
Энтони пожал плечами. По крайней мере это уберегло его от военных окопов. Но по милости Божией…
– Странно, – произнес он, – в каком убогом обличье нас подчас посещает Господь! Блаженный идиот с ручной гранатой. Если бы не он, я бы в корабельном трюме отправился во Францию и подох бы там – почти наверняка. Я обязан ему жизнью. – Затем после паузы: – И свободой в начале войны. Где гарантия, что я пережил бы отравление газами, такое, как в Ипре? – «Сошла на землю правда, Царь Царей». Ты, мне кажется, слишком молода даже для того, чтобы слышать о бедном Руперте[26]26
Руперт, Брук (1887–1915) – английский поэт-неоромантик, символ «потерянного поколения». Энтони видоизменяет строчку из его стихотворения «Песенка»: «Любовь, говорили, – Царь Царей». (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть]. Тогда, в четырнадцатом году, это имя значило больше. «…Сошла на землю правда». Но он, однако, забыл упомянуть, что глупость сошла тоже. В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о расширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю, но не как царь, а как император, богоподобный Вождь Всей Арийской Расы. Мысль об этом отрезвила меня. Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем был. И всем я обязан этому недоумку. Он был одним из верноподданных фюрера.
Опять помолчали. Голос Энтони зазвучал еще глуше.
– Иногда я нервничаю, как Поликрат[27]27
Поликрат (ум. 522 до н. э.) – дравнегреческий торговец из Самоса, впоследствии ставший тираном. Случай с перстнем изложен Геродотом; на этот же сюжет написана баллада Шиллера «Поликратов перстень» (1797), известная в переводе В. А. Жуковского. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], потому что в жизни мне слишком часто выпадало счастье. Все будто специально складывалось в мою пользу. Даже это. – Он дотронулся до шрама. – Может быть, мне стоит что-то сделать, чтобы успокоить зависть богов, – бросить перстень в море во время следующего купания. – Он слегка усмехнулся. – Беда в том, что у меня нет перстня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































