Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
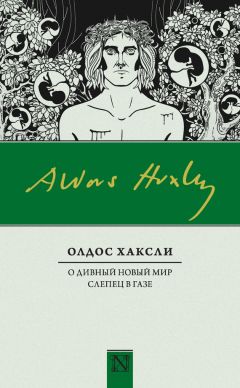
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 44 страниц)
Глава 28
25 июня 1934 г.
С какой легкостью человек может стать Стиггинсом в современном обличье! Гораздо более изысканным и, следовательно, более отвратительным, более опасным Стиггинсом. Ибо сам Стиггинс был, несомненно, слишком глуп для того, чтобы обладать чрезвычайно скверным характером или быть способным причинять вред окружающим. Посему уж, если я предал этому свой ум, Бог знает к чему я могу прийти, двигаясь по пути духовной лжи. Даже если бы я не предавал этому свой ум, я мог бы зайти далеко – как я, к своему ужасу, представил сегодня, когда разговорился с Перчезом и тремя-четырьмя его адептами. Говорили об «антропологическом подходе» Миллера, о мире как образе жизни при условии, что любая политика имела хоть малейшую надежду быть перманентно успешной. Разговор был чрезвычайно ясным, глубоким и убедительным. (Бедные желторотые слушали развесив уши.) Гораздо более убедительно, чем когда-либо, говорил сам Перчез: этот атлетически-шутливый христианский стиль начинает с произведения эффекта, но вскоре заставляет слушателей почувствовать, что с ними говорят, как с ничего не понимающими. Они любят прежде всего то, чтобы оратор был как можно более серьезным, но при этом чтобы его можно было понять. Именно этим секретом я, кажется, владею. Так я поистине мастерски разглагольствовал на тему духовной жизни, втайне радуясь тому, что я не слишком заумен, и в то же время кажусь доброжелательным – и внезапно я понял, кто я такой. Я Стиггинс. Я говорил о теории смелости, самопожертвования, терпения без знания практики. Говорил, ко всему прочему, тем людям, которые испытали на деле то, о чем я так громогласно вещал – проповедовал с таким эффектом, что мы поменялись ролями – они слушали меня, а не я их. Обнаружение того, что я делал, наступило внезапно. Меня охватил стыд. И все же, что было еще более постыдным, я продолжал речь. Правда, недолго. Через минуту или две я просто был вынужден прекратить, извиниться и настоятельно заявить, что читать лекцию на данную тему – не мое занятие.
Сие иллюстрирует, как легко можно стать Стиггинсом по ошибке или неосознанно. Но эта неосознанность, однако, не является извинением, и человек в ответе за ошибку, которая возникает, конечно же, из удовольствия, которое он получает оттого, что он более талантлив, чем другие, и оттого, что может управлять ими посредством своего таланта. Откуда же берется несознательность? Оттого, что человек никогда не утруждал себя анализом своих мотивов; а анализ мотивов не происходит потому, что мотивы большей частью сомнительны. Если, конечно, человек отдает себе отчет в мотивах, но лжет себе насчет них, пока наконец не начинает верить, что они хорошие. Таково убеждение Стиггинса. Я всегда осуждал самохвальство и стремление к насильному принуждению, считая его вульгарным, и воображал себя полностью свободным от этих вульгарностей. И постольку, поскольку я вообще свободен, я теперь понимаю, что это только благодаря безразличию, которое отделило меня от остальных, благодаря финансовым и интеллектуальным обстоятельствам, которые сделали меня социологом, а не банкиром, администратором, инженером, работающим в прямом контакте с моими друзьями. Не вступать в контакты, как я понял, неправильно; но в тот момент, когда я в них вступаю, то ловлю себя на мысли, что навязываю себя и свой диктат. Навязываюсь, что гораздо хуже, совсем как Стиггинс, пытаясь оказывать чисто словесное воздействие путем игры добродетелями, которую я не стану применять на практике. Унизительно обнаруживать, что предполагаемые хорошие качества человека происходят в основном как следствие обстоятельств и дурной привычки ни на кого не обращать внимания, что и заставляло меня избегать поводов вести себя плохо. Заметьте: неплохо бы поразмышлять о добродетелях, противоположных тщеславию, жажде власти, лицемерию.
Глава 29
24 мая 1931 г.
Занавески были подняты; солнечный свет ярким пятном ложился на туалетный столик. Элен, как обычно, была еще в постели. Дни тянулись долго. Нежась в мягкой, затмевающей сознание теплоте под одеялом, она сокращала время сном, смутными, непоследовательными мыслями, полусонным чтением. В это утро у нее на столике лежали стихотворения Шелли. «И платье легкое точило аромат…» Она увидела длинноногую фигуру в белой кисее с покатыми плечами и высоко поднятой грудью.
(Фигура в туфлях-лодочках с квадратными носами и в перевязанных крест-накрест черной лентой белых хлопковых чулках пустилась бегом.)
И сладость напоила слабый бриз:
И дышащая дикостью краса
Вне чувств, как та взогненная роса,
Растаяла в ветвях замерзших тех…
Полуоткрывшаяся роза перед ее внутренним взором уступила место странно исказившемуся лицу Марка Стейтса. Что он рассказывал вчера о духах… Мускус, амбра… И Генрих IV со зловонным потом своих ног. Bien vous en prend d’être roi; sans cela on ne vous pourrait souffrir. Vous puez comme charogne[174]174
Лучше бы вы были королем – вы бы так не страдали. Вы смердите, как падаль (фр.)…
[Закрыть]. Она скорчила гримасу. Запах Хью был похож на запах прокисшего молока.
Пробили часы. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать! Она почувствовала за собой вину; затем вызывающе сказала себе, что останется в постели до обеда. Знакомый голос, принадлежащий Синтии, укором прозвучал у нее в памяти. «Тебе следовало бы почаще выезжать в свет, встречаться с людьми». Но эти люди, люди Синтии, были нестерпимыми занудами. Она явственно увидела, как мать стучит пальцем по ее голове. «Твердая слоновая кость, моя дорогая! Безнадежно глупа, невежественна, безвкусна, медлительна». «Я была воспитана выше моих умственных способностей, – вот и все, что она сказала Энтони той ночью. – И поэтому сейчас, если я когда-либо провожу время с людьми такими же глупыми и необразованными, как я сама, это мучительная, невыносимая пытка!»
Синтия была мила, конечно, мила всегда, даже в ту пору, как они вместе ходили в школу. Но муж Синтии – эта поисковая собака! А ее молодые люди и молодые женщины этих молодых людей! Мой дружок. Моя подружка. Как она ненавидела эти слова и тем более ту невыносимую манеру, с которой они произносили их! Такие беззастенчивые, такие наглые намеки на то, что они спят вместе! И в то же время большинство из них были крайне респектабельными. В тех случаях, когда они не были респектабельными, это казалось еще хуже – двойное лицемерие. На самом деле спали друг с другом и притворялись, что всего лишь лукаво притворяются. К тому же это носило угрюмый налет высокопоставленных англичан. А после этого они всегда играли в игры. «Ы-ыгры, – протягивала миссис Эмберли еще до того, как стала употреблять морфий. – Старая Добрая Школа в каждом доме». Смотри больше на этих людей, делай больше того, что делают они… Элен покачала головой.
Супруга! Ангел! Посланная Роком,
Летящая в беззвездных небесах…
Было ли это все бессмыслицей? Или же это значило что-то, что-то восхитительное, чего она никогда не испытывала? Но нет, она когда-то переживала нечто подобное.
Ибо в полях Бессмертия
Мой дух сперва почтит дух верный твой,
Что там нашел божественный покой…
Это было унизительно теперь, несомненно, но факт оставался фактом, с помощью Джерри она знала точно, что означали эти строчки. Божественное присутствие в божественном месте. И это было присутствием в постели мошенника, который являлся также виртуозом в искусстве любви. Она нашла извращенное удовольствие в том, чтобы настаивать как можно сильнее на гротескном несоответствии между фактами и тем, что она чувствовала.
Тебя люблю я, мне дано познать.
Что на сердце моем лежит печать,
Что влагу чистой, яркой сохранит
Тебе…
Элен бесшумно рассмеялась. Звук часов, отбивших четверть, снова заставил ее подумать о совете Синтии. Были также другие люди – те, которых они встречали, когда обедали с Хью в музее университета. «Эти богобоязненные люди, – вновь заговорила ее мать, – которые не перестают бояться Бога даже тогда, когда выбросили его на обочину дороги». Комитет по богобоязни. Бояться Бога в лекционных залах Мировой ассоциации образования. Бояться его на нескончаемых дискуссиях Планового общества. Но приятная внешность Джерри, его искусство любовника – как все это запланировать так, чтобы это не существовало? Или зародыш беспрепятственно рос и рос в материнском чреве? «Координированная система планирования семьи на всю страну». Она вспомнила взволнованный, убедительный голос Фрэнка Дитчлинга. У него был вздернутый нос, и большие ноздри смотрели пристально, как вторая пара глаз. «Перераспределение населения… Спутниковые городки… Зеленые пояса… Лифты даже в домах рабочих…» Она слушала, поддаваясь гипнотическому воздействию его ноздрей, и в то время это казалось прекрасным, тем, за что стоит умереть. Но впоследствии… Да, лифты – это очень удобно; ей захотелось иметь лифт у себя в квартире. Парки были прекрасным местом для гуляний. Но как могла кампания Фрэнка Дитчлинга привести к каким-либо желаемым результатам? Координированная политика не сделает ее мать менее грязной, менее безнадежно преданной на милость ее отравленного тела. А Хью – станет ли Хью другим в городе-спутнике или в доме с лифтом, если не будет ежедневно подниматься и спускаться с четвертого этажа в Лондоне? Хью! Она с издевкой подумала о его письмах – обо всем нежном, прекрасном, о чем он писал – и затем о человеке, которым он был в каждодневной жизни, – о ее муже. «Скажи мне, как я могу тебе помочь, Хью?» Приводя в порядок его бумаги, печатая на машинке его записки, выискивая для него ссылки в библиотеке. Но всегда, со стеклянными глазами за стеклами очков, он качал головой: или ему не нужна была помощь, или она была неспособна оказать ее. «Я хочу быть хорошей женой, Хью». Со смехом матери, звучавшим у нее в воображении, ей было трудно произносить эти слова. Но они были искренни; она действительно хотела быть хорошей женой. Штопать чулки, греть для него молоко перед сном, читать написанное им, быть sérieuse, впервые и глубоко. Но Хью не хотел, чтобы она была хорошей женой, она была не нужна ему. Божественное присутствие в божественном месте. Но местом были его письма; она присутствовала, когда дело касалось его, только на противоположном конце почтовой связи. Он даже не хотел, чтобы она спала с ним – или по крайней мере хотел ее не очень, не так, как это бывает обычно. Вот уж воистину зеленый пояс!
Но это не относилось к делу. Ибо делом были минуты молчания, которые наступали в те моменты, когда Хью принимал пищу. Делом было то мученическое выражение лица, которое появлялось, когда она входила в его кабинет во время работы. Делом были унизительные, жалкие приближения в темноте, отвратительная дистанция и чувственная аккуратность, в которой роль, отведенная ей, была чисто идеальной. Делом было выражение отчаяния, почти ужаса и отвращения, которое она распознала в первые недели их брака, когда она слегла с гриппом. Он выказал участие; и первое время она была тронута, почувствовала себя благодарной. Но когда она обнаружила, каких героических усилий ему стоило ухаживать за ней во время болезни, благодарность рассеялась. Сами по себе, без сомнения, усилия были восхитительны. То, чем она возмущалась, то, что она не могла простить, был как раз тот факт, что усилие было затрачено. Она хотела, чтобы ее принимали такой, какая она была, даже в лихорадке, даже с пеной и желчью на губах. В этой мистической книге, которую она читала, был отчет мадам Гийон о том, как она подняла с пола жуткий комок слюны и гноя и сунула себе в рот – ради испытания воли. Больная, она была испытанием воли Хью; и с тех пор каждый месяц обновляла тайный ужас тела. Это было нестерпимое оскорбление, и было бы не менее невыносимым в одном из спутниковых городков Дитчлинга, в распланированном мире, где только и слышались бы бредни богобоязненных атеистов.
Но существовала также Фанни Карлинг. «Мышь» – так прозвала ее Элен: она была маленькой, сизой, юркой и молчаливой. Но это была таинственная мышь. Мышь с огромными голубыми глазами, казавшимися постоянно удивленными тем, что они видели за оболочкой вещей. Удивленные, но в то же время невыразимо счастливые: это счастье казалось Элен почти неприличным, но она завидовала ему. «Как можно верить вещам откровенно лживым?» – спрашивала она наполовину злобно, наполовину действительно желая познать ценный секрет. – «Жизнь заставляет, – отвечала мышь. – Если ты живешь истинной жизнью, все это оказывается абсолютно истинным». И она снова стала нести несусветную чушь о любви Бога и любви человеческой по воле Божьей. «Не понимаю, что ты хочешь сказать». – «Только потому, что не хочешь понять, Элен». Глупый, приводящий в бешенство ответ! «Откуда ты можешь знать, чего я хочу?» Со вздохом Элен снова обратилась к книге.
В ту секту никогда я не вступал,
Чей был устав, чтоб каждый выбирал
Любовницу и друга из толпы,
(«Одного из моих мальчиков-друзей…»)
А всем же остальным, хоть похвальбы
Ведут к забвенью, хоть такие нравы,
И торная дорога, что без права
Уводит вдаль измученных рабов,
Домой спешащих сенью мертвецов
Путем широким по земле – и так
Один им будет друг, а может, враг
На сей унылый, бесконечный шлях.
«Унылый и бесконечный, – повторила она про себя. – Но он мог быть таким же долгим, – подумала она, – и таким же унылым с несколькими спутниками, как и с одним – с Бобом, Сесилом, Квентином и Хью».
Любовь – не то, что золотая нить
Из-за того, что взять – не разделить.
– Я не верю в это, – сказала она вслух, и как-никак, она не испытывала слишком большой любви, чтобы делить ее. Для бедного мальчика Сесила она никогда не изображала больше чем сострадание. С Квентином это было просто… просто гигиена. Что касается Боба, он проявлял искреннюю заботу о ней, и она со своей стороны делала все, что могла, чтобы платить ему тем же. Но под его восхитительными манерами, под геройскими взглядами на самом деле не скрывалось ничего. А как любовник он был безнадежно неуклюж, груб, некультурен и непонятлив! Она порвала с ним всего несколько недель спустя. И может быть, продолжала думать она, это был ее рок – терять сердце только от таких мужчин, как Джерри, быть любимой только такими, как Хью, Боб и Сесил. Поклоняться жестокости и подлости, быть боготворимой пороком.
Зазвонил телефон, Элен подняла трубку.
– Алло.
Это был голос Энтони Бивиса. Он приглашал ее поужинать с ним завтра.
– Было бы неплохо, – сказала она, хотя уже обещала вечер Квентину.
У нее на лице играла улыбка, когда она снова легла на подушки. Интеллигентный человек, думала она. Стоит полсотни таких бедолаг, как Сесил или Квентин. Забавный, очаровательный, даже достаточно красивый. Каким приятным он показался ей в тот вечер у Марка! Специально постарался, чтобы выглядеть милым. В то время как этот осел и выскочка Питчли специально постарался, чтобы вести себя грубо, и оскорблял ее. Она была заинтригована, не был ли Энтони неравнодушен к ней. Ей бы очень этого хотелось. Теперь его приглашение подавало повод не только надеяться на это, но и со всей уверенностью так считать. Она напевала про себя; затем с внезапной энергией отбросила в сторону одеяло. Наконец она решилась встать с постели и одеться к завтраку.
Глава 30
2 июля 1914 г.
Что касается Мери Эмберли, та весна и начало лета были для нее невыразимо скучными. Энтони, без сомнения, очаровательный мальчик. Но два года достаточно длинный промежуток времени; он потерял свою новизну. И к тому же он был слишком влюблен. Конечно, приятно, что в тебя влюблены, но не настолько же… и если любовь длится не так долго. В таком случае любовники причиняют лишь неприятности; они начинают воображать, что у них есть права, а у тебя обязанности. Что совершенно невыносимо. Весь тот шум, который Энтони поднял прошлой зимой из-за того художественного критика в Париже!
Мери вряд ли видела, чтобы кто-нибудь был так безутешно расстроен, что льстило в определенном смысле. Художественный критик при более близком знакомстве оказался немного занудным, ей даже понравился процесс шантажа немыми несчастиями и слезами Энтони. Но сам принцип был неверен. Она не хотела, чтобы ее любили с помощью шантажа. Особенно если это затяжной шантаж. Она предпочитала, чтобы такого рода вещи были краткими, острыми и возбуждающими. В другой раз и с кем-нибудь другим, кто не был бы художественным критиком, она бы позволила ему шантажировать ее. Но беда в том, что, кроме Сидни Гэттика, – а она не полностью уверена, сможет ли выносить голос и манеры Сидни, – в поле зрения не было никого. Мир был местом, где все занятные и волнующие вещи, казалось, ни с того ни с сего перестали происходить. Вот почему она набросилась на Энтони с тем, что называла «лечение Джоан», просто в надежде немного позабавиться и нарушить вялое течение времени.
– Как продвигается лечение? – спросила она в очередной раз в тот июльский день.
Энтони ответил длинным рассказом, тщательно отрепетированным заранее, о своем положении Почтенного Дядюшки и о том, как он утверждался в более привилегированном статусе Большого Брата; как из Большого Брата он предложил почти незаметно эволюционировать до Сентиментального Кузена, а из Сентиментального Кузена…
– На самом деле, – сказала миссис Эмберли, перебив его, – ты маешься бездельем.
Энтони запротестовал.
– Я двигаюсь медленно. Пользуюсь стратегией.
– Стратегией! – презрительно откликнулась она. – Это всего-навсего трусость.
Он отверг ее обвинение, но не мог удержаться, чтобы не покраснеть. Потому что она, конечно же, была наполовину права. Это была трусость. Несмотря на два года, проведенные в качестве любовника Мери, он все еще страдал от застенчивости, ему все еще не хватало уверенности в себе в присутствии женщин. Но его робость была не единственной тормозящей силой в этом деле. Были также угрызения совести, привязанность и верность. Но обо всем этом говорить с Мери было невозможно. Она сказала бы, что он всего лишь пытается замаскировать свой страх с помощью нескольких удобных маскарадных костюмов, просто отказалась бы поверить в искренность всех других его чувств. И беда состояла в том, что это было бы оправдание ее отказа. Потому что в конце концов эти угрызения совести, привязанность и верность не сильно проступали наружу, когда он в первый раз рассказал ей свою историю. Как часто с тех пор в бесполезных выплесках гнева он проклинал себя за то, что это сделал. И, пытаясь убедить себя в том, что ответственность лежала не целиком на его плечах, также проклинал Мери. Винил ее за то, что она не сказала ему, что он предал дружескую верность из чистого распутства и тщеславия; за то, что она не отказалась слушать его.
– Суть дела в том, – теперь Мери продолжала уже беспощадно, – что у тебя кишка тонка целовать женщину. Ты только и можешь что надевать на себя нежные и томные лица и молчаливо просить, чтоб тебя соблазнили.
– Что за чушь! – Но он краснел еще сильнее, чем раньше.
Не обратив внимания на то, что ее перебили, Мери продолжала:
– Конечно же, она не соблазнит тебя. Она слишком молода. Может быть, не слишком, чтобы самой быть соблазненной. Потому что то, что тебя тянет к ней, называется материнским инстинктом, а он есть даже у трехлетнего ребенка. Даже трехлетний ребенок почувствует, что у него от тебя сжимается сердце. Сжимается. – Она насмешливо протянула «м». – Но обольщение… – Миссис Эмберли покачала головой. – Нельзя ожидать, что оно последует скоро. И естественно, не от двадцатилетней девушки.
– Дело в том, – проговорил Энтони, пытаясь отклонить ее от болезненного анатомирования его характера, – что я никогда не находил Джоан особенно привлекательной. Слишком проста. – Он произнес это слово с выговором, характерным для Мери. – Кроме того, она еще совсем ребенок, – добавил он, моментально пожалев о том, что сказал, потому что Мери снова набросилась на него, как стервятник.
– Ребенок! – повторила она. – Мне это нравится. А как ты сам? С твоей болтовней о чайниках и горшках! Соска называет пеленку малым дитем. Хотя, конечно, – продолжала она, возобновляя атаку в том месте, где только что прервала ее, – это не более чем естественно, что ты жалуешься на нее. Она слишком ребячлива для тебя. Слишком ребячлива, чтобы набрасываться на других, и достаточно ребячлива, чтобы на нее набрасывались. Бедная девочка – она пришла не по тому адресу. Она не получит от тебя больше поцелуев, чем получает от своего сидящего во мраке раннего христианина. Даже если ты кричишь по всем углам, что ты цивилизованный…
Внезапно открывшаяся дверь прервала ее.
– Мистер Гэттик, – объявила камеристка.
Огромный, вульгарный, почти светящийся внутренним свечением самодовольства и уверенности, Сидни Гэттик гусиной походкой вполз в комнату. Его голос звучно загудел, когда он высказал свои приветствия и осведомился о здоровье. Глубокий, мужественный голос, какой может быть только у актера-режиссера, играющего роль силача. А его профиль, внезапно заметил Энтони, слишком походил на актерский – слишком добротный, чтобы быть естественным. И в конце концов, продолжал размышлять он, чувствуя презрение, порожденное ревностью и некоторой завистью к светскому успеху других, кто были эти адвокаты, если не актеры? Умные актеры, но ум у них как у прохожих зевак, способны зазубрить обстоятельства дела и все забыть через минуту после того, как оно окончено, как зазубривалась формальная логика или Деяния апостолов. Никакого нормального образования и связного мышления. Просто ум экзаменуемого вложен в тело актера и выражается тягучим актерским голосом. И за это общество платит человеку пять или шесть тысяч фунтов в год. И человек считается важным, мудрым, замечательным; человек чувствует себя в положении патрона. Нельзя сказать, чтоб это было престижно, уверял себя Энтони, когда тебе покровительствует этот продувной, гудящий шарлатан. Было впору рассмеяться – до такой степени это было нелепо! Но, несмотря на нелепость и даже когда люди смеялись, покровительство казалось болезненно унизительным. То, например, как он играл сейчас видного пожилого военного, фальшивого сельского сквайра и, похлопывая его по плечу, говорил: «Ну, Энтони, парнишка мой!» – это было совершенно невыносимо. Хотя в данном случае невыносимость, как казалось Энтони, стоила того, чтобы с нею смириться. Человек мог быть докучливым и амбициозным дураком, но по крайней мере его появление уберегло его от нападок Мери. В присутствии Гэттика она не могла бомбардировать его упреками, касающимися Джоан.
Но он и без Мери и ее докучливой злонамеренной болтовни почувствовал немедленную потребность в чем-то забавном и волнующем. Немногие вещи более восхитительны, чем намеренный дурной вкус, более забавны, чем замешательство кого-то другого. Перед тем как Гэттик успел закончить свои предварительные гудения, она опять вернулась к старой, болезненной теме.
– Когда вам было столько же лет, сколько сейчас Энтони, – начала она, – всегда ли вы ждали, пока женщина соблазнит вас?
– Меня?
Она кивнула.
Оправившись от удивления, Гэттик улыбнулся понимающей улыбкой опытного донжуана и как можно более мужественным голосом первого любовника произнес:
– Конечно же, нет. – И самодовольно рассмеялся. – Наоборот, боюсь, что я врывался туда, куда ангелы боятся входить. Иногда получал пощечины. Но чаще всего нет. – Он пошловато подмигнул.
– Энтони предпочитает сидеть смирно, – сказала миссис Эмберли. – Сидеть смирно и ждать, пока женщина сделает первый шаг.
– О, это плохо, Энтони, это очень плохо, – прогудел Гэттик, и его голос снова заставил вспомнить усы военного и твидовый костюм сельского джентльмена.
– Вот бедная девочка, которая хочет, чтобы ее поцеловали, – продолжала миссис Эмберли, – но просто не находит мужества взяться рукой за талию и сделать это.
– Нечего сказать в свою защиту, Энтони? – спросил Гэттик.
Пытаясь, но довольно неуспешно, притвориться, что ему все равно, Энтони пожал плечами.
– Только вот это и неверно.
– Что неверно? – спросила Мери.
– Что у меня нет смелости.
– Но правда то, что ты не поцеловал. Не так ли? – настаивала она на своем. – Ведь так? – И когда ему пришлось признать, что это правда, она заявила: – Я всего лишь делаю очевидные выводы из фактов. Вы юрист, Сидни. Скажите мне, справедливо ли это заключение?
– Абсолютно справедливо, – произнес Гэттик, и сам лорд-канцлер не говорил бы более веско. Он был окружен аурой мантий и пышных париков. Он был воплощенное правосудие.
Энтони открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем снова его закрыл. Перед лицом Гэттика и Мери, упрямо считающей, что она очень «цивилизованна», он не мог прямо выразить свои чувства. И если это и были его истинные чувства, почему (вопрос снова возник сам собой), почему он рассказал ей об этом? И рассказал в ее своеобразном стиле – как будто он был режущим по живому комедиантом. Тщеславие, распутность, и затем, конечно, тот факт, что он был влюблен в Мери и старался ей угодить любой ценой, даже ценой того, что он искренне чувствовал. (И в момент рассказа, как он был вынужден признать, он не чувствовал ничего, кроме желания быть интересным.) Но опять же это невозможно было выразить словами. Гэттик не знал об их связи и не должен знать. И даже если бы не Гэттик, было бы сложно, почти невозможно объяснить это Мери.
Она бы подняла на смех его романтические бредни – насчет Брайана, насчет Джоан, даже насчет себя, сочла бы его смешным и нелепым из-за того, что он делает трагедию из ничтожной любовной интрижки.
«Люди склонны настаивать, – говаривала она, – на том, чтобы относиться к mons Veneris[175]175
Венерин холм, лобок (лат.).
[Закрыть] так, как если бы это была гора Эверест. Слишком глупо!»
Когда он наконец начал:
– Я не делаю этого… – ему пришлось ограничиться словами, – …потому что не хочу.
– Потому что ты не осмеливаешься, – воскликнула Мери.
– Осмеливаюсь.
– Нет. – Ее темные глаза сверкнули. Она была в высшей степени довольна собой.
Гудя, но с долей усмешки в низком голосе лорд-канцлер снова попытался отстоять свои позиции.
– Это сокрушительный удар по тебе, – сказал он.
– Готова держать пари, – сказала Мери. – Пять шансов против одного. Если тебе удастся сделать это в течение месяца, я дам тебе пять фунтов.
– Но я говорю тебе, что не хочу.
– Нет, так просто ты не отвертишься. Пари есть пари. Пять фунтов тебе, если ты успешно справишься с задачей за месяц. А если нет, то ты заплатишь мне один фунт.
– Вы слишком щедры, – заметил Гэттик.
– Всего один фунт, – повторила она. – Но я никогда не буду с тобой общаться.
Несколько секунд они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Энтони сильно побледнел. Сжав губы и наклонив голову, Мери улыбалась. за полузакрытыми веками ее глаза горели злобной усмешкой.
Почему ей нужно было быть такой грубой с ним, размышлял он, такой законченной стервой? Он ненавидел ее, ненавидел еще больше из-за того, что бешено хотел ее, из-за воспоминаний и предвкушения тех удовольствий, из-за ее свободного ума и эрудиции, словом, из-за того, что заставляло его неизбежно делать все, что она хотела. Даже тогда, когда он знал, что это глупо и неверно.
Наблюдая за ним, Мери видела взбунтовавшуюся ненависть у него в глазах, и, когда он наконец опустил их, она разгадала в них знак собственного триумфа.
– Больше никогда, – повторила она. – Никогда совсем.
Дома, когда Энтони вешал шляпу на вешалку в прихожей, отец окликнул его:
– Загляни сюда, сынок.
«Черт!» – выругался про себя Энтони; у него на лице явно отразилась досада, но мистер Бивис был слишком занят, чтобы заметить это, когда Энтони вошел в его кабинет.
– Я тут немного поразвлекся с картой, – сообщил мистер Бивис, сидевший за письменным столом с развернутым листком «Швейцарского артиллерийского обозрения». У него была страсть к картам, страсть, которой он частично был обязан своей любви к прогулкам, частично профессиональному интересу к именам собственным. – Комбаллас, – пробормотал он про себя, не глядя на карту. – Шамоссер. Очаровательно, очаровательно! – Затем, повернувшись к Энтони, сказал: – Чрезвычайно сожалею о том, что твоя совесть не позволяет тебе взять отпуск и отправиться с нами.
Энтони, выдвинувший исследовательскую работу в качестве отговорки для того, чтобы остаться в Англии с Мери, веско кивнул головой.
– Совершенно невозможно читать серьезные книги на большой высоте, – пояснил он.
– Насколько я могу предсказать, – произнес мистер Бивис, снова занявшийся картой, – у нас будут веселые гуляния и восхождения на Дьябелере. И какое восхитительное это название! – добавил он кстати. – Ввысь на Коль-дю-Пийон, например. – Он проследил пальцем извилистый путь дороги. – Видишь?
Энтони нагнулся немного ближе и бегло взглянул.
– Нет, не увидишь, – продолжал мистер Бивис. – Я все закрыл рукой. – Он выпрямился и полез сначала в один карман, потом в другой. – Где же у меня, – сказал он, нахмурившись; затем внезапно самая смелая филологическая шутка пришла ему в голову, и нахмуренные брови сменились лукавой улыбкой. – Где у меня этот маленький пенис? Или, если точнее, крошечный карандашик?…
Реакцией Энтони была только бледная, смущенная мина в ответ на озорное подмигивание отца.
– Pencil, – был вынужден объяснить мистер Бивис. – Penecillus – уменьшительное от peniculus – двойного уменьшительного от penis, что, как ты знаешь, – продолжил он, наконец вынув карандаш из левого внутреннего кармана, – первоначально означало «хвост». А теперь давай снова произведем атаку на Пийон. – И поднеся карандаш к карте, он проследил им зигзагообразные линии. – А когда мы поднимемся на вершину Кол, – говорил он, – то возьмем курс на северо-запад до склона Мон-Форнеттац, и потом…
Это был первый раз, думал Энтони, когда отец в его присутствии заговорил на тему физиологии пола.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































