Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
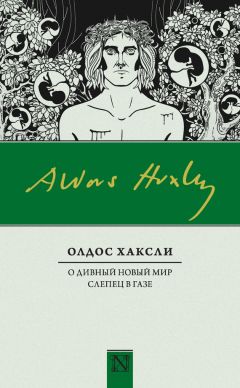
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 44 страниц)
Глава 12
30 августа 1933 г.
В бахрому их полузабытья вплелся какой-то едва слышный звук. Постепенно нарастая, он превратился в рокот, похожий на шум, который слышен из поднесенной к уху морской раковины. Через секунду рокот перешел в грохочущий рев. Энтони лениво приоткрыл глаза, увидел прямо над собой аэроплан и снова зажмурился от яркой синевы неба.
– Черт бы побрал эти машины! – в сердцах выругался он. Потом, усмехнувшись, добавил: – Должно быть, им очень хорошо нас видно.
Элен не ответила, но улыбнулась, не открывая глаз, представив себе, как у пилота выкатываются из орбит глаза при виде столь неприличного зрелища! В самом появлении этого небесного гостя было что-то невероятно комичное.
– Давид и Вирсавия [79]79
Давид и Вирсавия – согласно Ветхому Завету, царь израильско-иудейский Давид, увидев купающуюся Вирсавию, влюбился в нее и взял ее в жены. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], – продолжил Энтони. – Жаль беднягу, при скорости сто миль в час…
Раздался собачий лай. Энтони открыл глаза как раз в тот момент, когда от самолета отделился какой-то темный предмет и стремительно понесся прямо на них с Элен. Вскрикнув, Энтони непроизвольно закрыл лицо руками. Раздался страшный, но приглушенный удар. Было такое впечатление, что в паре ярдов от того места, где они лежали, на плоскую крышу с огромной высоты рухнул ком грязи. Кожу оросила струя теплой жидкости, которая быстро остыла, вызвав чувство неприятного холода. Наступило секундное молчание.
– Боже, – наконец прошептал Энтони. Они оба с ног до головы были забрызганы кровью. В большой алой луже у их ног лежал обезображенный до неузнаваемости труп фокстерьера. Рев аэроплана, снова превратившись в легкий шум, внезапно стих. В наступившей тишине снова раздалось пронзительное стрекотание цикад.
Энтони глубоко вздохнул; затем, сделав над собой усилие, рассмеялся. Смех, впрочем, вышел довольно натянутым.
– Вот и еще одна причина не любить собак. – Он поднялся, взглянул себе под ноги, и лицо его исказилось от отвращения – Энтони увидел свое обрызганное кровью тело. – Может быть, нам стоит принять ванну? – спросил он, обернувшись к Элен.
Она сидела совершенно неподвижно, уставясь широко открытыми глазами на труп собаки. На бледном как полотно лице яркой линией выделялась полоса крови, протянувшаяся от подбородка до угла левого глаза.
– Ты похожа на леди Макбет, – упорно продолжал фиглярничать Энтони. – Attons![80]80
Пошли! (фр.)
[Закрыть] – Он коснулся ее плеча. – «Прочь, проклятое пятно!»[81]81
«Прочь, проклятое пятно!» – реминисценция из шекспировского «Макбета» (акт V, сц. 1). (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] Эта пакость на коже уже начинает сворачиваться. Как сок цикуты.
Вместо ответа Элен закрыла лицо руками и разрыдалась.
На мгновение Энтони застыл на месте, глядя на скорчившуюся в рыданиях женщину. Во всем ее облике проступала полная безнадежность, настолько полная, что Элен, казалось, забыла о своем залитом кровью обнаженном теле. Слушать ее рыдания было нестерпимо. «Как цикута» – его собственные слова немилосердным эхом отдавались в ушах Энтони. В его душе всколыхнулась жалость и безумная любовь к этой уязвленной и страдающей женщине, к этой личности, да, личности, которую он сознательно игнорировал, словно она не существовала или существовала только для телесных наслаждений. Теперь, когда она, стоя на коленях, рыдала у его ног, вся нежность, которую он испытывал к ее телу, вся сила, скрытая в их чувственности, казалось, прорвали плотину и хлынули наружу, осветив, словно молнией, все то, что он испытывал по отношению к этой личности, к этому воплощенному духу, который, ощущая полное свое одиночество, горько рыдал, закрыв лицо руками.
Он опустился на колени рядом с Элен и сделал движение, которое должно было выразить то, что он теперь чувствовал по отношению к ней, – Энтони обнял ее за плечи.
Но стоило Энтони коснуться Элен, как она вздрогнула от отвращения и в каком-то остервенении неистово затрясла головой.
– Но, Элен, – запротестовал он в тупом убеждении, что происходит какое-то недоразумение, что она не может в этот момент не чувствовать и не переживать того, что чувствует и переживает он. Надо только заставить ее понять, какой переворот только что произошел в его душе. Он снова попытался положить руку на ее плечо.
– Но я… Ты вовсе мне не безразлична, я очень глубоко за тебя переживаю… – Даже сейчас он упрямо не желал произнести слово «люблю».
– Не прикасайся ко мне! – закричала она, с трудом разжав губы и отшатнувшись от него, как от чумного.
Он убрал руку, но не сдвинулся с места, склонившись над ней в смущенном и жалком молчании. Он вспомнил время, когда она очень хотела, чтобы он позволил любить себя, и как он избегал ее, отказываясь видеть в ней человека и не давая ей большего, нежели минутное и непостоянное телесное влечение. В конце концов она сдалась и приняла его условия – приняла полностью, и вот…
– Элен, – снова заговорил он. Она обязательно должна, просто обязана его понять. Он заставит ее это сделать.
Элен снова тряхнула головой.
– Оставь меня в покое, – сказала она, и, поскольку он не двинулся с места, Элен отняла руки от вымазанного кровью лица и посмотрела на него. – Ты что, не можешь уйти? – спросила она, с видимым усилием стараясь придать своему лицу холодное и бесстрастное выражение. Внезапно по ее щекам вновь потекли слезы. – Ну, пожалуйста, прошу тебя, уйди! – выкрикнула она, как заклинание. Голос ее пресекся, и Элен, отвернувшись, снова закрыла лицо руками.
Энтони минуту колебался; затем, поняв, что будет еще хуже, если он останется, поднялся и направился в дом. «Ей надо дать время, – сказал он себе. – Дать ей время».
Он принял ванну, оделся и спустился в гостиную. Фотографии были разбросаны на столе и том виде, в каком он их оставил. Он сел и методично начал сортировать их по темам, складывая в маленькие стопки. Мери в шляпе с пером, Мери в вуали садится в довоенный «Рено», Мери на пляже в Дьепе, одетая в лиф с рукавами до локтей и панталоны, прикрытые юбочкой до колен. Его мать кормит голубей в сквере на площади Святого Марка ; а вот ее могила на Лоллингдонском церковном кладбище. Его отец с альпенштоком, привязанный к страховке, тянущейся вверх по заснеженному горному склону, вот он с Полин и двумя детьми. Дядя Джеймс в соломенной шляпе в крапинку; вот он в гребной лодке; вот он же разговаривает десять лет спустя с выздоравливающими солдатами в больничном саду. Брайан. Брайан с Энтони в Балстроуде; Брайан в лодке с Джоан и миссис Фокс; Брайан в шотландском озерном крае. Это девушка, с которой Энтони переспал в Нью-Йорке в двадцать седьмом году, это она?… Его бабушка. Его тетки. Полдюжины снимков Глэдис…
Полчаса спустя он услышал шаги Элен, осторожно спускающейся по крутой лестнице, потом ее же стремительную походку по коридору. Из ванной послышался плеск воды.
Время, ей обязательно надо дать время прийти в себя. Он решил вести себя так, словно ничего не случилось. Поэтому, когда она вошла, он приветствовал ее почти весело.
– Ну? – бодро спросил он, подняв глаза от фотографий. Но стоило Энтони посмотреть на это бледное, собранное, ставшее каменным лицо, как сердце его наполнилось мрачными предчувствиями.
– Я ухожу, – сказала она.
– Прямо сейчас, не пообедав?
Она кивнула.
– Но почему?
– Я так хочу, – коротко ответила Элен.
Энтони в недоумении замолчал, думая, стоит ли возражать, настаивать, говорить ей те слова, которые он собирался сказать ей на крыше. Однако ее каменное лицо ясно говорило, что все попытки окажутся тщетными. Позже, когда она оправится от первого потрясения, когда пройдет время…
– Ну ладно, – согласился он. – Я отвезу тебя в гостиницу.
Элен отрицательно покачала головой.
– Я пойду пешком.
– В такую жару?
– Я пойду пешком, – повторила она тоном, не терпящим возражений.
– Ну что ж, если ты предпочитаешь жариться на солнце… – Он безуспешно попытался улыбнуться.
Через стеклянную дверь она вышла на террасу, и ее каменное бледное лицо вновь вспыхнуло в солнечных лучах, отраженных от красной пижамы. Идя рядом с Элен, Энтони подумал: «Она снова возвращается в свой ад».
– Зачем ты вышел? – спросила она.
– Я провожу тебя до ворот.
– В этом нет никакой нужды.
– Я так хочу.
Она не вернула ему улыбку и продолжала идти, храня молчание.
По обе стороны лестницы, ведущей с террасы, росли два высоких развесистых родохитона. В жарком воздухе аромат, источаемый цветами (казалось, заключавший в себе квинтэссенцию зноя), был невероятно силен и сладок.
– Восхитительно, – вслух произнес Энтони, когда они с Элен вступили в ауру цветущих деревьев. – Слишком восхитительно. Да ты посмотри! – произнес он изменившимся голосом и схватил ее за рукав. – Посмотри, прошу тебя!
На одно из розовато-лиловых соцветий уселась яркая, как новенькая игрушка, бабочка-махаон. Светло-желтые крылья с черными точками и похожими на глаза синевато-пунцовыми пятнами были вытянуты навстречу солнцу. Передние края крыльев, изогнутые наподобие сабельного клинка, плавно переходили в красивый изгиб, заканчивающийся двумя вытянутыми хвостиками нижней пары крыльев. Бабочка казалась символом, таинственным иероглифом, обозначающим радость и стремительный полет. Расправленные крылья подрагивали от избытка жизни и рвущейся наружу энергии. Быстрыми, жадными, но невероятно точными целенаправленными движениями маленькое создание погружало хоботок в узкие чашечки цветков. Молниеносное движение – и хоботок в цветке, вот он уже снаружи и снова погружается, но уже в другой цветок. В считаные секунды насекомое обследовало все цветы и переместилось к соседним соцветиям. Скорее. Скорее погрузить хоботок в ждущий этого прикосновения цветок, испить из скрытого в нем источника жаркой пьянящей сладости! Какое неустанное вожделение, какая сильная страсть целеустремленной и отточенной до совершенства ненасытности!
Долгую минуту они молча созерцали эту картину. Потом Элен вдруг протянула руку и качнула соцветие, на котором сидела бабочка. Но прежде чем пальцы женщины успели коснуться цветка, яркое легкое создание стремительно взлетело. Быстрый взмах крыльев, потом красивый планирующий полет, еще один взмах, и бабочка исчезла за домом.
– Зачем ты это сделала? – спросил он.
Сделав вид, что не расслышала вопроса, Элен сбежала по ступенькам на посыпанную гравием дорожку. У ворот она остановилась и обернулась.
– Прощай, Энтони.
– Когда ты теперь придешь? – спросил он.
Несколько секунд Элен молча смотрела на Энтони, потом покачала головой.
– Я не приду.
– Не придешь? – спросил Энтони. – Что ты хочешь этим сказать?
Но она уже захлопнула за собой калитку и быстрым танцующим шагом направилась по пыльной дороге под соснами.
Энтони смотрел ей вслед, понимая, что не стоит даже пытаться что-то предпринимать, по крайней мере сейчас. Этим он только усугубит положение. Возможно, позже с ней надо будет поговорить, может быть, даже сегодня вечером, если она найдет для этого время… Однако, возвращаясь в дом и проходя мимо никому теперь не нужных родохитонов, Энтони с беспокойством подумал, что и позже никакие его попытки к примирению ни к чему не приведут. Элен была очень упряма. Да и какие права имеет он на Элен после всех тех месяцев, что он не давал ей сблизиться с собой?
– Ну и дурак же я, – произнес Энтони, открывая кухонную дверь. – Я просто сумасшедший.
Он сделал усилие обрести здравость рассудка путем приуменьшения и вытеснения из памяти всего случившегося. Естественно, было неприятно. Но не менее ли неприятно было оправдать Элен после того, как она вела себя как героиня ибсеновского[82]82
Ибсен, Генрик (1828–1906) – норвежский драматург. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] «Кукольного дома»? Здесь не было дома и не было куклы, она действительно не имела возможности пожаловаться на то, что старина Хью держал ее под замком, или на то, что он сам лелеял какие-то планы относительно ее независимости. Напротив, он настоял на том, чтобы она оставалась свободной. Его свобода была равносильна ее; если бы она полностью подчинилась ему, он, несомненно, пал бы к ее ногам.
То, что касалось его собственных чувств там, на крыше, этого порыва нежности, то жажда познания и любви к страдающему, к внезапно возбудившему желание, притягательному, несмотря ни на что, телу – это было бы подлинным, несомненным, то есть подтверждалось бы реальным опытом. Но в конце концов их грех можно было объяснить, оправдать, назвать простым преувеличением, сказать, что он был содеян под воздействием внезапно вспыхнувшей страсти, его сочувствия и ее отчаяния. Главное было за временем. Она бы еще раз послушала то, что он хотел сказать, и не стала бы еще раз повторять то, от чего у него вяли уши.
Он открыл холодильник и обнаружил, что мадемуазель Кайоль приготовила холодную телятину и салат из огурцов и помидоров. Мадемуазель Кайоль испытывала слабость к холодной телятине и постоянно кормила его ею. Энтони почему-то особенно не любил ее, но предпочел съесть, чем обсуждать счет с экономкой. Целые недели проходили подчас, а у него не возникало необходимости сказать больше, чем Bonjour[83]83
Здравствуйте (фр.).
[Закрыть] или A demain, M-me Cayole[84]84
До завтра, мадемуазель Кайоль (фр.).
[Закрыть] или Il fait beau aujourd’hui[85]85
Завтра будет хорошая погода (фр.).
[Закрыть] или Quel vent![86]86
Какой ветер! (фр.)
[Закрыть], в зависимости от случая. Каждое утро она приходила на два часа, делала уборку, готовила еду, накрывала на стол и снова уходила. Он получал услуги, но совершенно не обращал внимания на ту, которая прислуживала. Все его обустройство, считал он, было самим лучшим, насколько могло быть. Холодная телятина – слишком маленькая цена за такую службу.
Энтони уверенно сел за стол на террасе в тени большого фигового дерева и за едой переворачивал страницы последней записной книжки. Нет в жизни ничего лучше работы, уверял он, ничего, что так помогает отделаться от какого-то сокровенного чувства, ничто не действует так успокаивающе, ничто не бывает так уместно и удачно, как хорошее обобщение. Ему в глаза бросилось слово «свобода», и, вспомнив удовлетворение, которое он чувствовал несколько месяцев назад, когда впервые увидел эти мысли на бумаге, начал читать.
«Эктон хотел написать историю Человека как историю идеи о Свободе, не желая в то же время писать историю рабства.
Сущность рабства. Или рабств, ибо в результате продолжительных попыток понять сущность Свободы человек постоянно меняет одну форму рабства на другую.
Первичное рабство не есть рабство на пустой желудок и на черный день. Одним словом, это есть природное рабство. Уход от природы через социальную организацию и технический прогресс. В современном городе можно забыть, что существует такая вещь, как природа, в особенности природа в ее негуманных и враждебных проявлениях, то есть стихия. Половина населения Европы живет во вселенной, сконструированной полностью в лабораторных условиях.
Когда преодолено естественное рабство, неизменно встает другая форма зависимости – это зависимость от институтов. В связи с этим точно так же развивается история зависимости от институтов.
Природа бессмысленна. Институты, являющиеся плодом людского труда, имеют смысл и цель. Обстоятельства меняются быстрее, чем общество. Что однажды было бы актуально, теперь никуда не годится. Отживший институт подобен человеку, который пытается применить логическое мышление в мифической ситуации, созданной навязчивой идеей или галлюцинацией. Подобное положение дел возникает, когда институты обращаются к букве закона в каждом индивидуальном случае. Институт будет поступать разумно, если обстоятельства, изображаемые им, существуют в действительности. Но в действительности они никогда не существуют. Рабство у института подобно зависимости от параноика, страдающего от самообмана, но имеющего некоторые интеллектуальные способности. Природное рабство подобно зависимости от идиота, у которого даже нет ума, чтобы страдать от самообмана.
Восстание против институтов со временем приводит к анархии. Но анархия – раба природы, а для цивилизованного человека природное рабство еще более невыносимо, чем рабство от учреждений. Путь к покорению анархии лежит через создание новых институтов. Иногда анархию удается победить без всякого временного порабощения – люди просто переходят от одних институтов к другим.
Институты меняются в попытке реализовать идею Свободы. Чтобы оценить факт нового рабства, требуется какое-то время. Так получается, что во всех поползновениях против институтов есть нечто праздничное, что напоминает медовый месяц, когда люди верят, что свобода наконец достигнута. «Блажен был тот, кто выжил в эту ночь». И не только в ночь Французской революции. Какое неизъяснимое счастье, например, лежит в рассвете францисканского движения, в возникновении христианства и ислама! Медовый месяц может длиться двадцать или тридцать лет. Затем новое рабство насаждается на человеческое сознание, и становится ясно, что идея Свободы не реализуется последней переменой, что новые институты способны порабощать так же, как и старые. Что же делать? Сменить новые институты на еще более новые? А когда медовый месяц кончится? Снова сменить? И так далее – вечная революция, длящаяся незнамо сколько.
В любом конкретном обществе свобода существует только для немногочисленных избранных. Благоприятные экономические обстоятельства – вот условие по крайней мере частичной свободы. Но если свобода более или менее полная, то должны быть также благоприятные интеллектуальные, психологические, биографические обстоятельства. Личности, которые сумеют рационально использовать эти обстоятельства, не рабы учреждений. Для них учреждения существуют в виде твердых брусьев, на которых они могут выделывать какие угодно акробатические упражнения. Малоподвижность общества в целом делает возможным для этого элитного меньшинства блуждание в обычных интеллектуально-нравственных потемках без большого риска как для себя, так и для общества. Все чего-либо стоящие свободы, если они имеют практическое приложение, приводят к положительному результату только при условии некоей формы всеобщего рабства».
Энтони закрыл свою книжку, чувствуя, что не может более прочесть ни строчки. Heт, его слова не казались менее правдивыми из-за того, что он сделал тогда, когда писал их. В особом смысле и на особом уровне они были правильны. Почему же тогда все представлялось ему напрочь фальшивым и ненатуральным? Не желая обсуждать этот вопрос с самим собой, он возвратился домой и сел за «Историю механических изобретений» Ашера.
Полчетвертого он внезапно вспомнил о мертвой собаке. Прошло уже несколько часов, и в такую жару… Он поспешил обратно в мастерскую. Почва в неухоженном саду была выжжена солнцем так, что выглядела как кирпич; к тому времени как он вырыл могилу, он покрылся испариной. Затем с лопатой в руках поднялся на крышу, где лежала собака. Пятна крови на шкуре, на парапете, на матрасах приобрели цвет ржавчины. После нескольких неудачных попыток он продолжил месить тушу лопатой и заталкивать ее, полную мух, не реагировавших на взмахи железа, на парапет. Затем он спустился вниз и вышел в сад, упрямо отмахиваясь от отвратительной яйценосной своры, вновь поддел тело на лопату и снова потащил его, с ужасом волоча по рыхлой земле в могилу. Вернувшись домой, он почувствовал себя таким больным, что был вынужден хлебнуть бренди. После этого он спустился к морю и долго плавал в пенистой синеве.
В шесть часов, снова одевшись, он сел в машину и поехал в отель, чтобы поговорить с Элен. К этому времени, подсчитал он, она уже оправилась от первого шока и была готова к разговору с ним. Забыв все о «Кукольном доме» и святости, которую было условлено соблюдать, он преисполнился невероятного воодушевления. Через несколько минут он вновь увидит ее. Будет рассказывать ей об открытиях, которые внезапно сделал сегодня утром: то, что он был дураком и даже хуже, чем дураком… Было бы тяжело, почти невозможно говорить такие вещи о себе, но он думал, что скажет сейчас их, и это наполняло его ликованием.
Он подъехал к двери отеля и поспешил в холл.
– Madame Ledwidge est-elle dans sa chambre, mademoiselle?
– Mais non, monsieur, Madame vient de partir.
– Elle vient de partir?…
– Madame est allée prendre le rapide à Toulon[87]87
– Мадемуазель, мадам Ледвидж у себя в комнате?
– Нет, месье, мадам собирается уезжать.
– Собирается уезжать?
– У мадам билет на скорый поезд в Тулон (фр.).
[Закрыть].
Энтони взглянул на часы. Поезд уже отправился. В маленькой ломаной машине нужно добраться до Марселя перед тем, как можно снова отправиться в Париж.
– Merci, mademoiselle, merci[88]88
– Спасибо, мадемуазель, спасибо (фр.).
[Закрыть], – сказал он, в силу привычки вновь опускаясь до чрезмерной вежливости, с помощью которой спасался от надоедливого мира низших классов.
– Mais’ de rien, monsieur[89]89
– Не за что, месье (фр.).
[Закрыть].
Он вновь поехал домой, уныло раздумывая, нужно ли было благодарить служащую отеля за любезность. В его отсутствие звонил почтальон. Пришло письмо от посредника с предложением продать по крайней мере часть акций золотых приисков, полученных в наследство от дяди Джеймса. По всей видимости, они не принесут больше дохода, и ввиду этого наиболее разумным было бы извлечь все, что можно, из настоящих цен и вложить заново в такие макрокомпании, как… Он отбросил письмо в сторону. Море случайностей, как всегда, грозило затопить его, злобно выплескивая роковое предложение. Теперь, в депрессии, он был состоятельнее, чем когда бы то ни было. Состоятельнее, в то время как дела других шли гораздо хуже. Свободнее, пока они находились в бездонной яме. «Поликратов перстень»… Он выглядел, словно боги уже начали свою месть.
Энтони лег спать рано и в два часа проснулся от кошмарного сна, тревожившего его с детства и мучившего в последнее время. Содержание его оставалось неизменным. Вокруг не было видно ничего, но он знал, что кругом были люди, казавшиеся призраками. Он взял что-то со стола и съел, и тотчас же от обилия слюны пища превратилась в жидкую кашицу, став клейкой и в то же время вязкой, как кляп, измазанный жевательной резинкой, засохшей на зубах, на языке и на нёбе. Невыразимо отвратительная, все уплотняющаяся и затвердевающая масса затрудняла дыхание. Он пытался сглотнуть, пытался вызвать рвоту, несмотря на призрачное, но ошеломляющее присутствие незнакомцев, но безуспешно. В конце концов он засунул два пальца в рот и тщился освободиться от рвотной массы. Но все напрасно. Комок продолжал расширяться, пленка затвердевала и уплотнялась. Наконец он погрузился в обморочный сон. В эту ночь в комке было полно собачьей шерсти. Он проснулся с содроганием и теперь уже не мог заснуть. Огромная череда вытесненных в подсознание воспоминаний встала перед ним вновь как наваждение. Эти снимки. Его мать и Мери Эмберли. Брайан в меловом карьере, разбуженный соленым запахом разморенной солнцем плоти, затем мертвый у подножия скалы, весь в мухах, как та собака.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































