Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
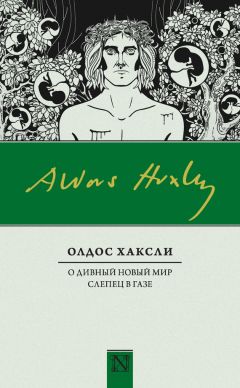
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
Глава 39
25 марта 1928 г.
Стоило Элен прикрыть глаза, как за веками во всей своей дикости и хаотичности вновь оживала красноватая мгла. Казалось, словно это был железнодорожный вокзал, полный снующих туда-сюда людей и громких голосов; цвета накалялись, силуэты резко выделялись, расцвечиваясь четкой до нереальности оболочкой форм и оттенков необычайной яркости. Было такое впечатление, что лихорадка собрала в ее голове многочисленную толпу, включила яркий свет и на полную мощность завела граммофон. На неестественно яркой сцене самочинно являлись и исчезали странные силуэты, злостно не считаясь с желаниями Элен. Являлись и исчезали, говорили между собой, жестикулировали, непрестанно играли свою изысканную безумную драму, не жалея ее, измученную, не принимая в расчет ее страстного желания обрести покой и одиночество. Иногда, в надежде, что окружающий мир затмит эти словно чаплиновские перемещения, она открывала глаза. Но свет причинял ей боль, и, несмотря на бутончики роз на обоях, несмотря на белый пододеяльник и шишки в изголовье кровати, несмотря на зеркало, щетки для волос, флакон одеколона, эти образы на обратной стороне век продолжали жить своей частной жизнью, никем не обеспокоенные. Сумасшедшей, лихорадочной жизнью – теперь уж совершенно неправдоподобной, словно рассказ, сочиненный кем-то другим, но тем не менее мучительно уместной, мучительно ее.
Этим утром, например, этим утром (который был час? Время вдруг стало бесконечным и несуществующим; но по крайней мере это было как раз после того, как мадам Бонифе вошла проведать ее, удушая – удушая запахом чеснока и грязного белья) здесь была огромная прихожая со статуями. Золотые статуи. Она узнала Вольтера пятидесяти футов в вышину, и рядом стоял один из огромных китайских верблюдов. Люди располагались группками, прекрасно смотрясь, как актеры на сцене. И действительно, они были на сцене. Играли пьесу с интригой, пьесу с любовными сценами и револьверами. Как ярко светила рампа! Как внятно и патетично они произносили свой текст! Каждое слово звучало, словно колокольчик, каждая фигура была как светящаяся лампа.
«Руки вверх… Я люблю тебя… Если она попадет в ловушку…» И все-таки кто они были, что значили их слова? И вот по какой-то непонятной причине они стали вслух производить арифметические вычисления. Шестьдесят шесть ярдов линолеума по три фунта одиннадцать шиллингов за ярд. А женщина с револьвером внезапно оказалась мисс Космас. Вольтер куда-то исчез и с ним же позолоченный верблюд. Остался только фон. Мисс Космас всегда ненавидела ее за то, что она не успевала по математике, всегда была жестокой и несправедливой. «По три одиннадцать, – кричала мисс Космас, – по три и одиннадцать». Но номер мадам Бонифе был одиннадцать, и Элен снова и снова гуляла по улице Томб-Иссуар, чувствуя себя все более и более нездоровой с каждым шагом. Шла все медленнее и медленнее в надежде никогда туда не дойти. Но дома очумело неслись ей навстречу, как стены движущихся эскалаторов метро. Неслись на полной скорости навстречу ей, и затем, когда номер одиннадцать поравнялся с ней, замерли намертво, не издав ни звука. «Мадам Бонифе. Sage Femme de lère Classe[189]189
Мудрая женщина 1-го класса (фр.).
[Закрыть]». Она стояла и разглядывала надпись, так же, как и на самом деле два дня назад; затем прошла вперед – так же, как тогда. «Ну еще одну минутку», – молила она себя, пока не справилась со своей нервозностью, пока не стала чувствовать себя менее больной. Пошла снова в начало улицы и оказалась в садике вместе со своей матерью и Хью Ледвиджем.
Это был садик, обнесенный стеной, где на одном конце росли сосны. И из этого подлеска выбегал человек – человек с какой-то жуткой кожной болезнью на лице. Красные пятна, струпья и шелушение. Ужасно! Но ее бабушка только и нашла сказать, что «Господь плюнул ему в лицо», и все засмеялись. Но в середине леса, продолжала грезить она, стояла кровать, и она тотчас улеглась на нее, глядя на огромные толпы людей, играющих другую пьесу, а может быть, ту же самую. Они были яркими из-за света рампы, и их голоса звучали, как колокола, у нее в ушах, но это был неразборчивый, сливающийся воедино гомон. И там был Джерри, сидевший на краешке постели, и целовал ее, ласкал ее плечи, грудь. «Джерри, не надо! И эти люди – они могут увидеть нас. Не делай этого, Джерри!» Но когда она попыталась оттолкнуть его, он был неподвижен, словно глыба гранита, и все это время его руки, его губы доставляли легкое и мимолетное наслаждение ее коже; и стыд, отчаяние оттого, что ее видит весь народ, причинял в то же время какое-то физическое страдание – еще более щекотливое, дикое ощущение, уже напоминающее не мотылька, а какого-то огромного жука, вращающегося, жужжащего, и все же приятного. «Не надо, Джерри, не надо!» И внезапно она вспомнила все – ту ночь после того, как умер котенок, все последующие ночи и затем первые признаки охлаждения, растущее беспокойство и тот день, когда она звонила ему и получила известие о его отъезде в Канаду, затем, наконец, вложенные деньги и тот вечер с матерью… «Я ненавижу тебя!» – кричала она, но, когда ей удалось последним нечеловеческим усилием оттолкнуть его, она почувствовала настолько сильный приступ боли, что на мгновение забыла весь свой бред и оказалась целиком во власти животных, физических ощущений. Постепенно боль утихла, и потусторонний мир, созданный лихорадкой, вновь взял ее в свои объятия. Джерри перед ней больше не было – внезапно возникла мадам Бонифе, держа что-то в руке «Je vous ferai un peu mal»[190]190
«Могу сделать вам немного больно» (фр.).
[Закрыть]. И оказалось, что не было никакой кровати в сосновой рощице, а кушетка в гостиной мадам Бонифе. Она сжала зубы точно так же, как она сжимала их тогда. Только на этот раз все было гораздо хуже, потому что она знала, что сейчас произойдет. И в ярком свете опять появились люди, игравшие сумасшедшую пьесу. И, лежа там, на кушетке, она сама была частью действия снаружи и наконец перестала быть собой, превратившись в кого-то другого, кого-то в купальном костюме и с огромной грудью, как у леди Кнайп. И как можно было предотвратить то, чтобы ее грудь стала такой же? Звонко, как колокольчики, но невнятно актеры обсуждали кошмарную возможность. Возможность того, чтобы у Элен была такая же грудь, жирные бедра, складки на икрах, Элен с огромным количеством детей, постоянно ревущих, – и этот отвратительный запах свернувшегося молока и детских пеленок. И внезапно здесь появилась Джойс, катящая коляску по улицам Олдершота. Вот она вынула ребенка. Вот покормила его. Наполовину с испугом, наполовину с интересом, она смотрела, как он гремит погремушкой и сосет грудь. Вот он прижался к ее груди лягушачьим лицом с жадным выражением, постепенно расслабляясь по мере насыщения, приходя в бессмысленный восторг. Но руки – они были полностью человеческими, чудесно тонкими и изящными. Восхитительные, прекрасные маленькие ручки! Непреодолимые ручки! Она взяла его у Джойс, прижала вплотную к груди и нагнулась, чтобы поцеловать эти очаровательные маленькие пальчики. Но то, что она теперь держала в руках, было умирающим котенком, печенкой в мясницкой, то ужасное нечто, что она, открыв глаза, увидела в руках у мадам Бонифе и как она затем выбрасывает его в оловянный таз в кухне.
За хирургом послали вовремя, и Элен теперь была вне опасности. Уверившись в этом, мадам Бонифе вновь обрела материнское раблезианское добродушие, так присущее ее характеру.
И мгновение спустя она уже заговорила об операции, которая спасла жизнь Элен. «Ton petit curetage»[191]191
«Твоя маленькая сиделка» (фр.).
[Закрыть], – говорила она с каким-то веселым лукавством, словно о каком-то запретном удовольствии. Для Элен любая вибрация этого сытого, довольного голоса являлась очередным оскорблением, унизительной выходкой. Лихорадка прошла; теперь она чувствовала слабость, но сознание ее было чистым. Она вновь вернулась в реальный мир. Повернув голову, она увидела свое отражение в гардеробном зеркале. Вид собственной худобы, бледность и голубые прозрачные тени под глазами доставили ей некоторое удовольствие, она вглядывалась в свои глаза, теперь словно безжизненные и лишенные блеска. Сейчас она бы по привычке напудрилась, слегка подкрасила губы, навела щеточкой лоск на тусклые немытые волосы, но она, наоборот, предпочла болезненную бледность и растрепанность. «Как у котенка», – не переставала думать она. Превращенный в грязный маленький комочек больной плоти, бывший резвым и милым животным, а ставший чем-то отвратительным, словно та самая печенка, словно та ужасная вещь, что мадам Бонифе… Она содрогнулась. И теперь этот ton petit curetage – таким же голосом, что и ton petit amoureux[192]192
Твой маленький любовник (фр.).
[Закрыть].
Это последнее унижение было ужасным. Она люто ненавидела отвратительную женщину, но в то же время была рада тому, что та была такой противной. Эта радостно-грубая вульгарность подходила всему остальному. Но когда мадам Бонифе покинула комнату, Элен разрыдалась – тихо, надрывно, охваченная жалостью к себе.
Неожиданно возвратившись, мадам Бонифе нашла ее на второе утро после petit curetage отчаянно плачущей. Искренне расстроенная, она стала успокаивать Элен. Но успокоение, как всегда, пахло луком. Испытав физическое отвращение, смешанное с возмущением против вторжения в замкнутый мир ее несчастья, Элен отвернулась и, когда мадам Бонифе усиленно пыталась утешить ее, покачала головой и попросила, чтобы та ушла. Мадам Бонифе секунду помялась, затем подчинилась, но пустила парфянскую стрелу[193]193
Парфянская стрела (перен.) – замечание, приберегаемое к моменту ухода. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] в форме мягкого упоминания о письме, которое она принесла и теперь положила на подушку Элен. От него, без сомнения. Доброе сердце, несмотря ни на что… Письмо, как оказалось, было от Хью. Она принялась читать его.
Он писал:
«Отпуск в Париже! Из моей грязной маленькой конуры, наполненной безделушками, как я завидую тебе, Элен! Париж в разгаре лета. Восхитительно красивый, не то что эта страна туманных дымок. Лондон всегда траурный, даже при солнечном свете. И чистый, немеркнущий блеск парижского лета! Как бы я хотел быть там! Желание, конечно же, эгоистичное по сравнению с удовольствием быть с тобой вне Лондона и Британского музея. И неэгоистичное из-за тебя – потому что мысль о том, что ты одна в Париже, беспокоит меня. Теоретически, если рассуждать рационально, я знаю, что с тобой ничего не может случиться. Но тем не менее – тем не менее я хотел бы быть там, чтобы невидимо охранять тебя – так, чтобы ты не знала о моем присутствии, никогда не воспринимала мою преданность как назойливость, так, чтобы ты всегда ощущала уверенность, исходящую от двоих, а не от одного. Я, к сожалению, не смог бы быть хорошим помощником в тесном углу. (Как я иногда ненавижу себя за свои постыдные неуместные замечания!) Но, наверное, лучше, чем никто. И я никогда бы не посягнул на недозволенное, никогда не вмешался в чужое дело. Я буду словно призрак – кроме тех случаев, когда ты испытаешь нужду во мне. Моей наградой станет всего лишь пребывание вблизи тебя, чтобы просто видеть и слышать тебя, – наградой того, кто выходит из запыленного места в сад и смотрит на цветущие деревья, слушая шум фонтанов.
Я никогда раньше не говорил тебе (боялся, что ты будешь смеяться – пускай, ведь, в конце концов, это твой смех) о том, что я часто придумываю сам себе истории, в которых я всегда с тобой – так же, как теперь я рассказал тебе, что хотел бы быть с тобой в Париже. Присматривать за тобой, оберегать тебя от зла и взамен вдыхать свежесть твоей красоты, согреваться твоим огнем, твоей прекрасной чистотой…»
Рассерженно, словно ирония этих слов была намеренной, Элен отбросила письмо в сторону. Но час спустя она снова взяла его и стала перечитывать с самого начала. В конце концов, было утешительно знать, что есть на земле кто-то, кто готов о тебе заботиться.
Глава 40
11 сентября 1934 г.
Был с Миллером на показе научных фильмов. Развитие морского ежа. Оплодотворение, деление клеток, рост. Вновь передо мной встает прошлогодний кошмарный образ более чем бергсоновской жизненной силы, всесильного Темного Божества – гораздо более темного, странного и жестокого, чем воображал Лоренс. Сырой материал, который на своем уровне эволюции уже является готовым продуктом. За этим последовали таблицы с земляными червями. Недельное бесполое совокупление червя с червем в пробирке со слизью. Затем невообразимо прекрасный фильм, рассказывающий об истории жизни мясной мухи. Яйца. Личинки на куске разлагающегося мяса. Белоснежные, как стадо овец на лугу. Прячутся от света. Потом, после пяти дней роста, спускаются на землю, обматывают себя тонкой паутинкой и делают кокон. Еще через двенадцать дней выходит готовая муха. Фантастический процесс воскресения! Орган, заменяющий головной мозг, надувается, как воздушный шарик. Распухает настолько, что стенки кокона ломаются. Из него вылупляется муха. (Маленькое нечаянное чудо!) Пробивается наверх, к свету. На поверхности видно, как она буквально напитывает свое мягкое, влажное тело воздухом, расправляя скомканные крылья и пуская кровь в вены. Удивительное и трогательное зрелище.
Я задал вопрос Миллеру: каков будет результат распространения подобных знаний? Знаний о мире несравненно более невероятном и более прекрасном, чем может вообразить любой мифотворец. О мире, всего несколько лет назад совершенно неизвестном, за исключением узкого круга специалистов. К чему приведет то, что об этом будут знать все? Миллер рассмеялся. «Результат будет настолько же малым или настолько же большим, насколько люди этого захотят. Те, которые предпочитают думать о сексе и деньгах, будут думать о сексе и деньгах. Как бы громко ни возвещалась с экранов слава Божия». Господствует наивное представление о том, что реакция на благоприятные обстоятельства будет неизбежно и автоматически положительной. Опять-таки сырой материал нужно обработать. Одни продолжают верить в машинный прогресс, потому что хочется лелеять эту глупейшую иллюзию – настолько она утешительна. Утешительна, потому что перекладывает всякую ответственность за то, что вы делаете или не можете делать, на кого-то или что-то другое.
Глава 41
Декабрь 1933 г.
Вечером в Колоне[194]194
Колон – порт в Панаме, у входа в Панамский канал. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] они сели в кеб и проехали по эспланаде. Белесое, как огромный рыбий глаз, перед ними простиралось, словно мертвое, море. Вопреки почтовым открыткам с изображением заката тощие пальмы были символом покорной безнадежности, а горячий воздух в ноздрях пахнул паленой шерстью. Они немного поплавали в теплом рыбьем глазу и затем вернулись в город сквозь сгущающийся ночной мрак.
Для богатых после ужина существовали кабаре, дорогие напитки и белые проститутки за десять долларов. Для бедных, живущих в маленьких улочках, у открытых на улицу дверей, ведущих в освещенную спальню с широкой кроватью, сидели мулатки.
– Будь у меня побольше добросовестности, я пошел бы и подхватил сифилис, – сказал Энтони, когда они поздней ночью вернулись в отель.
Запах пота, запах алкоголя, запахи канализации, отходов и дешевых духов; затем, наутро, канал, огромные замки и корабль, бороздящий пространство двух океанов. Дьявольский прогресс сделал возможным, говорил Марк, улыбаясь своей анатомической улыбкой, перевозить шлюх и виски по воде вместо суши от Колона в Панаму.
Корабль двигался на север. Раз в два дня они заходили в какой-нибудь маленький порт взять на борт груз. Из залежей бананов в Сан-Хосе к ним в каюту забрался паук величиной с кулак, покрытый шерстью. У Чамперико [195]195
Чамперико – город в Гватемале, на Тихоокеанском побережье. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], где из гавани выходили лихтеры [196]196
Лихтер – несамоходное грузовое судно. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], нагруженные ящиками с кофе, в море упала индианка и тотчас утонула.
Ночью, казалось, двигался не корабль, а звезды. Они медленно, наискось подымались, зависали на вершине своей траектории, затем падали вниз, нерешительно забирали вправо и опять возвращались на прежнее место, затем, начиная все заново, опять тянулись к зениту.
– Достаточно удручает, – вынес вердикт Энтони. – Но красиво.
Усовершенствование привычной небесной механики. Можно было лежать на палубе и смотреть на них хоть без конца.
В голосе Стейтса прозвучала нота мрачного удовлетворения, когда он провозгласил, что через два дня они будут в Пуэрто-Сан-Фелипе.
Пуэрто-Сан-Фелипе было селением, состоявшим из хижин с ветхими деревянными пристройками прямо у воды, где хранился кофе. Агент дона Хорхе в порту помог им пройти таможенный досмотр. Настоящий испанец, полумертвый от тропических болезней, но все же на редкость учтивый.
– Мой дом – ваш дом, – заверил он их, когда они поднимались вверх по крутой тропинке к его бунгало. – Мой дом – ваш дом.
На веранду сверху свисали орхидеи, а среди них были клетки с непрестанно кричащими зелеными попугаями.
Изможденная женщина, преждевременно и безнадежно замучившаяся и состарившаяся, надорванная сверх всякой меры, шаркая, выползла из двери, чтобы наградить их улыбкой и заранее извиниться за плохое гостеприимство. Пуэрто-Сан-Фелипе было небольшим местечком, не имевшим особых удобств; и ко всему прочему, объяснила она, ребенок чувствовал себя плохо, очень плохо.
Марк спросил у нее, что с ним случилось. Она смотрела на него глазами, лишенными выражения от утомления, и ответила, что причиной была лихорадка. Лихорадка и головная боль.
Вместе с ней они прошли в дом, и им представилась маленькая девочка, лежавшая на раскладушке, беспокойно метавшаяся головой по сторонам, тщетно пытаясь отыскать прохладное место на подушке, место, на котором могла отдохнуть ее щека, какое-то положение, в котором ее боль могла казаться слабее. Комната была полна мух, и запах жареной рыбы доносился с кухни. Глядя на девочку, Энтони внезапно поймал себя на том, что вспомнил Элен в тот день на крыше, как она вертела головой и мучительном наслаждении.
– Я полагаю, это мастоидит, – сказал Марк. – Или, может быть, менингит.
Когда он произнес это, девочка вынула слабые ручонки из-под одеяла, подняла их вверх, сжав голову между ладоней, и начала еще сильнее вертеться из стороны в сторону, наконец разразившись душераздирающим воплем.
– Тихо, тихо, – все повторяла мать, сперва заискивающе, затем с возрастающей настойчивостью, умоляя, увещевая, приказывая ребенку перестать кричать, не чувствовать такую зверскую боль. Вопли все продолжались, голова по-прежнему металась из стороны в сторону.
Измученная наслаждением, измученная болью. Мы отданы на милость собственной коже и слизистым оболочкам, на милость тонких, готовых порваться нервов.
– Тихо, тихо, – повторяла женщина почти рассерженно. Она склонилась над кроватью и изо всех сил потянула на себя два тонких запястья одной рукой, положив другую на лоб, желая с усилием удержать голову неподвижной на подушках. Все еще крича, маленькая девочка боролась против силы, давившей ее. Костлявая рука женщины еще крепче сжала ее запястья и придавила лоб. Если бы она могла силой подавить болевые приступы, может быть, боль бы и отступила, может быть, девочка прекратила бы вопить и, выздоровев, с улыбкой села бы на кровати.
– Тихо, тихо, – приказывала женщина сквозь сжатые зубы.
Нечеловеческим усилием девочка освободила руки от хватки этих когтеобразных пальцев. Рука снова прижала ее голову. Перед тем как женщина успела снова схватить руки девочки, Марк коснулся ее плеча. Она оглянулась и посмотрела на него.
– Лучше оставить ее в покое.
Подчинившись, она выпрямилась и отошла к двери, ведущей на веранду. Они последовали за ней, поскольку больше им ничего не оставалось делать.
– Mi casa es suya[197]197
Мой дом ваш (исп.).
[Закрыть].
Но слава Богу, это было не так. Детские крики поутихли, но жареная рыба и попугаи среди орхидей… Марк вежливо отклонил предложенный ранний завтрак, и они снова вышли на мучительный солнцепек. Mozos[198]198
Ребята, парни (исп.).
[Закрыть] навьючили их багажом ломовых мулов, а верховые мулы уже стояли оседланными в тени дерева. Марк и Энтони надели огромные шпоры и сели в седла.
Тропинка поднималась все выше и выше, уклоняясь от берега, и вела сквозь джунгли, серебристые и коричневато-розовые от засухи. Сидя в седле с высокой спинкой, Марк читал «Тимона Афинского»[199]199
«Тимон Афинский» (1608) – пьеса Шекспира на сюжет из древнегреческой истории. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] в карманном издании шекспировских трагедий. Каждый раз, переворачивая страницу, он пришпоривал мула, и несколько ярдов они ехали чуть быстрее, затем вновь переходя на прежний медленный шаг.
В гостинице в Тапатлане, где они остановились на ночь, Энтони впервые в жизни покусали постельные жуки, и на следующее утро начался приступ дизентерии… На четвертый день он уже оправился и можно было осматривать виды. Последнее землетрясение почти полностью разрушило церковь, густые, черные гроздья летучих мышей свисали, как спелые сливы, со стропил; индейский мальчик, босой и в лохмотьях, шпатлевал стены с облупившейся краской; на алтарях барочные святые колыхались и взмахивали руками, застыв в боговдохновенном порыве. Затем Марк и Энтони снова пошли на рыночную площадь, где черные индианки тайно, словно в засаде, прикрывшись темными шалями, сидели на корточках в пыли перед маленькими подносами с фруктами и вялыми овощами. Мясо на лотке мясника было покрыто коростой мух. Ритмично раскачивая ушами, мимо проплывали ослы, бесшумно вздымая пыль маленькими быстрыми копытами. Молчаливо проходили женщины, неся на голове оловянные сосуды, наполненные водой с радужными керосиновыми пятнами на ее поверхности. Из-под широких полей шляп черные глаза разглядывали незнакомцев с непостижимым змеиным блеском, который казался лишенным всякого любопытства, всякого интереса, любого ощущения, вызванного их присутствием.
– Я устал, – объявил Энтони. Они прошли всего немного, но в Тапатлане жить и что-то чувствовать было чрезвычайно утомительно. – Когда я умру, – продолжил он после паузы, – то меня пошлют именно в это место ада. Я его тотчас узнаю.
Гостиничный бар располагался в тусклом, как склеп, помещении со сводчатым потолком, подпираемым в середине кирпичной колонной, достаточно широкой для того, чтобы выдержать землетрясение. Марк назвал это место саксонской усыпальницей и тотчас пошел к себе в комнату, чтобы принести носовой платок, оставив Энтони сидеть в плетеном кресле.
Опершись о стойку, красиво одетый молодой мексиканец в дорожных бриджах и огромной фетровой шляпе хвастался перед барменшей аллигаторами, которых он подстрелил в болотах рядом с устьем Коппалиты, затем стал рассказывать ей о своей жесткости при обращении с индейцами, воровавшими у него кофе, о деньгах, которые он рассчитывал выручить от продажи урожая.
«Пожалуй, это чересчур», – думал Энтони, смотревший и слушавший из своего кресла. Ему нравилось это зрелище, но молодчик повернулся и, поклонившись с церемонностью изрядно пьяного человека, спросил, не выпьет ли с ним чужеземный кавалер стаканчик текилы.
От усталости Энтони заговорил по-испански с большими паузами, и его усилия, потраченные на то, чтобы объяснить, что он чувствует себя плохо и что из-за алкоголя ему может быть еще хуже, очень скоро оказались напрасными. Молодчик слушал, неотрывно глядя на него своими темными, яркими, как у индейца, но в то же время чрезвычайно выразительными глазами европейца, в которых можно было прочитать сильную и страстную заинтересованность и внимательную настороженность. Энтони продолжал бормотать, и внезапно эти глаза приобрели новый и опасный блеск; красивое лицо исказилось от гнева, костяшки сильных, хищных рук побелели от внезапно сжавшихся кулаков. Молодчик угрожающе выступил вперед.
– Usted me disprecia![200]200
Это мне не нравится! (исп.)
[Закрыть] – прокричал он. Его движения, злоба, таящаяся в его голосе, заставили Энтони испытать панический страх. Он с усилием поднялся на ноги и, стоя за спинкой кресла, начал объясняться голосом, первоначально тихим и миролюбивым, но затем, несмотря на все его усилия сохранить его серьезным и твердым, обрывающимся и бездыханно пронзительным, в том, что он и не думал никого оскорблять, что это просто проблема (он помедлил перед тем, как дать медицинское обоснование и не мог придумать ничего лучшего, кроме боли в желудке) – un dolor en mi estómago.
По какой-то причине слово estómago показалось мексиканцу последним, самым грубым оскорблением. Он проревел что-то нечленораздельное; его рука потянулась к карману бриджей, и одновременно с тем, как барменша закричала о помощи, он снова выступил вперед, держа револьвер.
– Не смей! – закричал Энтони, не соображая, что говорит. Затем с невероятным проворством он вылетел из своего угла, чтобы укрыться за массивной колонной посреди комнаты.
В течение секунды мексиканца не было видно. Но не решил ли он подкрасться на цыпочках? Энтони вообразил, как револьвер внезапно высовывается из-за колонны прямо ему в лицо – или даже с тыла. Он почувствовал бы дуло, упершееся ему в спину, услышал бы чудовищный разрыв, и затем… Ужас, настолько сильный, что напоминал самую мучительную физическую боль, охватил его целиком: сердце билось более учащенно, чем когда бы то ни было, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Подавив страх еще большим страхом, он высунул голову слева. Молодчик стоял всего лишь в двух ярдах от него, уставившись жутко-пронзительным взглядом на колонну. Энтони увидел, как мексиканец слегка дернулся, и с отчаянным криком о помощи отпрыгнул вправо, снова выглянул и подался влево, затем опять вправо.
«Это не может так продолжаться, – думал он. – Я не могу стоять здесь бесконечно». Мысль о револьвере, внезапно показывающемся из-за колонны, заставила его снова выглянуть. Мексиканец чуть шелохнулся, и он поспешно отпрянул влево.
Послышался скрежет револьвера – этого Энтони боялся больше всего. Чудовищный скрежет, внезапный и парализующий, как тот взрыв восемнадцать лет назад. Он зажмурил веки, но они не переставали дрожать, готовые моргнуть в ожидании жуткого последствия. Ресницы застили ему глаза, и сквозь какую-то дымку он видел, как отворилась дверь и Марк стремительно вошел в комнату. Вот он взял мексиканца за запястье… револьвер выстрелил, звук, громкий, прогремел по стенам и потолку, Энтони издал страшный крик, словно был ранен, и, закрыв глаза, вплотную прижался к колонне. Чувствуя всего лишь тошноту, боль в паху и резь в кишечнике, он ждал, превращенный в простое воплощение жуткого ожидания следующего взрыва. Ожидание казалось вечным. Он вскрикнул: «Нет, не надо!» – но, открыв глаза, которые все еще дергались, увидел Марка Стейтса, демонстрировавшего мускулами лица дружелюбно-ироническую улыбку.
– Все в порядке, – сказал он. – Можешь выходить.
Чувствуя глубокий стыд и подавленность, Энтони последовал за ним на свежий воздух. Молодой мексиканец был снова у стойки и снова пил. Когда они приблизились, он повернулся и с распростертыми объятиями двинулся им навстречу.
– Hombre, – обратился он к Энтони, горячо сжимая его руку. – Hombre![201]201
Мужик! (исп.)
[Закрыть]
Энтони чувствовал себя невыразимо униженным и подавленным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































