Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
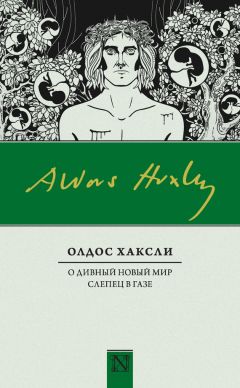
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Глава 13
20 мая 1934 г.
Вчера вечером готовил свою вторую речь. И не очень сильно нервничал. Это достаточно просто, если ты твердо сказал себе, что не важно, выглядишь ты дураком или нет. Но тем не менее это подавляет. Подавляет ощущение, что те пятьсот человек, которые сидят в зале, отнюдь не представляют собой монолит. Выступающий обращается к собирательному понятию, к абстракции, но не к собранию индивидов. Понять вас хотят только те, кто и так убежден в вашей правоте. Все остальные поражены несокрушимым невежеством. В частной беседе можно быть уверенным, что твой собеседник хотя и с неохотой, но попытается понять вас правильно. Ничего не понимающий человек сидит среди других людей в аудитории, и само ее наличие укрепляет его в его неведении. Все становится еще хуже, если этот невежда имеет возможность после доклада задавать вопросы. Причина совершенно очевидна. Приятен уже сам факт, что ты встал и на тебя все смотрят – это щекочет самолюбие. Во многих случаях это удовольствие бывает настолько сильным, что причиняет сладострастную боль. Мучительный оргазм самоутверждения. Удовольствие возрастает стократ, если вопрос пронизан враждебностью к выступающему. Враждебность есть декларация независимости личности. Спрашивающий всем своим видом дает понять, что сам не выступает только по чистой случайности – случайность это или нет, неизвестно, хотя иногда такой смельчак является жертвой негодяев, которые хотят его дискредитировать. Естественно, как правило, выкрики с места и вопросы не имеют ни малейшего отношения к теме. Критиканы (каковыми являемся все мы) живут в своем замкнутом мире и не делают никаких попыток проникнуть в мир других людей. Большинство выдвигаемых публикой аргументов противоречат друг другу или, фигурально выражаясь, высказываются на не понятном никому языке, и это при полном отсутствии переводчиков.
Марк был на митинге, а потом, сидя в моей комнате, развлекался тем, что пытался вогнать меня в еще большую подавленность.
– С тем же успехом ты мог бы проповедовать это стаду коров в поле, – язвительно говорил Марк, и меня снедало искушение согласиться с ним. К такому согласию меня подталкивали старые укоренившиеся понятия о том, как следует думать, жить и чувствовать. Какое удовлетворение приносит мысль о том, что мир лишен смысла и с этим ничего нельзя поделать! Можно с чистой совестью удалиться в кабинет и спокойно писать научный трактат по социологии – науке о человеческой безмозглости. Разговаривая с Марком вчера вечером, я поймал себя на том, что мне доставляют невыразимое удовольствие издевки по поводу недогадливости моей аудитории, да и вообще всего человеческого рода. Поймал и задумался. Я подумал, что семена посеяны и если хотя бы одно из них взойдет, то стоило проводить этот злосчастный митинг. Стоило, даже если не взойдет и одно из них, стоило ради меня самого. Это было упражнение, тренировка – залог того, что в следующий раз у меня все получится гораздо лучше.
Я не стал говорить этого вслух, просто замолчал и, как мне кажется, изменился в лице. Марк, от которого невозможно что-либо скрыть, рассмеялся. Предсказал мне, что скоро я буду обращаться с эпитетом «дорогой» ко всякому собеседнику. «Дорогие коммунисты». «Дорогие производители оружия». «Дорогой генерал Геринг».
Я не смог сдержать смех – Марк был довольно комичен в своей свирепости. В конце концов, если в тебе достаточно любви и доброты, то можешь быть уверен, что хотя бы в некоторой степени твой собеседник ответит тебе любовью и добротой – не важно, кем он при этом является. В таком случае практически каждый действительно может стать для тебя «дорогим». Многие люди сейчас кажутся охваченными ненавистью недоумками, но если задумаешься, то поймешь, что вина за это лежит не только на них, но и на тебе.
24 мая 1934 г.
Сегодня утром потратил четыре часа на просмотр своих заметок. Невыразимое наслаждение! Как легко скатиться в чистую схоластику и привычку жонглировать идеями! В так называемую возвышенную жизнь, которая по сути своей является не чем иным, как смертью без оплакивания. Покой, отсутствие всяческой ответственности – все прелести смерти здесь и сейчас. Раньше для того, чтобы обрести эти прелести, людям приходилось уходить в монастырь. Платить за радости смерти покорностью, бедностью и целомудрием. Теперь их можно получать даром в нашем обыденном мире. Смерть, абсолютно не нуждающаяся в оплакивании. Смерть с улыбкой, смерть с удовольствиями от женщин и выпивки, частная смерть, в которой никто не волен ни к чему тебя принудить. Схоласты, философы, люди науки – все словно сговорились считать их непрактичными. Но есть ли еще один такой слой общества, который ухитрился бы убедить мир принять себя таким, какой он есть, и (что еще более удивительно) заставить людей оценивать себя по меркам этого слоя. Короли утратили свое божественное право, плутократы, похоже, скоро лишатся накопленных ими богатств, а люди, ведущие возвышенный образ жизни, продолжают считаться превосходящими всех других смертных. Таков сладкий плод их настойчивости. Упорно награждая себя самих изысканными комплиментами, упорно принижая других людей. И так год за годом в течение последних шестидесяти столетий. Мы – высшие, вы – низшие. Мы – дух, вы – мир. Снова и снова, не переставая ни на одну минуту, ни на один миг, продолжалось и продолжается это самовосхваление. Сейчас такое положение не требует обоснования и воспринимается как аксиома. Но в действительности возвышенная жизнь – это просто то лучшее, что можно предложить взамен смерти. Это самый лучший способ избежать ответственности жизни, гораздо лучше, чем алкоголь, наркотики, секс и накопительство. Алкоголь и наркотики разрушают здоровье, секс рано или поздно ставит его поклонников перед ответственностью, приверженные к собственности люди никогда не будут довольны количеством редких марок, китайского фарфора, домов и сортов лилий и всегда будут безнадежно желать большего. Такой уход от ответственности подобен мукам Тантала[90]90
Тантал – герой греческой мифологии, обреченный богами на вечные муки, не имея возможности утолить голод и жажду. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть]. В противоположность этому приверженцы возвышенной жизни уходят в мир, который не представляет ни малейшей угрозы здоровью, не обрекает на тяжкую ответственность и не причиняет ни моральных, ни физических мук. В такой мир, который, по традиции, считается более высоким, чем мир обыденной ответственности. Возвышенный лентяй может спокойно тешиться своей чистой совестью, ибо в жизни ученых и исследователей очень легко отыскать эквиваленты всех мыслимых моральных добродетелей! Некоторые из этих добродетелей, конечно, не эквивалентны, но, по видимости, несомненно, идентичны: упорство, терпение, самоотверженность и все подобное. Хорошие средства пускаются на неблагородную цель. Можно работать не покладая рук, отдавать все сердце чему угодно – от атомной физики до мошенничества и белого рабства. Все остальное есть не что иное, как этические добродетели, рассматриваемые в ментальном ключе. Аскетизм художественной или математической формы. Чистота научного поиска. Дерзновенность мысли. Смелые гипотезы. Логическая целостность. Терпимость к чужим взглядам. Смирение рассудка перед фактами. Все основные добродетели в шутовском наряде.
«Блаженны нищие духом». У людей, ведущих возвышенную жизнь, есть даже эквиваленты нищеты духа. Как человек науки, такой «бедняк» старается не подпадать под влияние своих интересов и кичится своей независимостью от предрассудков. Но и это еще не все. В этическом смысле духовная нищета освобождает от мысли о завтрашнем дне, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов; жизнью жертвуют, чтобы снова ее обрести. Возвышенный тип, таким образом, превращает самоотречение в пародию. Я могу со всей ответственностью утверждать это, поскольку и сам отличался тем же, правда, охотно извиняя себя за это. Вы живете перспективой и отвечаете лишь за тот, возвышенный мир. В нем вы порываете с прошлым, но также и отказываетесь предоставлять себя будущему, у вас нет убеждений, вы живете сиюминутными интересами, жертвуете своей индивидуальностью; точнее, той ее частью, которая не касается вашей возвышенности; вы просто переходите из одного состояния в другое. Это больше, чем нищета Франциска Ассизского , но ее можно совместить с наполеоновским восхищением империализмом. Раньше я думал, что у меня нет ницшеанской воли к власти. Теперь понимаю, что я просто с большей охотой отыгрывался на мыслях, чем на чувствах, завоевывая неизвестные области познания. Проникая в глубь проблемы, форсируя идеи для соединения или разложения, укрощая строптивые слова, чтобы придать им определенный узор. Какое это наслаждение – стать диктатором, но без всякой ответственности и риска.
Глава 14
8 декабря 1926 г.
К обеду это была уже История – последнее добавление к репертуару Мери Эмберли. Это было, на вкус Энтони, очень удачное добавление, – так последнее приобретение часто венчает изысканную коллекцию старых картин. В первый раз с момента получения приглашения он понял, что его любопытство, заставившее принять приглашение Мери, было возбуждено мстительной надеждой на то, что она изменилась в худшую сторону – либо относительно, поскольку изменился его взгляд на женщину, либо абсолютно – как-никак прошли долгие двенадцать лет; она была просто обязана подурнеть по сравнению с той, какой она была раньше, по сравнению с той, какой она казалась Энтони и какой он сохранил ее в памяти. Ему было стыдно признаться в этом, но факт остается фактом – он был разочарован, когда увидел, что нынешняя Мери едва ли очень сильно отличалась от той, которую он знал двенадцать лет назад. Теперь ей было сорок три. Но тело ее сохранило былую стройность, а движения по-прежнему отличались быстротой и живостью. Однако в ее поведении появилось и что-то новое; Энтони заметил, что живость ее была теперь целенаправленной. Мери играла роль женщины, по-девичьи порывистой, стремительной и легкой; играла неплохо – но в таких обстоятельствах, в которых – будь он естественным – этот порыв не бросался бы в глаза. Перед обедом она позвала его наверх, в спальню, чтобы показать обнаженные натуры Пуссена, только что приобретенные ею. Первую половину лестничного пролета она прошла в обычном темпе, затем, словно припомнив, что медлительность передвижения есть знак надвигающейся старости, она внезапно перешла на бег, нет, не на бег, а на галоп. Да, это слово будет здесь намного уместнее, подумал Энтони. Когда же они вернулись в гостиную, ни одна шестнадцатилетняя девушка не бросилась бы с такой бесшабашностью на диван и не поджала бы под себя ноги таким кошачьим движением. Мери 1914 года не была такой резвой, как Мери 1926-го. И не смогла бы быть, даже если б захотела, подумал Энтони, во всех своих верхних и нижних юбках. Но теперь, в шотландке… все это было нелепым, но по зрелом размышлении он решил, что эта нелепость не причиняет ему боли. Да, собственно говоря, что здесь нелепого? Мери имела полное право играть роль молодой женщины. Смеющаяся жизнерадостность прорывалась необычайно привлекательным сиянием сквозь легкую завесу усталости, которой было прикрыто почти не увядшее лицо. А что касается ее удач – то что же, последняя импровизация – а это точно была импровизация, поскольку все произошло только сегодня утром, – на тему украденного Элен куска печенки была настоящим маленьким шедевром.
– Я набальзамирую эту штуку, – сказала она в заключение с деланой серьезностью, готовая разразиться веселым смехом. – Набальзамирую и…
Шипя и булькая, словно имбирное пиво, рвущееся из неудачно открытой бутылки, в эту тираду встрял Беппо Боулз.
– Хотите я дам вам адресок одной конторы, где ее набальзамируют по высшему разряду. – Он улыбался, моргал и невыносимо гримасничал; казалось, он говорит всеми частями своего большого жирного тела. – Цитата из журнала похоронных ритуалов, – провозгласил он. – Бальзамировщики! Неужели все, к чему вы прикасаетесь, имеет такой жалкий вид? Если так, то…
Миссис Эмберли рассмеялась, правда, несколько принужденно – она терпеть не могла, когда ее перебивали в середине рассказа. Конечно, Беппо очень похож на молоденького мальчика, несмотря на внушительное брюшко и лысину. (Правда, если уж на то пошло, то его скорее можно было сравнить с девочкой.) Но все же и ему следовало бы знать меру приличия… Она оборвала его словами:
– Это слишком выспренно. – Потом обратилась к остальным гостям, сидящим за столом: – Ну так вот, я велю ее набальзамировать и положу под стеклянный колпак, ну, вы знаете – под такими колпаками…
– Это будет очень жизненно, – не удержавшись, булькнул Беппо, однако никто не обратил внимания на его остроту, и Беппо пришлось хихикать в одиночестве.
– Эти колпаки, – повторила миссис Эмберли, не удостоив невежу взглядом, – выставляются в любом доходном доме. А под ними птичьи чучела. Птю-юцы, набитые опилками. – Мери произнесла гласную в слове «птицы», как немцы произносят свой умлаут. Эти птицы, превратившись в тевтонских птю-юц, по непонятной причине вызвали взрыв всеобщего смеха.
Ее голос стал лучше, чем раньше, подумал Энтони. Появившаяся хрипотца была как пушок на персике, пушок, под которым видна нежная кожица плода, как легкий туман, за пеленой которого в летние дни с моста Ватерлоо виден необыкновенный силуэт собора Святого Павла. Легкая полупрозрачная вуаль лишь подчеркивала красоту звукового ландшафта ее голоса. Прислушиваясь внимательнее, чем обычно, к каденциям ее речи, Энтони пытался зафиксировать их в памяти, чтобы потом проанализировать и разложить на составляющие. В задуманных им «Основах социологии» должна была быть глава о массовом внушении и пропаганде. Один из разделов будет посвящен проблеме чарующих звуков. Чарующий, волнительный звук голосов Савонаролы [91]91
Савонарола, Джироламо (1452–1498) – настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, выступавший против папской власти. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] или Ллойд Джорджа. Чарующе умиротворяющий звук увещеваний священника; чарующая жизнерадостность голосов Роуби и малютки Тича; чарующе обольстительные звуки, которые издают актеры, актрисы, певцы и доморощенные сирены и донжуаны. Талант Мери, считал Энтони, заключался в умении говорить голосом одновременно обольстительным и смешным. Она умела издавать звуки, которые задевали струны смеха и желания, но никогда – струны печали, сожаления или негодования. В моменты эмоциональных срывов (он хорошо помнил ужасные сцены, которые она устраивала) она полностью теряла власть над своим голосом – он становился визгливым и хриплым. Ее жалобы, упреки и печаль вызывали у собеседника лишь ощущение физического дискомфорта. В противоположность этому сам звук голоса миссис Фокс располагал к уступчивости и вызывал симпатию. Она обладала тем таинственным даром, который привел Робеспьера[92]92
Робеспьер, Максимильен (1758–1794) – деятель Великой французской революции, лидер партии якобинцев, казненный термидорианцами. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть] к власти, который позволял Уайтфилду простым повторением одного и того же благочестивого восклицания исторгать слезы из глаз самых закоренелых скептиков. Есть такие чарующие звуки – звуки, способные убедить слушателя в существовании Господа Бога. Эти птю-юцы! Над шуткой рассмеялись все – даже Колин Эджертон и Хью Ледвидж. Хью смеялся, несмотря на то что с того момента, как в гостиную вошел человек по имени Бивис, Хью просто потерял покой. Этот Бивис, встреч с которым он так старательно избегал… Почему Мери его не предупредила? На какое-то мгновение он вообразил, что это заговор. Мери пригласила Бивиса, чтобы опозорить его, Хью, – поскольку знала, что Бивис был свидетелем его унижений в Балстроуде. Их было двое: Стейтс (Ледвидж знал, что он приглашен, и его ждали после обеда) и Бивис. Хью привык встречаться со Стейтсом в этом доме и, в общем, не возражал против них. Стейтс, в этом не было никаких сомнений, все забыл. Но Бивис… при встречах с этим человеком Хью каждый раз казалось, что Энтони смотрит на него каким-то странным взглядом. Мери пригласила его намеренно, чтобы он обо всем напомнил Стейтсу и эти двое смогли бы устроить этакий вечер воспоминаний. А вспомнить им было что: как Хью боялся играть в футбол, как он плакал, когда на пожарных учениях его заставляли спускаться со стены по веревке; как он наябедничал Джимбагу и за это был прогнан сквозь строй товарищей, вооруженных вместо шпицрутенов мокрыми скрученными полотенцами; или как они подсматривали за ним через перегородку… От этих мыслей Хью стало не по себе. Естественно, по зрелом размышлении стало ясно, что это не заговор. Это просто невозможно. Об этом даже думать нечего. Но как бы то ни было, Ледвидж с облегчением вздохнул, когда гостей пригласили к столу и он оказался на порядочном расстоянии от Бивиса. Напротив сидела Элен, и в присутствии Энтони ему было бы трудно с ней поговорить. А уж после обеда он постарается держаться подальше от старого «приятеля»…
Что же до Колина, то он весь обед просидел в нарастающем оцепенении, смешанном с недовольством и отчаянием. Ощутив полную безнадежность, он наконец мысленно произнес ту фразу, которую собирался сказать Джойс при первой же возможности: «Может быть, я глуп и все такое…» Внутренний голос произнес эти слова с таким презрением, словно Колин признавался в силе, а не слабости. «Может быть, я глуп, но я знаю, что находится в рамках приличий, а что – нет». Он скажет все это Джойс, скажет, будьте покойны, и даже больше того; а она (Колин взглянул на Джойс, когда Беппо с увлечением рассказывал одну из своих самых душераздирающих историй, и поймал ее взгляд – несчастный, затравленный, умоляющий о прощении) согласится с каждым его словом. Да и как иначе, ведь бедное дитя похоже на подкидыша, которого опекунский совет графства по неисповедимой ошибке отдал в руки немыслимо сумасбродной матери, которая заставляет несчастную девочку, насилуя ее истинную природу, общаться с этими… этими… (Колин не смог найти подходящего эпитета для выражения своего отношения к Беппо). И именно ему, Колину Эджертону, выпадет честь и счастье стать святым Георгом [93]93
Святой Георг (IV в. н. э) – национальный английский святой, бывший солдатом римской армии и замученный насмерть в Малой Азии. День святого Георга празднуется в Англии 23 апреля. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], который спасет ее. Тот факт, что она – как и всякая чистая невинная девушка, попавшая в лапы сутенеров, – нуждалась в спасении, был одной из причин ее привлекательности для Колина. Он любил ее и поэтому так страстно ненавидел этого жуткого дегенерата (вот подходящее слово) Беппо Боулза и его одобрение всего того, что делала и что представляла из себя Джойс, было пропорционально неодобрению (смешанному со страхом) матери Джойс. И все же, несмотря на неприязнь, несмотря на страх перед острым языком миссис Эмберли, ее проницательный иронический взгляд, Колин не смог удержаться от смеха. Птю-юцы под стеклянными колпаками оказались неотразимыми.
Смех миссис Эмберли походил на согревающее и развязывающее язык шампанское.
– На основании колпака, – продолжала миссис Эмберли, стараясь перекричать шум за столом, – я велю выгравировать слона. «Эту печенку, рискуя своей драгоценной жизнью, собственноручно украла Элен Эмберли и…
– Ну, мамочка, ну, перестань! – Элен покраснела от удовольствия и раздражения. – Пожалуйста! – Ей, несомненно, было приятно стать главной героиней рассказа, которому все внимали. Правда, эта героиня отличалась ослиным упрямством, и то, что мать так откровенно эксплуатирует тему ее глупости, несколько злило Элен.
– …И это несмотря на бесконечное и подсознательное отвращение к мясным лавкам», – продолжала миссис Эмберли. – Бедняжка! – добавила она с другой интонацией. – Запахи всегда были ее слабым местом. Мясники, рыботорговцы… И я никогда не забуду того дня, когда я в первый и в последний раз взяла ее в церковь!
«Первый и последний, – подумал Колин. – Неудивительно, что эта особа выкидывает подобные штучки!»
– О, я готова признать во всеуслышание, – кричала между тем миссис Эмберли, – что эти деревенские прихожане, собравшиеся в церкви в дождливое воскресное утро, изрядно воняют. Это просто оглушительная вонь! Но однако…
– Аромат святости, – вставил свое слово Энтони Бивис и повернулся к Элен: – Я и сам страдал этой болезнью. Интересно, ваша мать заставляла вас сплевывать, когда вокруг скверно пахло? Моя заставляла. Хотя сделать это в церкви довольно трудно, не правда ли?
– Она не плевала, – вместо дочери ответила миссис Эмберли, – ее просто вырвало. На каракулевую шубку леди Ворплсдон. После этого я не могла показаться в приличном обществе. Благодарение Богу! – добавила она.
Беппо прошипел что-то нечленораздельное, протестуя против таких тяжких обвинений. Тема украденной печенки была исчерпана, и разговор потек по иному руслу.
Элен, на которую перестали обращать внимание, сидела за столом, не говоря ни слова. Лицо ее внезапно помрачнело; совсем недавно она поклялась себе, что больше никогда в жизни не возьмет в рот мяса, и вот, пожалуйте, она сидит за столом и преспокойно отправляет в рот насаженный на вилку отвратительный красный кусок говядины с кровью. «Я просто ужасна, – подумала она. Pas sérieuse[94]94
Весьма серьезно (фр.).
[Закрыть], как говаривала старая мадам Делеклюз. И хотя от профессионального палача девичьего племени вряд ли можно было ожидать чего-то другого, по сути своей это была правда. – Я несерьезна. Я не…»
Внезапно до нее дошло, что какой-то невнятный далекий звук, раздававшийся справа от нее, был мужским голосом и голос этот настойчиво обращался к ней.
– …Пруст, – только сейчас Элен поняла, что голос повторяет это короткое слово уже в третий раз. Она с виноватым видом оглянулась и, покраснев от смущения, увидела обращенное к ней, охваченное трепетом и нерешительностью лицо Хью Ледвиджа. Он глупо улыбнулся, его очки блеснули, и он отвернулся. Она почувствовала себя вдвойне смущенной и пристыженной.
– Боюсь, что я не совсем поняла, – невнятно пробормотала она.
– О, что вы, это не имеет никакого значения, – так же невнятно пробубнил он в ответ. – Heт, нет, это и в самом деле не важно.
Конечно, не важно, но ведь ему потребовалось добрых пять минут, чтобы придумать этот гамбит с Прустом. «Я должен ей что-нибудь сказать, – решил он, увидев, что Бивис занят оживленной беседой с Мери Эмберли и Беппо. – Что-нибудь…» Но что? Что обычно говорят восемнадцатилетним девушкам? Надо бы сказать ей что-то личное, может быть, даже галантное. Например, насчет ее платья. («Какое очаровательное!») Нет, это туманно и не высвечивает деталей. «Как это идет к вашему цвету лица, вашим глазам!» (Кстати, какого они цвета?) Или можно спросить ее насчет вечеринок. Часто она ходила на них? (Весьма лукаво.) С молодыми людьми? Нет, это для него слишком сложно. К тому же ему не очень-то нравилось думать о том, что у нее могут быть какие-то молодые люди, – он бы предпочел, чтобы она была девственницей: Du bist wie eine Blume[95]95
Подобна ты весеннему цветку (нем.).
[Закрыть]… Или серьезно, но с улыбкой: «Ответьте мне… – мог он сказать, – ответьте мне, Элен, что теперь в массе своей любит молодежь? Как она мыслит, как ощущает мир?» – и Элен, водрузив локти на стол, повернулась бы к нему лицом и рассказала о том потустороннем мире, где люди танцуют, ходят по банкетам и ведут кипучую личную жизнь, рассказала бы ему «все до последнего факта или, что более вероятно, не рассказала бы ничего, и он почувствовал бы себя невероятным идиотом. Нет, нет, так не пойдет, это не выход из положения. Это просто фантазия; он принимает желаемое за действительное. Вот тут-то и пришла ему в голову спасительная мысль о Прусте. Каково ее мнение о нем? Это был совершенно безличный вопрос, задавая который он не чувствовал бы себя неловко и неестественно. Но именно эта безличность при некотором усилии могла стать поводом к бесконечной дискуссии – совершенно абстрактной, можно сказать, выращенной в пробирке, но при этом дающей возможность проникнуть в самые отдаленные и потайные уголки души и даже (но нет, это, конечно… хотя почему нет?) затронуть физиологические стороны. Говоря о Прусте, можно высказать все – все, но не выходя при этом за рамки строгой литературной критики. Блестяще! Он повернулся к Элен.
– Я полагаю, вы, так же, как и все, высоко цените Пруста. – Он сделал паузу, ожидая ответа. Ответа не последовало. С противоположного конца стола долетали обрывки разговора миссис Эмберли с Беппо и Бивисом – они перемывали косточки общим знакомым. Колин Эджертон был погружен в свои мысли – наверное, раздумывал об охоте на тигров в Центральных провинциях. Хью кашлянул и сделал вторую попытку. – Вы поклонница Пруста, не так ли? Я тоже, увы, как и все.
Унылый профиль девушки оставался мрачным и безжизненным. Чувствуя, что попал в дурацкое положение, Хью Ледвидж мужественно попробовал еще раз.
– Мне хотелось бы, чтобы вы мне поведали, – сказал он громче и спокойным голосом, прозвучавшим, как ему показалось, особенно неестественно, – что вы думаете о Прусте.
Элен не отрываясь продолжала смотреть в свою тарелку. Pas sérieuse. Она неотвязно думала о всех своих легкомысленных поступках, которые совершила в жизни, обо всех глупых, злых и ужасных вещах. Хью Ледвиджа охватила паника. Он был смущен и растерян. Было такое чувство, словно с него в центре Лондона среди бела дня свалились брюки. Любой другой на его месте просто взял бы ее за руку и сказал: «Пенни за ваши тайные мысли, Элен!» Как это было бы просто и понятно. Можно было бы обратить в шутку весь инцидент, причем за ее счет! Таким нехитрым маневром он сразу занял бы в поединке господствующее положение, она бы хихикала и краснела по его команде, в ответ на его приказания. Как опытный матадор, он одним взмахом красной ткани заставлял бы ее демонстрировать самые уязвимые места, и вот тогда он смог бы извлечь из ножен шпагу и, взмахнув ею… Однако каким бы простым, разумным и выигрышным ни казался этот ход, Хью Ледвидж был не способен сделать первый шаг. Вот прямо перед ним ее по-детски тонкая рука – надо просто взять и коснуться ее, но непостижимым образом Хью не мог заставить себя сделать этот совершенно естественный жест. И никогда он не смог бы сделать то шутливое предложение пенни – да его голосовые связки просто отказались бы ему повиноваться. Прошло тридцать секунд – секунд неуверенности и смятения. Вдруг Элен, словно пробудившись ото сна, встрепенулась и посмотрела на Хью. Что он сказал? Но повторить прежний вопрос было решительно невозможно.
– О, что вы, это не имеет никакого значения. Нет, нет, это и в самом деле не важно. – Он отвернулся. Но почему, Господи, ну почему он такой ни черта не соображающий идиот в свои тридцать пять лет? Nel mezzo del cammin[96]96
На полдороге странствия земного (ит.). – «Ад» Данте, пер. В. Брюсова.
[Закрыть]. Вообразите Данте в таких обстоятельствах! Данте с его стальным профилем, наклонившего голову в предвкушении новой духовной битвы. Интересно, что бы он сказал вместо потерявшей всякое значение ремарки о Прусте? Силы небесные, что?…
Вдруг она сама коснулась его руки.
– Я виновата перед вами, – сказала Элен с искренним чувством вины и изо всех сил пытаясь скрыть свою отвратительную сущность и то легкомыслие, с которым она только что ела на совесть отбитое мясо, приобретенное у мистера Болдуина. К тому же ей нравился этот старина Хью, он был очень мил и добр – этот прекрасный человек не пожалел времени и взял на себя труд показать ей ацтекские древности в Британском музее. «У меня деловая встреча с мистером Ледвиджем», – сказала она, придя в тот раз в музей, и служащие проявили по отношению к ней совершеннейшее почтение. Ее проводили в кабинет помощника директора департамента, демонстрируя при этом такую вежливость, словно она была весьма важной особой. Выдающийся археолог нанес визит другому выдающемуся археологу. Это и в самом деле было необыкновенно интересно. Но, правда, – и в этом стыдно признаться, хотя это было еще одним доказательством ее крайней несерьезности, – она забыла почти все, о чем он ей тогда рассказывал. – Ради Бога, простите меня, – совершенно искренне проговорила Элен, прекрасно понимая, как чувствует себя сейчас Хью Ледвидж. – У меня глухая бабушка, и я хорошо знаю, что такое повторять дважды одно и то же. Чувствуешь себя полнейшей идиоткой. Как Тристрам Шенди с часами [97]97
Шенди, Тристрам – герой романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» английского писателя-сентименталиста Лоренса Стерна (1713–1768). Элен имеет в виду эпизод, где мать Тристрама спрашивает сына, не забыл ли он завести часы. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть], если я понятно выразилась. Простите меня. – Она призывно сжала его руку, потом, опершись на локти, повернулась к нему лицом и заговорила преувеличенно доверительным тоном, чтобы он почувствовал ее особое к нему отношение: – Послушайте, Хью, вы ведь серьезный человек, не правда ли? – сказала она. – Ну вы понимаете, serieux.
– Ну, думаю, что да, – промямлил он. Только сейчас он с некоторым опозданием понял, что она имела в виду, упомянув мистера Шенди, и это открытие потрясло его до глубины души.
– Мне думается, – продолжала она, – что вы вряд ли работали в музее, если бы не были серьезным человеком.
– Пожалуй, да, – признал он. – Я бы там не работал. – «В конце концов, – думал он, все еще размышляя о мистере Шенди, – есть такая вещь, как теоретическое знание. (Кому, как не ему, знать об этом?) Теоретическое знание, которое не имеет под собой истинного опыта, знание, которое не пережито, не пропущено через себя. О Господи!» – мысленно простонал он.
– Ну вот, а я очень несерьезна, – продолжала Элен. Ей вдруг страшно захотелось облегчить душу, попросить о помощи. Были моменты, наступавшие довольно часто, когда по той или иной причине она сомневалась в себе, моменты, когда все вокруг нее казалось невыносимо смутным и ненадежным. Все – точнее, практически все сводилось к ненадежности ее матери. Элен очень любила мать, но отчетливо сознавала, что та для нее совершенно бесполезна. «Наша мамочка похожа на скверную избитую шутку, – сказала она как-то в разговоре с Джойс. – Только подумаешь, что садишься на стул, как его выдергивают из-под тебя и ты со всего размаха грохаешься задницей об пол». Но что ответила на это Джойс? «Элен, как ты можешь употреблять такие слова?» Дура набитая! Хотя следует признать, что сама Джойс была стулом, на котором можно сидеть, правда, в не слишком сложных обстоятельствах, а что толку в таком стуле? Джойс слишком молода; впрочем, даже когда она станет старше, она вряд ли научится правильно понимать и оценивать происходящее. А теперь, после помолвки с Колином, она вообще перестала что-либо понимать. Господи, какой же дурак этот Колин! Но все же это, если хотите, какой-никакой, но стул. Правда, существуют такие стулья, на которых не очень-то удобно сидеть, но если Джойс не возражает против такого дискомфорта, то, как говорится, вольному воля. У нее самой не было стула в этом страшно утомительном мире, и она почти завидовала Джойс. Опустив плечи, она тяжело облокотилась на стол.
– Самое плохое во мне то, – заговорила она, – что я безнадежно легкомысленна.
– Я не могу всерьез этому поверить, – произнес Хью, совершенно не понимая, почему он это сказал. Очевидно, он должен был воодушевить ее на исповедь, а не уверять в непогрешимости. Дело выглядело так, будто он в глубине души боялся именно того, чего желал больше всего на свете. – Я не считаю, что вы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































