Текст книги "О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)"
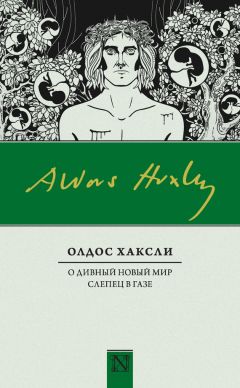
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
– Может быть, я сделаю это лучше сам, – сказал он и взял у нее ложку. Элен была слишком сильно унижена…
Мери Эмберли была разгневана. Она лежала здесь, больная и в лихорадке, и волнением доводила себя до еще более сильной лихорадки и боли, думая об опасном вождении Джерри. И здесь же была Элен, внезапно забредшая к себе в комнату после того, как ее не было в доме более двух часов, не имея элементарной порядочности прийти и убедиться, все ли с ней в порядке, более двух часов, когда ее мать – заметьте! – лежала там в агонии, испытывая стресс, думая, что дочь попала в аварию.
– Но Томпи умирал, – объясняла Элен. – Теперь он уже мертв. – Ее лицо было очень бледным, а глаза красными от слез.
– Ну, если ты предпочитаешь жалкого кота родной матери…
– Кроме того, ты спала. Если бы ты не спала, ты бы услышала, как приехала машина.
– И теперь ты желаешь мне сна, – с видом оскорбленной добродетели сказала миссис Эмберли. – Могу ли я на минуту забыться от такой боли? Вдобавок, – прибавила она, – я не спала. Я находилась в бреду. Я бредила несколько раз на протяжении дня. Конечно же, я не слышала машину. – Ее взгляд упал на бутылку сомнифейна, стоявшую на столике рядом с ее постелью, и подозрение, что Элен также могла заметить ее, привело ее в еще больший раж. – Я всегда знала, что ты эгоистка, – не унималась Мери. – Но я, должна сказать, не думала, что ты будешь настолько паскудной.
В другой раз Элен вспылила бы и вступилась за оскорбленное достоинство, или же, обвиненная в аморализме, разрыдалась. Но сегодня она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы еще проливать слезы, слишком подавленной стыдом и неудачей, чтобы негодовать даже против самой вопиющей несправедливости. Ее молчание еще более усугубило надрыв миссис Эмберли.
– Я всегда привыкла думать, – продолжала она, – что ты всего лишь эгоистична от безалаберности. Но теперь я вижу, что это бессердечность. Обычная бессердечность. Вот я – я пожертвовала тебе лучшие свои годы, и что я получила взамен? – Ее голос дрожал, когда она задала этот вопрос. Она была уверена в реальности своей жертвы, глубоко тронута мыслью о том, что она обладает масштабом, мученической значимостью. – Самое циничное – это безразличие. Я могла умереть в канаве, и ты бы не проявила беспокойства. Ты бы больше горевала о своем котенке. А теперь уходи, – почти закричала она. – Уходи! Я знаю, что у меня поднялась температура. Уходи.
После одинокого ужина, поскольку Элен ушла к себе в комнату, сославшись на головную боль, Джерри поднялся в спальню, чтобы поговорить с миссис Эмберли. В тот вечер он был особенно очарователен и так располагающе внимателен, что Мери забыла все накопившиеся поводы для жалоб и снова влюбилась в него по уши – не только потому, что этот безжалостный и совершенный любовник был красив и так легко и надменно умел подчинять себе, но и потому, что он был добр, задумчив и обаятелен, одним словом, был всем, чем, как она знала, он раньше не был.
Часы пробили пол-одиннадцатого. Он поднялся с кресла.
– Пора тебе ложиться в кроватку.
Мери воспротивилась, но он был непреклонен – для ее же блага.
Тридцать капель были нормальной дозой сомнифейна, но он отмерил сорок пять, чтобы быть доподлинно уверенным, что она спит, заставил ее выпить, затем («Как старая Нэнни!» – воскликнула она, смеясь от удовольствия) он обошел несколько раз вокруг кровати, подоткнул одеяло и, поцеловав ее на ночь с почти материнской нежностью, выключил свет и вышел из ее комнаты.
Часы на деревенской церковке пробили одиннадцать. Как печально, думала Элен, слушая удары колокола на расстоянии, как одиноко! Ей казалось, будто она слушала голос своего собственного духа, вибрировавшего каким-то таинственным способом между стен опускавшейся ночи. Один, два, три, четыре… Каждый звонкий, чуть надтреснутый звук казался все более безнадежным и траурным, словно поднимался из глубин более печального одиночества, чем прежнее. Томпи не стало, и она даже не смогла дать ему ложечку молока и растертый аспирин, не могла найти в себе силы побороть отвращение.
Эгоистична и бессердечна – ее мать абсолютно права. Но настолько же одинока, одинока в окружении бесчувственной злобы, убившей бедного маленького Томпи; и ее бессердечность возопила отчаянным голосом этого колокола – ночь была пустой и величественной.
– Элен! – внезапно раздался голос.
Она встрепенулась и повернула голову. Комната была непроницаемо черной.
– Это я, – продолжал голос Джерри. – Я очень беспокоился о тебе. Тебе уже лучше?
Ее первое удивление и тревога уступили место чувству негодования против его вторжения в одинокое пространство ее несчастья.
– Тебе не следовало беспокоиться, – хладнокровно произнесла она. – Со мной все в порядке.
Заключенный в призрачное облако турецкого табачного дыма, перцово-мятной зубной пасты и лаврового рома, он невидимо приблизился. Через одеяло рука на ощупь коснулась ее голени; затем, когда он сел на краешек кровати, прогнулись и скрипнули пружины.
– Почувствовал за собой некоторую ответственность, – продолжал он. – Все эти мертвые петли! – Тон его голоса заключал в себе невидимую улыбку, а сощуренные глаза причудливо и завораживающе блестели.
Она промолчала в ответ, и молчание превратилось в долгую паузу. «Плохое начало», – подумал Джерри, нахмурился в темноте и начал с другого края.
– Я не могу не думать о несчастном маленьком Томпи, – произнес он уже изменившимся голосом. – Поражаюсь, как удручающе то, что животное заболевает и умирает так быстро. Это кажется столь чудовищно несправедливым.
Через несколько минут она уже рыдала, и у него был повод утешить ее.
Мягко, так же как он брал в руки Томпи, и с той же самой нежностью, которая настолько тронула миссис Эмберли, он погладил волосы Элен и затем, когда ее всхлипывания начали стихать, коснулся пальцами другой руки ее предплечья. Снова и снова, с терпеливой регулярностью кормилицы, убаюкивающей ее, снова и снова… «По крайней мере триста раз», – думал он, перед тем как отважился на жест, который мог быть истолкован как любовный. Три сотни раз; и даже ласкам его пришлось видоизмениться на десятки ладов, как будто случайно, пока постепенно, непроизвольно рука, бывшая сперва у нее на плече, наконец стала впиваться все крепче ей в кожу, с той же самой материнской настойчивостью прильнула к ее груди, пока пальцы, методично передвигавшиеся по ее локонам, касались ушей, потом щек и губ и замирали, легко и невинно, наполненные энергией поцелуев, обещаний и близкой немоты, в конце концов снизошедших к ней из темноты в качестве награды за долготерпение.
Глава 25
20 мая 1931 г.
Это было еще одним «ударом». Фитцсиммонс, Джефрис, Джек Джонсон, Карпентьер, Демпси, Джин Танни – чемпионы приходили и уходили; но метафора, которой мистер Бивис описывал свои утраты, оставалась неизменной.
Да, это был тяжелый удар. И все же, как казалось Энтони, в воспоминаниях отца за обеденным столом о детских годах дяди Джеймса звучала почти триумфальная нота.
– Бедный Джеймс… у него были такие курчавые волосы. Nos et mutamur[163]163
И мы меняемся (лат.). – Окончание известного латинского выражения «Времена меняются, и мы меняемся с ними».
[Закрыть]. – Сожаление и ностальгия смешивались с некоторым удовлетворением – удовлетворением старика, обнаружившего, что он еще жив, еще способен ходить на похороны своих одногодков и тех, кто моложе, чем он. – Два года, – настаивал он. – Между мной и Джеймсом была разница почти в два года. В школе я был Бивис-старший. – Он с прискорбием покачал головой, но старые усталые глаза заблестели неукротимым светом. – Бедняга Джеймс! – Он вздохнул. – Мы не очень часто виделись в последние годы – со времени его перехода в другую веру. Как он мог? Это до сих пор терзает меня. Католик – он один из всех…
Энтони ничего не ответил. «Но в конце концов, – думал он, – это не так удивительно». Старик вырос атеистом толка Брэдлоу. Должно быть, был невыразимо счастлив, выставляя напоказ свой вызов космосу и бесплодное отчаяние. Но ему выпало несчастье родиться гомосексуалистом в то время, когда в этом было стыдно признаться даже самому себе. Врожденное извращение отравило ему всю жизнь. Превратило воображаемое и восторженное, как у мистера Пиквика, отчаяние в настоящую, обыденную трагедию. Несчастье и неврастения; старик наполовину сошел с ума. (Что не помешало ему стать первоклассным статистиком страхового общества.) Затем, во время войны, тучи немного рассеялись. Можно было быть добрым к раненым солдатам – быть добрым pro patria[164]164
Зд.: патриотом (лат.).
[Закрыть] и с чистой совестью. Энтони припомнил визиты дяди Джеймса к нему в госпиталь. Он приходил почти каждый день. Нагруженный дарами для дюжины приемных племянников так же, как и для родного. На его длинном меланхоличном лице в те дни царила постоянная улыбка. Но счастье никогда не бывает слишком долгим. Наступил мир, и после четырех райских лет ад стал казаться чернее, чем всегда. В 1923 году он перешел в лоно католической церкви, чего и следовало ожидать.
Но мистер Бивис просто не мог понять этого. Мысль о том, что Джеймс, окруженный иезуитами, Джеймс, преклонявший колена во время мессы, Джеймс лег в лурдский госпиталь с неоперабельной опухолью и, умирая, нашел утешение в религии, – наполняла его ужасом и изумлением.
– И все же, – сказал Энтони, – я восхищаюсь тем, как они помогают человеку расстаться с жизнью. Умирание – это совершенно животный процесс. Более животный, чем морская болезнь. – Он секунду помолчал, думая о последнем и самом мучительном часе дяди Джеймса. Тяжелое, носовое дыхание, рот, открытый, словно пещера, руки, скребущие простыню. – Как мудра была церковь, сделавшая из смерти таинство!
– Суета и фарс, – презрительно произнес мистер Бивис.
– Но гениальный фарс, – не поддавался Энтони. – Произведение искусства. Сама по себе процедура слегка напоминает переплытие Ла-Манша – только гораздо хуже. Но им удается превратить это во что-то действительно прекрасное и величественное. В основном для зрителя, конечно. Но, может быть, так же значимо и для исполнителя.
За столом наступило молчание. Горничная унесла грязные тарелки и подала десерт.
– Будете яблочный торт? – спросила Полин и надрезала корку.
– Яблочный пирог, моя дорогая. – Тон мистера Бивиса был суровым. – Когда ты усвоишь то, что торт всегда открыт? А то, что имеет корку, – пирог.
Каждый взял себе сливок и сахара.
– Кстати говоря, – внезапно сказала Полин, – вы слышали о миссис Фокс?
Энтони и мистер Бивис покачали головами.
– Мэгги Кларк вчера сказала мне. У нее случился удар.
– Ах бедная, бедная, – вздохнул мистер Бивис. Затем задумчиво: – Удивляюсь, как просто люди уходят из жизни, после того как становятся чем-то. Мне кажется, я видел ее не более полудюжины раз за последние двадцать лет. И вот, прежде чем…
– У нее не было чувства юмора, – вмешалась Полин.
Мистер Бивис повернулся к Энтони.
– Я полагаю, ты не… ну… «держался возле нее» с тех пор, как погиб ее бедный сын.
Энтони покачал головой, не ответив на вопрос. Между ними был уговор не вспоминать о том, что он сделал, чтобы избегать общения с миссис Фокс. Те длинные письма, полные любви, которые она писала ему в первый год войны – письма, на которые он отвечал все короче и короче, поверхностнее, с большим количеством общих фраз и наконец перестал отвечать совсем, даже не успевая прочитывать ее послания. Даже не читал, и все же, движимый какими-то суеверными угрызениями совести, никогда не выбрасывал. По крайней мере дюжина синих конвертов, надписанных крупным, разборчивым, наклонным почерком, лежала нераспечатанная в одном из ящиков его стола. Их присутствие каким-то таинственным, необъяснимым способом проливало бальзам на его совесть. Вопрос, заданный отцом, заставил его почувствовать неудобство, и он поспешил сменить тему разговора.
– И во что ты так усердно вкапывался последнее время? – спросил он тем же самым шутливо-архаичным языком, которым порой так увлекался его отец.
Мистер Бивис усмехнулся и начал рассказывать о результатах своих исследований современного американского сленга. Какие смачные выражения! Богатство поистине елизаветинское, с новыми образованиями и первозданными метафорами! Лошадиные перья, смазать тарелку, застегни свой рот – великолепно!
– А как тебе, если тебя назовут чахоточной фрау? – обратился он к своей младшей дочери Диане, которая просидела весь ужин в суровом молчании. – Или еще хуже – слабой подпругой, дорогая моя? Или я мог бы сказать, что у тебя, Энтони, дамский комплекс. Или с сожалением вспомнить о твоей привычке крутить любовную катушку. – Он засиял от удовольствия.
– Напоминает китайскую грамоту, – сказала Полин с другого конца стола. Ее круглое спокойное лицо приняло веселое выражение; тройной подбородок затрясся, как желатин. – Твой отец думает, что он кошачья пижама. – Она протянула руку, взяла с серебряного подноса пару шоколадных пирожных и затолкала одно из них себе в рот. – Кошачья пижама, – невнятно повторила она и подавилась от нового приступа смеха.
Мистер Бивис, выработавший в себе необходимую степень надменности, нагнулся вперед и спросил Энтони интимным шепотом:
– Что бы ты делал, если бы чахоточная фрау имела несчастье задохнуться?
«Они оба душки», – подумала Диана и вышла из-за стола, ничего не сказав. Но как глупы они казались, как невыразимо глупы! Но все равно, у Энтони не было права критиковать их, а своей чрезмерной вежливостью он их критикует, негодяй. Она была возмущена. Никто не имел права на это, кроме нее и, может быть, ее сестры. Она попыталась подумать о том, как бы досадить Энтони, но он не подал ей удобного случая, да и у нее не было таланта к составлению эпиграмм. Ей пришлось довольствоваться молчанием и нахмуренными бровями. Вдобавок наступило время возвращаться в лабораторию.
– Мне нужно идти, – произнесла она в своей резкой отрывистой манере, поднялась из-за стола, и добавила, наклонившись, чтобы поцеловать мать: – Я категорически запрещаю вам есть эти сладости. Предписание врача.
– Ты не врач, моя дорогуша.
– Буду ровно через год.
Спокойным жестом Полин сунула в рот еще одно шоколадное пирожное.
– Вот через год я и прекращу есть сладкое, – проговорила она.
Энтони ушел несколькими минутами позже. Идя по улице, он поймал себя на том, что постоянно возвращается в мыслях к миссис Фокс. «Пережила удар, – думал он, – и, может быть, очень опасный. Наступил ли паралич?» Он был чрезвычайно обеспокоен тем, как не допустить того, чтобы отец говорил о ней и у Полин не было случая сказать свое слово. Он представлял, как она лежит беспомощная, полумертвая, и чувствовал ужас притом что наряду с печалью испытывал некое удовлетворение, странное облегчение. Потому что, в конце концов, она была главным свидетелем обвинения, человеком, способным принести роковое свидетельство против него. Мертва или всего лишь наполовину мертва, и ее уже нельзя будет призвать в суд, а при ее отсутствии дело против него будет прекращено. В глубине своей души он даже был рад известию, которое сообщила Полин. Рад, к невероятному своему стыду. Он пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом, и как раз кстати подошел автобус, на котором он быстро добрался до надежной гавани Лондонской библиотеки.
Он провел там около трех часов, просматривая материалы по истории анабаптистского движения, затем побрел к себе на квартиру в Блумсбери. В тот вечер он ожидал Глэдис к себе на ужин. Девушка последнее время чувствовала себя немного утомленной, но тем не менее… Он улыбнулся про себя в предвкушении удовольствия.
Они договорились, что она придет к шести, но пятнадцать минут седьмого ее еще не было. Не было и полседьмого, и в семь. В восемь часов он, глядя на синие конверты со штемпелем 1914 и 1915 года и адресом, выведенным почерком миссис Фокс, задумался над унылой дилеммой, появившейся после того, как прошли нетерпение и гнев: стоит ли открывать их. Он все еще предавался раздумьям, когда зазвонил телефон, и Марк Стейтс спросил его, не свободен ли он случайно вечером. В самый последний момент составилась вечеринка. Там будут Питли с женой, психолог, тот индийский политик, Сен и Элен Ледвидж… Энтони убрал письма обратно в ящик стола и поспешил из дома.
Глава 26
5 сентября 1933 г.
Был третий час. Энтони лежал на спине, уставясь в темноту. Сон не шел, словно его намеренно отгонял чуждый злой дух, поселившийся в теле Энтони. Снаружи в соснах цикады непрестанным стрекотом возвещали миру о своем существовании, и изредка пение петуха раздавалось из темноты, все громче и все ближе, пока все птицы в близлежащих садах не стали, принимая этот вызов, кричать как сумасшедшие. Затем ни с того ни с сего сперва одна, потом другая утихли, и весь ансамбль становился все тише и тише, удаляясь на расстояние, – вот этот крик летит над Францией, вообразил он, вслушавшись в удаляющиеся звуки, в резкую волну вороньего карканья. Может быть, они уже за сотни миль. И затем где-то эта волна повернет назад и покатится обратно так же быстро, как и пришла. Назад, может быть, с Северного моря, над полями битв, над пригородами Парижа и через леса от первой до последней птицы; затем по Беосским равнинам, по холмам Бургундии и, со стремительностью воздушного потока, по долине Роны, мимо Валанса, Оранжа и Авиньона, мимо Арля, через голые холмы Прованса, пока снова не окажутся здесь, час спустя после предыдущего всплеска, беспокойно и пронзительно нарушая громкий, непрекращающийся стрекот цикад.
Внезапно ему на ум пришел отрывок из «Человека, который умер» Лоренса, и, благодарный за повод прервать ненадолго тщетные попытки погрузиться в сон, он включил свет и спустился вниз, чтобы поискать книгу. Да, она была здесь. «Когда он отошел, закукарекал молодой петух. Это был сдавленный, истерзанный крик, но в голосе птицы было что-то, что было сильнее, чем печаль. Это была жажда жизни, воспевание ее триумфа. Человек, который умер, стоял и смотрел на петуха, который сбежал и был пойман, взъерошился, поднялся на лапы, закинул голову и открыл клюв в очередной битве между жизнью и смертью. Храбрец кричал, и его крики, словно становившиеся тише от шнура, схватившего птичью лапу, все же не умолкали. Человек, который умер, знал, что ему нечего терять, и видел отчаянное бесстрашие в трясущемся кровяном гребне, пенистые облака на небосклоне, черно-рыжего кочета и зеленые языки пламени, изрыгаемые ветвями фиговых деревьев. Эти весенние твари подошли ближе, горя от желания и уверенности. Они приблизились, как пламенные гребни, из синего потопа незримого желания, из огромного, невидимого моря силы и страсти, цветные, горячие, мимолетные и уже мертвые в момент своего прихода. Человек, который умер, пытался постигнуть суть неумерших вещей, но более не видел их трепетного желания быть и существовать. Вместо этого он слышал их звенящие, гремящие, вызывающие возгласы всем оставшимся живым существам…»
Энтони читал до тех пор, пока не закончил историю о человеке, который умер и снова вернулся к жизни, о человеке, который сам был спасшимся петухом; затем отложил в сторону книгу и снова лег в постель. Пена на волнах невидимого моря желания и силы. Но жизни, жизни как таковой, внутренне воспротивился он, было недостаточно. Как можно было довольствоваться безымянностью чистой энергии, чем-то меньшим, чем сила личности, ее мистическая божественность, которая, все еще бессознательная, была вне добра и зла? Цикады непрестанно стрекотали, и снова, около четырех часов, волна петушиного крика пронеслась по земле и покинула пределы слышимости, уйдя по направлению к Италии.
Жизнь неизбежно выдыхалась. Но в ней были образы, как он помнил, более яркие и впечатлявшие, чем кричащий петух или молодые листочки, проклевывавшиеся на зимних ветвях белого древесного скелета. Он вспомнил фильм об оплодотворении кроличьей яйцеклетки, который когда-то смотрел. Сперматозоиды на экранной плоскости отчаянно пробивали дорогу к своей цели – лунообразной сфере яйцеклетки. Бессчетные, стремящиеся со всех сторон, они бешено вибрировали своими хвостиками. И вот самые первые достигли цели и вгрызались в нее, бросались на наружную стенку живой материи, прорывали в сумасшедшей спешке целые клетки, отслаивающиеся и умирающие. И наконец один из захватчиков достиг глубины ядра, и акт оплодотворения свершился – пассивная сфера внезапно пришла в движение. После быстрого, сильного сокращения гладкая, округлая поверхность превратилась в складчатую и до определенной степени нечувствительную к другим живчикам, которые тщетно бросались на нее. И затем яйцеклетка начала разделяться, стенки ее стали изгибаться, пока не коснулись центра, и образовались две клетки вместо одной; потом, когда две клетки повторили этот же процесс, их стало четыре, затем восемь, затем шестнадцать. И внутри клеток зернышки протоплазмы находились в постоянном движении, как горох в варящемся супе, но движение их было самостоятельным, стимулировалось их собственной энергией.
По сравнению с этими крошечными кусочками живой материи кукарекающий петух, цикады, неумолчно заявлявшие о своем существовании, были всего лишь едва живыми. Жизнь под микроскопом казалась гораздо более оживленной и неудержимой, чем в макромире. Неукротимой. Ужасна была жуткая бессознательность этого непреодолимого, примитивного вожделения! И какой страх таился в игре этой иррациональной страсти, насильственного и безличного эгоизма! Невыносимого, пока думаешь об этом в понятиях сырой материи и имеющейся в наличии энергии.
Да, сырой материал и поток энергии. Внушительный по своему количеству и протяженности. Но качественно они представляли собой лишь относительную ценность: стали бы ценными, только переплавившись во что-либо другое, приспособленные служить какой-то скрытой цели. Для Лоренса животная цель казалась достаточной и удовлетворительной. Петух, кукареканье, борьба, случка – все это анонимно, и человек так же безличен, как и петух. Лучше такая бессознательная анонимность, считал он, чем жалкие отношения человеколюдей, наполовину подчиненные сознанию и все же лишь частично достигшие уровня цивилизации.
Но Лоренс никогда не глядел в микроскоп, никогда не видел биологическую энергию в ее примитивном, бесформенном состоянии. Он и не желал взглянуть, из принципа не принимал микроскопов, боясь того, что они могут разоблачить, и был прав в своем страхе. Те глубины за глубинами безымянности, неумолимо надвигающиеся, приводили его в ужас. Он настаивал на переработке сырого материала, но переработке только до определенной стадии и ни в коем случае не дальше, на том, чтобы энергия ползучей биомассы была пущена на относительно полезные цели и чтобы ее использование не пошло дальше животных. Произвольно и не рационалистично. На противоположный случай существовали и не игнорировались скрытые цели и институты. Двигаясь во времени и пространстве, человеческое существо неминуемо встречало их на своем пути, недвусмысленно присутствующих и реальных.
Мышление и жажда знаний – вот были цели, ради которых Энтони использовал энергию, которую наблюдал под микроскопом, которая вызывающе кричала петухом во тъме. Мысль как результат и знание как результат. И теперь внезапно стало ясно, что это были только средства – такой же несомненный сырой материал, как и сама жизнь. Сырой материал – и он предсказывал, он знал, что конечный продукт будет таким же, и частью своего существа он восставал против знания. И что же, засесть за превращение этого сырого жизненного, мыслительного, информационного материала в это – в его годы, при всем при том, что он цивилизованный человек! Сама мысль казалась смешной. Одно из тех абсурдных послехристианских похмелий – как страх его отца перед более неоспоримой существующей реальностью, все равно что исполнение гимна во славу рабочих во время всеобщей стачки. Мигрень, икота после опьянения религией вчерашнего дня. Но, с другой стороны, он понимал, что никогда не будет способен превратить этот сырой материал в конечный продукт, не знал, где и откуда начать. Он боялся предстать круглым дураком, человеком, не имеющим достаточно смелости, терпения, силы духа.
Где-то около семи, когда солнце за ставнями было уже высоко над горизонтом, он погрузился в тяжелый сон и, пробудившись три часа спустя, увидел Марка Стейтса, стоящего перед его кроватью и пристально смотрящего на него с улыбкой, – лицо напоминало занятную и любопытную горгулью, затянутую москитной сеткой.
– Марк? – в изумлении воскликнул он. – Какого лешего?…
– Свадебная! – произнес Марк, указывая на муслиновую фату. – Поистине première communion![165]165
Первое причащение (фр.).
[Закрыть] Я наблюдал за тобой, пока ты спал.
– Долго?
– О, не беспокойся, – сказал он, отвечая не на сказанный вслух, а на скрытый в недовольном тоне Энтони вопрос. – Ты не ходишь в гости во сне. Наоборот, сам приглашаешь гостей. Никогда не видел настолько невинный образ, чем ты в этой вуали. Как младенец Самуил[166]166
Самуил – герой Ветхого Завета, великий пророк, его рождение описывается как чудо. (Прим. перев. М. Ловина)
[Закрыть]. Совсем как ангел.
Вспомнив о том, как Элен употребила то же самое слово утром перед их разрывом, Энтони нахмурился. Затем, помолчав секунду, спросил:
– Зачем ты пришел?
– Чтобы посидеть с тобой.
– Я тебя не звал.
– Это ясно и так, – ответил Марк.
– Что это значит?
– Значит то, что ты обнаружишь это после самого события.
– Обнаружу что?
– То, что ты хотел моего появления. Сам не подозревая о своем желании.
– С чего ты взял?
Марк пододвинул стул и сел, перед тем как ответить.
– Я видел Элен той ночью, когда она вернулась в Лондон.
– В самом деле? – Голос Энтони был до предела блеклым и невыразительным. – Где? – докончил он.
– У Хью. Хью устраивал вечеринку. Там возникли кое-какие неудобные моменты.
– Почему?
– Ну, потому что она так хотела. Она была в странном настроении, видишь ли.
– И она объяснила тебе почему?
Марк кивнул.
– Она даже дала мне прочитать твое письмо. По крайней мере его начало. Я не стал читать целиком.
– Элен заставила тебя прочитать мое письмо?
– Вслух. Она настояла. Но ты понимаешь, она была в очень странном состоянии. – Повисла длинная пауза. – Вот из-за чего я пришел, – наконец добавил он.
– Думая, что я буду рад видеть тебя, – отпарировал Энтони ироничным тоном.
– Думая, что ты будешь рад видеть меня, – серьезно ответствовал Марк.
После очередной паузы Энтони произнес:
– Ну, может быть, ты не совсем уж не прав. Вообще, конечно, мне противен твой вид. – Он улыбнулся Марку. – Заметь, никаких переходов на личности. Мне был бы так же противен вид кого бы то ни было. Но, с другой стороны, я рад, что ты пришел. А это уже касается личности. Потому что ты, похоже, имеешь кое-какое представление о том, что к чему, – заключил он с уклончивой расплывчатостью. – Если есть кто-нибудь, кто может… – Он хотел сказать «помочь», но мысль о том, чтобы ему оказывали помощь, казалась столь отпугивающей для него, гротескно ассоциировалась с хорошо подобранными словами приходского священника после смерти главы семейства, с откровенным, дружеским разговором домовладельца об искушениях пола, что он в неудобстве осекся. – Если кто-либо и в состоянии разумно рассуждать на эту тему, – продолжал он на другом выразительном уровне, – так это, я думаю, ты.
Марк кивнул, не говоря ни слова, и подумал: как свойственно было этому человеку говорить о разумных рассуждениях – даже сейчас!
– У меня возникло чувство, – продолжал Энтони медленно, преодолевая внутренние трудности перед тем, как сказать, – чувство, что я смогу пережить это и все уладить. На другой основе, – вымолвил он словно под пыткой. – Настоящая… – он покачал головой, – я немного устал от нее. – Затем, осознав с чувством стыда нелепость, неуместность и, хуже, чем нелепость, – фальшивость недоговоренности, уверенно закончил: – …Не пойдет. Это основа, которая не может вынести больше, чем вес призрака. И чтобы воспользоваться ею, я сам превращусь в призрака. – После паузы он так же медленно продолжал: – Последние несколько дней у меня странное чувство, что я нахожусь не там, где был все эти годы. С тех пор… я даже не знаю когда. Видимо, с предвоенного времени. – Он никак не мог собраться и заговорить о Брайане. – Не там, – повторил он.
– Огромное количество людей находятся «не там», – сказал Марк. – По крайней мере не как люди. Только лишь как животные и биологические функции.
– Животные и биологические функции, – повторил Энтони. – Точно сказано. Но в большинстве случаев у них нет выбора. Небытие навязано им силой обстоятельств. В то время как я имел свободу выбирать – по крайней мере так же, как и все вольны выбирать. Если я нахожусь не там, в этом есть смысл.
– И ты хочешь сказать, что только что обнаружил тот факт, что никогда там не был?
Энтони покачал головой.
– Нет, нет, я, конечно же, знал это. Все время. Но в теории. Так же, как любой знает… ну, например, что есть птицы, которые живут в симбиозе с осами. Любопытный и интересный факт, но не более того. Я не допустил бы большего. И затем имел бы оправдания. Работа: слишком богатая личная жизнь мешает мне работать. И необходимость в свободе: свободе мыслить, свободе утолять страсть познания мира. И в свободе самой по себе. Я захотел быть свободным, потому что было невыносимо им не быть.
– Я могу это понять, – сказал Марк, – при условии, если есть кто-то, кто доволен этой свободой. И при том условии, – продолжал он, – что кто-то осознает свою свободу путем преодоления препятствий на пути к ней. Но как ты можешь быть свободным, если «тебя» нет?
– Я всегда строил обратный силлогизм – как ты можешь быть свободным, или, скорее (поскольку необходимо мыслить об этом в отрыве от конкретных личностей), как может существовать свобода, если «ты» продолжает существовать? «Ты» должно быть состоятельно и ответственно, должно делать выбор и быть ему верным. Но если человек освобождается от себя, он освобождается от ответственности и нужды в состоятельности. Человек свободен как ряд безусловных, несвязанных состояний без прошедшего и будущего, за исключением тех случаев, когда нельзя намеренно избавиться от воспоминаний и предчувствий.
Секунду спустя он выругался.
– Шаткий идиотизм старого Сократа! Он воображал, что человеку только и оставалось знать, что правильную линию поведения и то, как ей следовать. Человек практически всегда ее знает – и чаще всего не следует ей. Или, может быть, тебе это не понравится, – добавил он другим тоном, смотря на Марка сквозь москитную сеть. – Людям свойственно приписывать другим свои недостатки. В моем случае слабость. Не говоря уже о робости, – прибавил он со смехом, автоматическим, настолько глубоко укоренившейся была привычка наполовину отступать, что выражалось в самой природе личной уверенности в том, что слушатель сомневается в серьезности его намерений во время разговора. Он снова рассмеялся, словно все это было нелепицей, недостойной, чтобы о ней говорили. – Почему-то забыли, что люди могут оказаться разными. С тугим умом и толстым кошельком. Осмелюсь также утверждать, что все, что ты делаешь, ты считаешь правильным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































